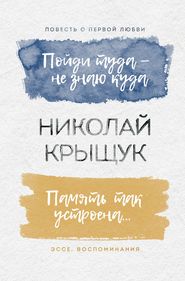скачать книгу бесплатно
– Это они дураки, – сказала Саша.
Не выпуская из рук букета, девочка зашлась в плаче. Ее крысиное личико было неприятно. Белесые брови покраснели. Рот в плаче открылся безобразно, как в зевоте или на непомерно большое яблоко. Андрею хотелось отвернуться.
– Ну что ты, глупенькая, – сказала Саша, трогая девочку за плечо…
– Они – (всхлип) – убежали…
– Ты же сама хотела их прогнать, правда?
– Ну и что же… – со страшным ревом послышалось в ответ.
– Хочешь, погоняй нас, – предложила Саша.
Не успели они опомниться, как девочка моментальным движением ударила Сашу крапивой по ногам. Потом еще и еще раз. Била она со злостью, тут уже не могло быть и речи об игре.
Саша не тронулась с места. Она на мгновение обернулась к Андрею, как бы прося у него защиты и объяснения, но тут же снова со страданием в глазах посмотрела на девочку.
Нет, ноги ее почти не чувствовали боли. И не коварная беспричинная злость девочки вызывала в ней страдание, но стоящая, быть может, за той злостью беда. Саша смотрела на маленькую обидчицу, на ее испуганное и одновременно торжествующее лицо и чувствовала, что не может ее любить. Она попыталась сделать над собой усилие и улыбнуться. Но и это ей не удалось.
Саша была поражена этой открывшейся ей вдруг неспособностью любить и быть доброй. Словно ее обокрали, словно она давно уже жила с этой пропажей и не подозревала о ней, и поэтому только, то есть по недоразумению и глупости, могла быть счастливой и уверенной в своем счастье. Невозможность, неправильность ее счастья представились ей сейчас так ясно, что она не могла вымолвить ни слова.
Вспомнив, наконец, о грядущем возмездии, девочка показала язык и убежала.
Они молча пошли в дом.
Андрей старался не думать о случившемся. Он чувствовал сейчас острое недовольство оттого, что почти месяц провел в безделье, и удивлялся, как, ничего не делая, мог все это время быть доволен собой и думать, что живет полной жизнью. Испытывал он досаду и от Саши – зачем она непременно хотела быть доброй? Даже хорошо, что ее порыв наткнулся на букет крапивы.
Впервые за эти дни молчание Саши тяготило Андрея.
– Ну, вот и подлечились от ревматизма, – попытался он пошутить и увидел, что Саша плачет.
Не зажигая света, Андрей разобрал постель. Вскоре пришла Саша и легла рядом, откинувшись на свою подушку. То, что лица Саши не было видно в темноте, как будто его еще можно было придумать, и то, что от него доходил единственный определенный запах земляничного мыла, вызвало в нем одновременно ощущение доступности и загадочности. Он думал о том, что лица Саши он уже не может выбрать или придумать, что оно выбрано раз и навсегда, и все же чего-то боялся (что рядом с ним может оказаться не она, что ли, если включить свет?).
Андрей засыпал. Кажется, ему еще хотелось быть пионером, жить в общей палатке где-нибудь в «Артеке», волноваться только о том, что неделю не писал домой, любить какую-нибудь девчонку или даже двух, и хотя бы одну из них безнадежно, думать, как о неприятности, что завтра утром погонят на зарядку и в море, и какая будет в море холодная и зеленая вода. Ему хотелось исчезнуть в это беззаботное пространство, но боязнь, что, если включить свет, рядом с ним окажется не Саша, не давала ему свободы перелета и тянула назад. Он знал в то же время, что сегодняшняя тревога и разброд пройдут, и завтра им снова будет хорошо с Сашей, как всегда.
Действительно, наутро, проснувшись раньше обычного, он увидел Сашино напряженное во сне, как бы летящее к нему лицо и улыбнулся.
ЧУВСТВО ЮМОРА В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ – все равно что дневной свет. При нем пугающие фантомы тьмы превращаются в плащ на гвозде, в мокрый куст шиповника, в шину от «Кировца» или в какой-либо иной понятный предмет. Щелкнуть бы ту девчонку по носу да пригрозить тем самым пушистым пучком – то-то бы она вмиг очеловечилась, стала бы понятной и ничуть не страшной.
Девочка, кстати, была милая. И новую погоню за нами приняла взахлеб, как бы щадяще опаздывая с ударами. Но скоро мы, как и наши предшественники, утомились. Утомились быть добрыми и скрывать под веселым потаканием чужому одиночеству нашу разгоревшуюся к вечеру тягу друг к другу.
Однако вечер этого дня прошел обыкновенно. Разве чуть больше подначивали мы друг друга и упражнялись в остроумии. Потому что на душе было все же немного скверно. Это правда.
ПРИЗНАВШИСЬ ТАРАБЛИНУ, что его состоянию свойственно всякое отсутствие желаний и мыслей, Андрей был не совсем прав. В Тарусе он много думал о своих родителях, в частности, об отце, которого почти не знал. Неизвестно почему мысли эти приходили к нему во всякую свободную от Саши минуту, и даже с ней он никогда о них не говорил.
Что-то, казалось ему, жизненно важное и необходимое для будущего было в этих возвратах в прошлое, но он сам пока не мог понять что. Он пытался уловить некую ритмическую закономерность, осмысленное воссоединение чьих-то устремлений и воль, которые теперь расцвели в нем ослепительным счастьем.
Но этой-то осмысленности, он, как ни старался, не мог обнаружить в прошлом.
Отец его был из тех бедняков, в ком голод физический стимулировал голод духовный. Впрочем, последнюю формулу можно сузить до выражения «воля к знаниям», да и не в таком, может быть, совсем уж чистом виде, а воля к знаниям как форма утверждения себя в новой жизни.
Тут важны не столько способности и сила характера, сколько социальное чутье, которое в такой же степени дар и талант, как, к примеру, темперамент, музыкальные способности и все прочее.
В детстве за зиму вынужденного сидения на печи без обутки изучил он самостоятельно программу семилетней школы, сдал экзамены в районном ШСМ и устроился на курсы бухгалтеров, параллельно обучая в ликбезе неграмотных. После нескольких месяцев работы в кооперации внимание его привлекло объявление об открытии шестимесячных учительских курсов. Молодой бухгалтер оказывается на этих курсах и вот уже в свои неполные восемнадцать лет возвращается учителем в соседнее с родным село, откуда недавно ушел босым.
В городе, кстати, Григорий познакомился и со своей будущей женой – Пашей. Ее, уехавшую из деревни то ли за новыми впечатлениями, то ли от каких-то неприятных воспоминаний, судьба привела в качестве официантки в ту столовую, где обычно обедал отец, и даже в один из дней аккуратно подвела к его столику.
В этом месте сюжета Андрей останавливался. По всем романтическим канонам здесь должна была таиться первая разгадка. Но его воображению представлялся только заурядный случай: скучающий в чужом городе молодой бухгалтер и скучающая симпатичная официантка.
Если и усматривал он в этой встрече что-то более значительное, если и трогала она его невольно, то лишь потому, что далеким следствием этого эпизода было его собственное рождение. Но, говоря честно, это выглядело чуть ли не подтасовкой. Ведь выходило, что он сам из своего настоящего подавал руку помощи прошлому, а ему хотелось, чтобы было наоборот.
В селе к моменту возвращения отца уже образован колхоз. Конюшня, в которой он чистил кулацких лошадей, превращена в школу. В ней занимаются одновременно четыре класса. У него шестьдесят учеников.
Положение у отца уже не то, что год назад. По первым ступенькам лестницы он, можно сказать, пробежал на одном дыхании и даже не заметил, как отрастил лихие усы, как с махорки перешел на папиросы. К старому учителю, бывшему дьячку, уже обращался на «ты».
Односельчане быстро поняли, что недолго осталось Григорию учительствовать. Не полной ногой ступает человек на землю. Хозяйством не обзаводится. Задумывается часто.
В этом месте Андрей делал вторую остановку. Хотелось ему проникнуть в мысли отца. Он понимал, что занятие это бессмысленное, но от этого становился еще упорнее.
О чем тогда думал отец? Была ли ему помощью любовь мамы? Или не было любви, и он это чувствовал, и от этого страшно было пускаться в новую жизнь?
Дальше все складывалось у отца правильно и успешно, но его, Андрея, детские впечатления никак с этим успехом не совпадали.
Через некоторое время после того, как стал он учительствовать, вызвали Григория в военкомат и предложили ехать в Ленинград – поступать в военное училище, – жизнь сама шла ему навстречу. Из училища он вышел лейтенантом связи. Попал на финскую.
Окончилась финская. Никто не знал еще тогда, что это передышка. Вызвал отца к себе начальник отдела кадров при штабе дивизии Петр Петрович Плеханов («Пэ в кубе»). Сказал, чтобы срочно отправлялся он в Петропавловскую крепость, где в это время организовались Курсы усовершенствования комсостава (КУК). После КУКа вышел он командиром учебного радиовзвода. Вскоре после этого и Паша окончательно перебралась в Ленинград. Потом война. Уже утром отец был в Песочной, где формировалась их часть, а мать осталась одна в незнакомом городе с маленькой дочкой на руках.
Так, собственно говоря, и решилось, что Андрею суждено было стать ленинградцем. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
После войны отец еще некоторое время работал в училище, но выше майора так и не поднялся. Армии нужны были уже новые офицерские кадры, отец же не стал поступать в академию и вскоре демобилизовался.
После демобилизации устроился работать шофером на «Катушке». Было это уже в году пятьдесят четвертом. Андрей, которому было тогда семь лет, помнил его в эту пору.
Нельзя сказать, чтобы смену кителя на ватник отец воспринял легко. Его прямая спина и манера при ходьбе ставить ноги носками в стороны, оставшаяся со времени недолгой службы в кавалерии, выказывали нежелание смешиваться с гражданским людом. Однако гордая эта осанка почему-то вызывала в Андрее жалость к отцу. Может быть, потому, что во время ходьбы отец размахивал руками и разговаривал сам с собой. А через год-два и плечи его осели, и походка стала обыкновенной, разве ноги чуть пришаркивали, как в полонезе, да голова, точно у гоголька, всегда была запрокинута.
Уж работая на «Катушке», отец устроил в сарае мастерскую. По собственным чертежам сделал верстак и некоторые инструменты. Особенно гордился фуганком, выклеенным из бука и груши. Вечерами в этой мастерской он делал себе и соседям нехитрую мебель.
В сарае с отцом Андрей мог просиживать часами, смотреть, как масляно из рубанка выползают желтые стружки, дышать спиртовым запахом древесины. Иногда он помогал отцу подгонять шипы или помешивал клей.
За работой отец был разговорчив. Андрей заметил, что неуловимым ходом любую историю подводит он к тому, что все на земле совершается по какому-то никем до конца не узнанному закону справедливости, и содеянное зло рано или поздно возвращается к человеку и обращается против него, а самоотверженность и доброта, напротив, неизменно воздаются ответной добротой и любовью. Андрей даже придумал игру: в середине истории мысленно забегал вперед, пытаясь предугадать, каким образом на этот раз отец приведет ее к мирному финалу.
Про себя он немного посмеивался над этой тайной слабостью отца, но всякий раз, когда история заканчивалась, Андрею становилось хорошо и покойно, казалось, и у него тоже есть невидимый защитник, который знает, как он внутри добр и сколько умеет чувствовать, и в решительный момент он не оставит его. В такие минуты он особенно любил отца и отец казался ему самым надежным человеком в мире.
Чаще других отец рассказывал историю об английском инженере Брайане Гровере, который, полюбив русскую девушку Елену, приобрел за 173 фунта стерлингов подержанную авиетку, отремонтировал ее и в ноябре 1938 года через Амстердам, Бремен, Гамбург и Стокгольм незаконно прилетел в Советский Союз.
В первой части рассказа отец вскользь лишь говорил о любви Гровера, всячески подчеркивая, как рискован был перелет на маломощной авиетке через Балтийское море и как опасно совершенное Гровером преступление, карающееся по статье 59-3д Уголовного кодекса РСФСР. На этом драматическом фоне необыкновенно выигрывал счастливый финал. Ради него-то он и старался.
Суд признал Гровера виновным в незаконном пересечении советской границы, но, учитывая все обстоятельства, приговорил его к месяцу тюремного заключения, которое было заменено штрафом. Об этом решении отец сообщал торжественно и строго, как бы подражая голосу судии.
На Андрея эта история производила сильное впечатление.
Отец не знал, как сложилась дальнейшая судьба Брайана Гровера и Елены, и благодаря этому их история превращалась в своеобразный миф с вечно меняющимся и бесконечно длящимся счастливым завершением.
Кроме этой истории, Андрею запомнилась еще одна, но та уже скорее по чувству недоумения и досады, которые она вызывала.
– Дед твой до революции был сугубо верующим, – рассказывал отец. – Являлся даже церковным старостой и один только имел доступ в алтарь. А уж посты как соблюдал, как молился!.. Каждое воскресенье с утра – в церковь всей семьей. Так вот.
Новая стружка вкусно вывалилась из рубанка, отец вынул ее аккуратно, как аптекарь, и продолжал.
– И вот однажды заболела у него лошадь. Бились над ней много. Выводил ее отец в далекие луга, думал, сама она себе найдет нужную лечебную траву. И травяным отваром поил, и знахарки над ней шебаршились – подыхает лошадь. А что было остаться крестьянину без лошади – смерть. Сена уже не привезешь. Вот тогда отец и сказал: «Верую только в Господа. А если в таком не поможет мне, значит, и нет его». И ушел на всю ночь молиться в церковь. Лошадь же к тому времени уже и стоять не могла.
Отставив в сторону рубанок, отец вынул из-за уха папиросу, закурил и на минуту замолчал. А Андрей по своей привычке уже обряжал историю в новые подробности.
Дед, не дав никаких приказаний, скорым шагом ушел в церковь. Потом Андрей представил деда в темной церкви с красными шевелящимися огоньками лампад и выступающими из темноты ликами святых. Такую ночную церковь видел он недавно в кино. Шепот дедовской молитвы звучал прерывисто, как звук далекой пилы. Страх, который Андрей испытывал сейчас вместо деда, казался ему достаточной платой за выздоровление лошади. Он начинал торопить счастливый конец. Серым осенним утром дед возвращался домой и находил лошадь здоровой.
– Ну и вот, – продолжал отец, – возвратился дед из церкви, а лошадь уже околеть успела. Как он закричал тогда. Даже плакал. И с тех пор стал самым ярым в деревне атеистом.
Так-то. Как бог с лошадью, так и отец с ним. Все по честности.
«Да как же по честности-то?!» – хотелось крикнуть Андрею в ответ. Разве не понятно – все в этой истории виноваты – и Бог, и дед, и лошадь. А может быть, прибавлял он тут же, не виноват никто.
Ему стало жалко отца, и он испугался этой своей жалости.
Вечером отец пил в саду с доминошниками. Еще месяц-два назад он бы не позволил себе этого.
Они вышли с матерью звать его домой.
Ночь была весенняя, лунная. Камни и земля стянулись голубоватым сухим ледком, который потрескивал под ногами.
Голос отца они услышали издалека, а вскоре увидели и его. Он поднимал камешки с земли и, неестественно отклонившись, словно подставив дождю лицо, с присвистом кидал их в небо, приговаривая:
– А, чтоб они там сдохли.
И Андрей вдруг понял, что отец давно уже не верит в счастливые концы своих историй. И такую тоску почувствовал он, что тихо заплакал.
Осенью этого же года отцовская полуторка, которую в холода он отапливал катушками, столкнулась с самосвалом. От ран и ожогов отец умер к вечеру.
Когда боль и чувство утраты стали притупляться, вдруг проступило скрытое до этого чувство обиды на отца, как будто своей гибелью он их с матерью невольно предал. Быть может, это и создало в нем ту брешь, в которую утекало по капле его недолгое счастье.
ЭКЗАМЕНЫ В УНИВЕРСИТЕТ САША УСПЕШНО ПРОВАЛИЛА. Закусила губу перед доской со списками, в которых ее не было, постояла с минуту, словно приучаясь жить с новой обидой, и они пошли вместе пить кофе.
– Ты как? – спросила она его, и этот участливый тон потерпевшей тронул Андрея своей боевитой беззащитностью.
– Я – ничего, – ответил он бодро.
– Вот-вот, – сказала Сашенька и замолчала. Потом добавила: – Я буду, стало быть, вечной лаборанткой, а ты моим лаборантом.
Андрей взглянул на нее вопросительно.
– Ну как генерал и генеральша, – пояснила Саша.
– Это ты так дерзишь? – с усмешкой спросил Андрей. – А все-таки, может быть, лучше станешь профессоршей?
– Нет уж! – засмеялась Сашенька.
До чего нравилась ему эта ее привычка смеяться сквозь слезы.
– Как скажешь, – миролюбиво ответил он, словно признавая ее пожизненное лидерство.
Так у них, кстати, и повелось. Во всем, что касалось, так сказать, высших сфер жизни, он был для нее непререкаемым авторитетом. Но по житейскому асфальту его вела она, и тут уж он был покорен как мул. Пытаясь иногда в шутку утвердить свое суждение о каком-нибудь фильме или книге, он говорил:
– Женщина, посмотри, – кто ты и кто я?
Сашенька же в подобной ситуации, настаивая на голубой рубашке или выкидывая в ведро немодный синтетический галстук, спрашивала, подражая ребенку:
– Кто у нас главнее?
Эта игра в семейный паритет нравилась обоим.
Сашина знакомая, уехавшая на два года в Венгрию, оставила им свою комнату, и уже в августе они стали соседями одинокой тридцатилетней пианистки и полноправными хранителями полированной мебели, хрусталя, четырех разномастных кактусов, долговязой герани и милого их сердцу «мокрого Ваньки».
Они перетащили в ленинградскую осень всю свою летнюю ненасытимость друг другом, чайную бесконечность вечеров и беспечность прогулок. Им нравилось заблудиться в очередном незнакомом парке и наедине с птицами коротать любовь.
«Все еще лето, правда? Лето, все еще лето…» – шептала Сашенька и прикрывала ему ладонью глаза, словно бы помогая продлиться иллюзии. А ему вдруг становилось грустно от ее слов, он делал над собой едва заметное усилие, но от этого становилось еще грустнее. Что-то в этом родном и понятном шепоте чудилось ему фальшивое. Даже не в нем, нет, и не в Саше, разумеется. А может быть, в том, что кто-то выдумал времена года. И они волей-неволей должны были с этой выдумкой считаться или же наслаивать на нее собственную выдумку, что, конечно же, было не лучше. Все в нем сопротивлялось тогда и Саше, и облетающим деревьям, и необходимости вставать и идти куда-то, покупать билеты, открывать двери. Даже вот эту любовь в парке хотелось вспоминать – жить ею не хватало сил. Хотелось исчезнуть, но так, чтобы остаться навсегда. А от этой жизни в подарок – Сашу. Да, в подарок…
Он видел Сашин взгляд – прожигающий воздух. То страсть смотрела глазами женщины. Новый порыв возникал в нем, но тут же и отступал. Это уже была не сама страсть – племянница ее, троюродная, быть может, сестра. Не страсть, да, нежность к сестре.
После долгого молчания, зная наперед, что слова его будут и неуместны и грубы, но как будто по принуждению живущего в нем педанта он сказал:
– Лето. Конечно. Только – бабье.
– Тебе нравится осень? – спросила вдруг Саша, словно поймав его на неопровержимой и постыдной улике. В голосе ее послышалась та резкая вибрация смеха, которая выдавала невидимые слезы.
– Да, – сказал он. – Я люблю осень. Октябрь люблю. Ноябрь.
Между тем и бабье лето проходило. О нем напоминал теперь лишь праздничный сор листьев на аллеях. Не успели они заклеить окно, как наступили зимние холода. Но паровое еще долго не включали.
Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ГОРОДЕ. Зимнее бульканье голубей на чердаках такой же для меня родной звук, как для сельского жителя писк полевой мыши. Должно быть, в этих кварталах затерялась, говоря высокопарно, моя душа.
Но иногда мне кажется, что не там ищу и не отсюда родом тайна моей жизни. Словно, родившись в городе, я был пущен по ложному следу. И только иногда во сне…
Во сне я вижу один и тот же тонкоствольный лес, насыщенный запахом разлагающейся листвы. Нет в нем ни мхов, ни трав, только редкие островки заячьей капусты да тончайшего творения цветы на сухих стеблях. И только упругий влажный коричневый ковер и коричневая узорная трепещущая тень вокруг, не тень – среда изначального обитания, из которой когда-то я ушел динозавром в город моего детства – умирать.
Сон осуществляет долгожданное возвращение.
С горы стекает узкая речка. Я перехожу через нее. Тропинка выводит меня на высокий холм. Сейчас я взберусь на него, упаду в траву и стану ждать.
Здесь другой мир. По стеблю оранжевой пупавки ползет прозрачно-зеленая тля. Ромашки и васильки покачиваются, словно в хороводе, высоко над моей головой. Там же игрушечными коньками перелетают подтянутые кузнечики. Рука нащупывает зрелую землянику. Сейчас на этом холме со мной должно произойти что-то необыкновенное. Вернее, уже произошло когда-то. Я знаю это, но не могу вспомнить – что.