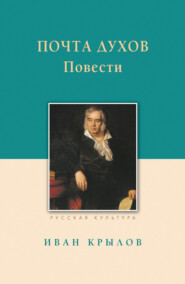скачать книгу бесплатно
«Какой вздор! – отвечала мне маска, – я хочу только иметь деньги: тетка моя хотя очень скупа, но, верно, за выкуп свой и любезного егеря заплатит хорошие деньги, которые я, разделя с Надзором, смотрителем здешней благопристойности, – получу верный способ блеснуть хорошими нарядами или видеть в новом экипаже мою любезную Антилукрецию». После сего он скрылся и оставил меня удивляться пронырству своего ума и слабости его тетушки.
Позадумавшись несколько, пошел я вперед, как вдруг ударился лоб об лоб с отчаянным человеком, который, сорвав с себя маску, бегал по комнатам, как бешеный.
«Государь мой! – сказал я, – мне думается, что в таких пространных залах можно ходить, не стучась лбами; в противном случае это собрание может только быть выгодно одним рогатым лбам».
«Ах, сударь, – отвечал мне сей господин, – извините мой проступок; отчаяние мое причиною сей неосторожности: я обманут самым гнусным образом».
«Как, – сказал я, – в здешнем благородном обществе могут быть обманщики…»
«Ах, я вижу, – вскричал он, – что и вы человек новоприезжий! Признаюсь, что я сам был лучшего мнения о сих собраниях, пока несчастным опытом не узнал своей ошибки. Отец мой был богатый дворянин, он недавно умер, а я со всеми его деньгами приехал сюда из отдаленного города, чтоб вступить в службу. Игра, пагубная страсть молодых людей, не умедлила овладеть мною; я вошел в число бродяг, которые, гоняясь за счастием, лишаются пропитания. Несколько раз испытав несчастие проигрыша, наконец собрав последние свои деньги и приехавши в сей проклятый дом, сделал банк в макао; незнакомая маска села подле меня и просила принять ее в десятую долю; видя деньги, тысячу рублев, я согласился сделать это удовольствие и начал метать карты; множество незнакомых людей зачали понтировать, но я приметил, что многие брали у меня деньги, не ставя карт, а другие сдергивали свои карты, когда они проигрывали, и скрывались в толпе людей. Раздраженный таким гнусным обманом, бросил я карты и хотел рассчитаться с моим товарищем, который записывал мой проигрыш и выигрыш, как вдруг увидел, что ни денег, ни его со мною нет. Вообразите мое удивление и горесть, быв не только что обокраден, но и лишен надежды узнать и наказать этого бездельника».
«Я сердечно сожалею о вашем несчастии, – отвечал я, – и дивлюсь, что в подобные общества пускаются такие плуты; я до сих пор думал, что ворами опасны только большие дороги».
«Ах, государь мой! – вскричал сей несчастный игрок, – благодаря правительству сии бездельники все согнаны с больших дорог, но, по несчастию, они умножились в городах, и города ныне гораздо опаснее, нежели большие дороги». – После чего пошел он от меня, продолжая свои восклицания.
«Вот сколь прекрасны сии собрания, – думал я сам в себе, – которые столь торжественно выхвалял мне Припрыжкин и кои способствуют только обманывать мужей, грабить ближнего и делать дурачества!» Скажи мне на сие, любезный Маликульмульк, не справедливы ли давишние мои замечания, по коим можно видеть, что люди для того единственно выдумали сии собрания, чтоб, ходя под гнусными личинами, удобнее могли производить без зазрения совести безумное свое своеволие; и что сии маскарады есть картина света, представленная в малом виде; но если ты захочешь сравнить оную с ее подлинником, то оная не иначе почесться может, как слабым списком… Но закроем сие завесою. – Я скажу тебе, однакож, что сколь веселие, радость и свобода ни кажутся душой таковых собраний, но я твердое положил намерение никогда вперед не заглядывать в такие места. Вскоре потом встретился мне Припрыжкин, и мы с ним выехали из маскарада.
«Сии-то собрания, – сказал я ему тогда, – так тебе нравятся!..»
«Ах, нет! – вскричал он. – Я сегодня очень худо награжден».
«Как, и ты недоволен? – перехватил я речь его. – Но что ж этому причиною?»
«Представь мое несчастие, – сказал он, – посредством давишнего парикмахера назначено мне было от одной прекрасной девушки здесь свидание, чему я охотно поверил, зная, что ничего нет легче в здешних маскарадах, как дочке отвязаться от матушки, которая часто сама только того и метит, чтоб увернуться от дочки; приехавши сюда, увидел я мою красавицу, ходящую уже одное в белом капуцине; я с нежностию схватил и пожал ее руку, она мне отвечала тем же, и это был наш условный знак; при таком взаимном согласии нам скучными показались все залы, и мы шли в уединение; наконец вошли в отдаленную комнату, но, опасаясь, чтоб кто не подслушал наших речей, я делал ей любовные изъяснения пантомимами, и мы до тех пор оные продолжали, как наконец вынуждена она была сбросить маску. Но в какое пришел я удивление, когда вместо воображаемой красавицы увидел старую мумию лет во сто; с досадою и страхом бросился я от нее, как от мертвеца, и тысячу раз проклиная ее, жалел, что потерял с старою хрычовкою то время, которое назначено было для прелестной молодой особы. – Вот чем только не нравятся мне сии проклятые маскарады!»
«Но неужели женщинам они приятны?» – сказал я.
«О! это совсем другое, – ответствовал Припрыжкин, – женщина может весьма великодушно снести несколько таких ошибок, но молодой щеголь не всегда с успехом может загладить такую погрешность».
Вот тебе, любезный Маликульмульк, краткое начертание предметов, попавшихся мне на глаза, и я надеюсь вскоре еще уведомить тебя о новых людских дурачествах.
Письмо X
От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку
До сих пор я всегда удивлялся мнениям тех философов, которые душу человеческую уподобляли жизненным силам скотов, но я не знаю, любезный Маликульмульк, случалось ли тебе видать смешные поступки тех господчиков, которых в свете называют людьми, любви достойными, веселыми и знающими светское обращение; взирая на них, ты сам мог бы иметь справедливую причину почесть их в равной степени с обезьянами; и я удивляюсь, что те философы для лучшего убеждения в своих мнениях не объяснили, что они говорили то, сравнивая петиметра с обезьяною; ибо надлежит признаться, что, взирая на петиметра и на обезьяну, можно подумать, что или душа обезьяны духовна, или душа петиметра вещественна, потому что, по примечанию моему, обе сии души имеют одинакие между собою свойства, одинакие движения и одинакие страсти, а посему должны иметь и одинакую сущность и быть равно или вещественны, или духовны. Итак, ежели полагать, что душа петиметра есть духовна, то надобно думать, что и душа обезьяны есть такова же.
После сего первого предложения остается теперь доказать сходственность мыслей, чувств и склонностей между обезьяною и петиметром: и нет ничего легче, как сделать сие доказательство. Я поставлю себя на одну минуту на место философа, утверждающего сие мнение.
«Не правда ли, – вопрошаю я, – что не должно и не можно иначе судить о естестве души, как по видимым в ней действиям и движениям, ибо существенность ее не может быть видима никакими глазами. Итак, посмотрим, какие суть действия и движения души петиметра? – Она, управляя телом, в котором имеет свое пребывание, иногда заставляет его свистать, иногда понуждает его танцевать, прыгать, скакать, вертеться, и все сие заставляет делать без всякой побудительной причины и столь поспешно, что всякий может приметить, что разум и рассудок нимало не вмешивается в сии прыжки и обороты. Подобно сему я вижу и обезьян скачущих, прыгающих и вертящихся, и когда рассматриваю внимательно все сии их движения, то нахожу точное подобие разных кривляний и прыжков молодого вертопраха, находящегося среди женщин».
Но поступим далее с сим точным и справедливым сравнением. Когда обезьяна смотрится в зеркало, тогда, прельщаясь собою, удвоивает она смешные свои коверкания, оказывает всю свою легкость в вертении и прыганий, ворчит сквозь зубы нечто совсем невразумительное, чего бы и подобная ей другая обезьяна никак не могла понять. Петиметр точно так же, взирая на себя в большое стенное зеркало, представляет те же самые движения и обороты; он всего вокруг себя осматривает, множество раз на все стороны повертывается, поднимает и опускает голову, коверкается, кривляется, ломается; говорит не имеющие смысла некоторые невразумительные слова, которые никому другому не могут быть понятны, как разве такому ж петиметру; ибо он говорит о прическе своих волос, о курчавости своего вержета, о размере своих буклей, о ленточном бантике и о прочем подобном сему вздоре. Итак, в ком можно найти столь совершеннейшее сходство?
Обезьяна обыкновенно бывает непостоянна, изменчива и злобна; она кусает и раздирает платья на тех людях, кои, засмотревшись на ее скачки и кривлянья, по неосторожности подходят к ней очень близко. Петиметр делает точно то же; забавные и увеселительные зрелища, которые он смешными своими кривляньями представляет другим людям, покупаются от оных весьма дорогою ценою, ибо, вышед из дома, в котором оказывал он все свое искусство в модных прыжках и оборотах, повреждает он честь тех людей, коих он видел, и злословит хозяина и хозяйку того дома, – словом ничто не может укрыться от его ядовитого языка, который, если не больше, то по крайней мере столько же может быть опасен, сколько и зубы самой злейшей обезьяны.
После столь ясного сравнения в чувствах, в поступках и в склонностях, не можно ли по справедливости заключить, что души обезьяны и петиметра суть одинакой сущности? – Признаться, мудрый и ученый Маликульмульк, что я почти убежден сим мнением. Я знаю, что в оном встречается превеликое затруднение, ибо, следуя оному, надлежит признать душу петиметра вещественною, потому что душу обезьяны никак не можно почесть духовною. Итак, взирая на таковые странные и смешные поступки петиметров, не иначе можно их почитать, как совершенными ветряными мельницами или часами, заведенными глупостию и вертопрашеством. Наконец нет ничего легче, как доказать самыми истинными опытами, что душа разумного и постоянного человека совсем другого свойства, нежели как душа петиметра, ибо известно тебе, мудрый Маликульмульк, что не можно полагать нималого сходства между душою такого философа, каков был Эйлер, и между душою обезьяны, заключенной в теле модного вертопраха.
Письмо XI
От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку
На сих днях, любезный Маликульмульк, я был с моим сотоварищем у одного богатого купца, который праздновал свои именины; ты, может быть, удивишься, что столь знатный в своем роде человек, каков мой приятель, удостоил своим посещением торговца, но это удивление уменьшится, когда ты узнаешь, что он должен имениннику по векселям шестьдесят тысяч рублев и для того часто пляшет по его дудке. Здешние заимодатели, имеющие знатных должников, имеют по большей части то одно утешение, что пользуются вольностию напиваться иногда с ними допьяна и вместо платежа денег получают от них учтивые поклоны и уверения о непременном их покровительстве.
Именинник, как видно, был великий хлебосол; он имел у себя за столом немало гостей, между коими занимали первое место один вельможа, человека три позолоченных придворных и несколько начальников сего города, да из числа известных мне по своим именам, о которых я нарочно наведался, чтоб мог тебе обстоятельнее пересказать о любопытном их разговоре, были г. Припрыжкин, Рубакин, драгунский капитан, Тихокрадов, судья, и художник Трудолюбов; я, как ты можешь себе представить, был также не из последних и сидел подле хозяйского сына, мальчика прелюбезного, лет четырнадцати, который был доброю надеждою и утешением в старости своего отца.
Стол был великолепен, и Плутарез (так назывался именинник) кормил всех очень обильно; веселие в обществе нашем умножалось с приумножением вина; разговоры были о разных предметах, и попеременно говорили о политике, о коммерции, о разных родах плутовства и о прочем. Вельможа, одетый с ног до головы во французский глазет и убранный по последней парижской моде, защищал пользы отечества и выхвалял любовь к оному; судья ставил честь выше всего на свете; купец хвалил некорыстолюбие, но все вообще согласны были в том, что законы очень строго наказывают плутов и что надобно уменьшить их жестокость. Вельможа обещал подать голос, чтобы уничтожить увечные и смертные наказания, исполняемые за грабительства и за плутовства для их искоренения, за что многие из гостей, а более всего судья Тихокрадов и наш хозяин Плутарез, очень его благодарили, и хотя сей вельможа, как я слышал, ежедневно делает новые обещания, однакож старых никогда не исполняет, но гости не менее были и тем довольны, что остались в надежде, для которой нередко просители посещают прихожие знатных особ.
Но как в столь большом собрании разговоры не могли быть одного содержания, то наконец речь зашла о хозяйском сыне. «У тебя прелюбезное дитя, – сказал Рубакин Плутарезу, – и он может со временем быть тебе утешением, но записан ли он где и который ему год?»
«Тринадцатый, ваше высокоблагородие», – отвечал хозяин.
«Неправда, – сказал Рубакин, – ему точно четырнадцатый, и я очень помню, что он родился тогда, когда ты был еще у нас маркитантом, в чем и сама покойница твоя жена была бы со мной согласна».
«Сомневаюсь, – отвечал хозяин, – моя жена, не тем будь помянута, была превеликая спорщица».
«Разве с тобою, – сказал Рубакин, – но что касается до нас, то я уверяю тебя, что ни один наш офицер не скажет, чтоб она с кем-нибудь из них споривала; и мы во всем столько были ею довольны, что когда ты от нас поехал, то вообще все более жалели об ней, нежели о тебе; итак, спорщицей назвать ее ты не можешь. Я думаю, что ты и сам помнишь, как любили ее в полку и что она не одною ротою ворочала. Правду сказать, если б ты не сделал дурачества и не уехал тогда от нас, то я бы голову свою дал тебе порукою, что твой Вася (имя хозяйского сына) о сю пору был бы уже адъютантом. Ведь ты помнишь, как полковник наш жаловал покойницу твою Борисовну и как ты по милости ее был им покровительствован, так что ты, без всякого опасения, месяца по два сряду довольствовал весь полк протухлою и негодною пищею, а все с рук сходило; и можно сказать, что это не житье тебе было, а масленица; ты сам, думаю, признаешься, что тогда ты густо понабил свой карман».
«То правда, ваше высокоблагородие, однакож вы уже весьма много возвеличили мою покойницу, приписывая ей такую власть; иной из этого и невесть что подумает, ведь злых людей в свете много; мало ли что и в полку тогда об ней говорили, а оттого и полковница и наши офицерши ее терпеть не могли, но все поистине понапрасну; виновата ли она была, что всегда, когда ни случалось ей хаживать к ним на поклон, заставала дома одних только их мужей, а они случались или у обедни, или где и в другом месте, но как, бывало, к кому ни взойдет, то хотя жены и дома нет, так муж без того уже не выпустит, чтобы чем-нибудь не попотчевать, потому что она, покойница, и сама была гостеприимна…»
«Мудрено ли, братец, – сказал толстый судья, – что твоя жена была в такой силе; я сам человек женатый и могу не менее похвалиться своею женою, которая, несмотря на то, что я был еще копиистом, но и тогда имела уже множество челобитчиков и давала часто решения на важные дела, которые едва вверяли мне набело переписывать; а вся сила состояла в том, что она хорошо стряпала кушанья для нашего судьи и понаслышке знала несколько законов, почему казалась весьма знающею; и в ней столько наш судья был уверен, что по ее словам, как по Уложенью, вершил челобитчиковы дела, в чем, право, не всякой и знатной женщины послушают».
«Morbleu![2 - Черт возьми! (фр.)] – сказала сидевшая подле меня кукла в золотом кафтане, – и эта мелочь хочет ровнять своих жен с знатными госпожами. J’enrage![3 - Я взбешен! (фр.) 61] Клянусь, что если б захотел я в отмщение употребить силу моей тетушки, то бы завтра же улетели к черту этот маркитант, судья с своею женой и со всею своею челядью. Можно ль только иметь терпение слушать такие импертинансы! И как сметь сравнивать силу подлых своих жен с силами почтенных дам, которых могущество доказаться может тысячею счастливцев, которые по их милости делают фигуру в большом свете и которые прежде того ничего в оном не значили. Я, сударь! я сам, – сказал он, оборотясь ко мне, – есть неоспоримое доказательство силы своей тетушки; представьте, нет еще года, как я сюда приехал из деревни; быв благородным и молодым человеком, вы можете угадать, что я за нужное почел, чтоб пользоваться порядочным экипажем, достать себе чин, не вступая в службу, которая сопряжена со многими трудностями, предоставленными для бедных токмо дворян; но как вам покажется? Не прошло еще и десяти месяцев по моем приезде, а я начал уже повелевать четверкою лошадей, не имея никакого понятия о службе, кроме того, что она не может быть для меня приятна, потому что моему дяде, служившему капитаном, на прошедшем сражении прострелена голова, и он лишился жизни, с которою я нималого не имею желания так скоро расстаться».
«Но, скажи мне, – спрашивал один из придворных хозяина, – для чего оставляешь ты сына твоего в праздности? Он уже в таких летах, что может вступить в службу или по крайней мере считаться в оной».
«Милостивый государь, – отвечал Плутарез, – это правда, что Вася уже на возрасте, и я не намерен, всеконечно, оставлять его без дела, но я еще не избрал род службы, в которую бы его определить».
«Друг мой, – сказал придворный, – оставь это на мое попечение, ты можешь быть уверен в моей к тебе благосклонности, имев явное доказательство, что из дружбы к тебе я не совещусь занимать у тебя деньги и быть должным оными, а потому не можешь сомневаться о моем участии, какое приемлю я в счастии твоего сына. Дело состоит только в том, чтоб ты дал двадцать тысяч в мои руки, которые употреблю я в его пользу: помещу имя его в список отборного военного корпуса, сделаю его дворянином и потом пристрою его ко двору, – словом, я поставлю его на такой ноге, чтоб он со временем мог поравняться с лучшими, делающими фигуру в большом свете. Сколь же такое состояние блистательно, ты сам это знаешь, и надобно только иметь глаза, чтоб видеть нас во всем нашем великолепии, на усовершение которого портные, бриллиантщики, галантерейщики и многие другие художники истощают все знание и искусство, чтобы тем показать цену наших достоинств и дарований… Богатые одежды, сшитые по последнему вкусу, прическа волос, пристойная сановитость, важность и уклончивость, соразмерные времени, месту и случаю; возвышение и понижение голоса в произношении говоримых слов; выступка, ужимки, телодвижения и обороты отличают нас в наших заслугах и составляют нашу службу. Грамоты предков наших явно всем доказывают, что кровь, протекающая в наших жилах, издавна преисполнена была усердием к пользе своего отечества, а наши ливреи и экипажи не ложно доказывают о важности наших чинов в государстве. Какое же состояние может быть завиднее и спокойнее нашего? Правда, что философы почитают нас мучениками, однакож то несправедливо, а зато и мы считаем их безумцами, пустою тенью услаждающими горестную и бедную свою жизнь. Итак, друг любезный, что тебе стоит двадцать тысяч? не сущая ли это безделка в сравнении с тем счастием твоего сына, которое я сильнейшим своим предстательством обещаю ему доставить, а знакомые мои, танцмейстер, актер, портной и парикмахер, чрез короткое время пособят мне сделать из твоего сына блистательную особу в большом свете».
«Как, сударь, – вскричал Рубакин, – вы называете блистательным то состояние в большом свете, в котором люди за свои достоинства обязаны некоторым искусникам; но из вашего мнения можно действительно доказать, что те самые искусники несравненно должны быть знатнее тех своих кукол, которых они украшая дают цену их достоинствам и… но что об этом много говорить! Нет, любезный Плутарез, если ты хочешь, чтоб сын твой был полезнее своему отечеству, то я советую тебе записать его в военную службу. Вообрази себе, какое это прекрасное состояние, которое, можно по справедливости сказать, есть первейшее в свете, потому что не подвержено никаким строгостям, ниже каким опасностям, сопряженным с придворною жизнию. Военному человеку нет ничего непозволенного: он пьет для того, чтоб быть храбрым; переменяет любовниц, чтобы не быть ничьим пленником; играет для того, чтобы привыкнуть к непостоянству счастия, столь сродному на войне; обманывает, чтобы приучить свой дух к военным хитростям; а притом и участь его ему совершенно известна, – ибо состоит только в двух словах: чтоб убивать своего неприятеля или быть самому от оного убиту. Где он бьет, то там нет для него ничего священного, потому что он должен заставлять себя бояться; если же его бьют, то ему стоит оборотить спину и иметь хорошую лошадь; словом, военному человеку нужен больше лоб, нежели мозг, а иногда больше нужны ноги, нежели руки, и я состарелся уже в службе, но всегда был того мнения, что солдату не годится умничать. Итак, ты ничего умнее не сделаешь, как если запишешь своего сына в наш полк, ты же человек богатый, почему можешь сделать ему хорошее счастие, деньги только нужны, а прочее я беру на себя и уверяю тебя, что твой сын сам будет тем доволен».
«Государь мой, – сказал, улыбаясь, Тихокрадов, – вы с таким жаром говорите о своем звании, что слушатели могут подумать, будто статское состояние и в подметки вашему не годится, хотя, не распложая пустых слов, я могу коротко сказать, что, служа в сем состоянии, обязан я оному знатным доходом, состоящим из десяти тысяч; вступая же в оное, не имел я ни полушки; итак, сие одно довольно могло бы доказать, что перо гораздо полезнее, нежели шпага, но я не люблю жарких споров, а держусь лучше основательных доказательств. Я не отрицаю выгод военного человека, но знаете ли, что статское состояние есть соборище лучших выгод из всех других состояний?»
«Как! – вскричал Рубакин, – вы подьячих сравниваете с воинами? Но можете ли вы в том успеть? Одно это, когда мы возьмем какую крепость, сколько приносит нам славы и сколько потом чувствуем удовольствия, обогащая себя всем, что только на глаза наши тогда ни попадется. Кто другой может иметь такую волю, чтоб без малейшего нарушения права присвоивать себе вещи, никогда ему не принадлежавшие?»
«Постойте, постойте, – перервал с скоростию Тихокрадов, – дайте мне докончить: вы тогда сами увидите, правду ли я сказал. Статский человек столько же казаться может блистателен, сколько и придворный, он так же может приобретать себе дарования пособиями тех самых искусников, которые своим искусством составляют достоинства большей части придворных, чему многие из наших судей могут быть явным доказательством, а иные столько же в том себя отличили, что лучше знают, как одеться по последней моде и сообразно годовому времени, нежели отправлять по-надлежащему свою должность и вершить судебные дела. Статский человек столько же может иметь тогда славы, сколько и военный, когда он, сообразив все последствия и проникнув в существо дела, разрушит все хитросплетения гнусных лжей, покрывавших мраком целый век или и более истину, которой определением своим доставит принадлежащую ей справедливость.
Что ж принадлежит до обогащения его, то он имеет еще то преимущество, что, не отлучаясь за несколько сот или тысяч верст и не подвергая себя столь видимой опасности, какой подвергается воин, может ежедневно обогащать себя и присвоивать вещи с собственного согласия их хозяев, которые за немалое еще удовольствие себе поставляют служить оными и почитают за отменную к ним благосклонность, если от них оные принимаешь. Сверх того, статский человек может производить торг своими решениями точно так же, как и купец, с той токмо разницею, что один продает свои товары по известным ценам на аршины или на фунты, а другой измеряет продажное правосудие собственным своим размером и продает его, сообразуясь со стечением обстоятельств и случая, смотря притом на количество приращения своего богатства. Если вы против всего скажете, что все это не позволено законами, то по крайней мере должны в том признаться, что в свете введенные обыкновения столь же сильны, как и самые законы; сказанные же мною выгоды статского человека издавна между людьми вошли в обычай, и ныне они столько же употребительны и извинительны, сколько простительно придворному не платить своих долгов, а купцу иметь окороченный аршин и неверные весы или сколько сему последнему позволительно, обогатив себя чужими деньгами и надавав в приятельские руки пустых на себя векселей, избавиться тем от платежа истинных своих доходов. Итак, видишь ли, друг мой, – продолжал он, оборотясь к хозяину, – что я не солгал, и ты весьма несправедливо сделаешь, если предпочтешь какое-нибудь состояние статскому, в котором он может быть столько же знатен и блистателен, сколько и придворный; столько же обогащать себя всем, что ни увидит, сколько и воин, и с такою же способностию торговать, как и купец. Не отлагай же долее, отдай его в мой приказ и будь уверен, что я выведу его в люди. Не думай, чтоб я это обещал из одной только учтивости; нет, мне ничего не стоит доставить ему чин, чему явным доказательством мой дворецкий, которого за усердную его ко мне службу сделал я секретарем. Итак, когда я дворецкому доставил такое счастие, то будь уверен, что тебе, как моему другу, могу более услужить; нужно только потерять тебе несколько тысяч при его производстве, так и дело с концом; но поверь мне, что сын твой со временем, когда будет на судейском стуле, издержки сии возвратит тебе всотеро».
«Что до меня касается, – сказал Трудолюбов, – то я вместо того, чтобы защищать выгоды своего звания в моем отечестве, при первом же случае постараюсь из оного удалиться и возвратиться в Англию, где знают лучше цену моего художества и где за оное получал я во сто раз больше, нежели здесь, хотя я никакой не примечаю разности в моем искусстве, а сие меня столько опечалило, что, не размышляя нимало, предался я пьянству; знаю, что разумному человеку сие непростительно, но что уже делать, когда, о том я скоро думав, сделался теперь совершенным пьяницею: известно, что скорость не одному мне, но многим причинила пагубу. Итак, любезный Плутарез, если ты хочешь сына своего сделать счастливым каким-нибудь художеством, то или пошли его для работы в чужие край, или не вели ему ни за что приниматься, потому что здешние жители своих художников и их работу ни за что почитают, а уважают одно привозимое из-за моря. Я могу сказать, что мое искусство всегда почиталося из первых, и в Англии от оного многие обогащаются; я сам со временем, может быть, был бы из первых там богачей, если б не принужден был сюда выехать».
«Нет! милостивые государи, – сказал хозяин, – я свое состояние всем прочим предпочитаю и оставлю навсегда в нем своего сына. Правда, хотя я и не дворянин, но деньги всё мне заменяют».
Я увидел, любезный Маликульмульк, что он говорит правду, ибо, процветая в избытке, живет он, как маленький царек. Придворные, ученые и художники ежедневно ищут в нем благоприятства; первые просят у него в прозе в долг денег, вторые ищут награждения за подносимые стихи, а третьи ожидают, чтоб он употребил их к своим услугам; итак, придворным дает он по тщеславию, ученым по великодушию, хотя, впрочем, никогда не читает их стихов, а третьим, льстя пустою надеждою, отказывает, сохраняя тем домашнюю свою экономию.
Письмо XII
От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку
И надежды нет, любезный Маликульмульк, чтобы, я мог скоро возвратиться в ад. Сколько здесь ни обширны фабрики правосудия, но почти на всех обрабатывается оное довольно дурно. Одно только несколько меня утешает, что мне есть из чего выбирать; ибо на всякие тридцать тысяч жителей наверное находится двадцать тысяч судей; но если ты меня спросишь, найдется ли в сих двадцати тысячах хотя два десятка мудрецов или, лучше сказать, хотя один добродетельный и знающий судья, то я для решения сего вопроса покорно попрошу у тебя дать мне пятьсот лет сроку. Впрочем, ты из маленького случая, о коем я тебя здесь уведомлю и которому я сам был очевидным свидетелем, увидишь, правду ли я думаю.
Последуя предписанию Диогенову, вылетев на землю, вошел я в одну из славнейших лавок Фемисы; увенчанные перьями головы судей, с которых уже давно сошли волосы, делали рост их величественным, и хотя толстые их туловища не предвещали судейской заботливости, но впалые глаза, казалось, были у всех притуплены на чтении законов. Судейская зала, правда, хотя не соломою, а шелком и золотом была украшена, однакож со всем тем пол, забрызганный чернилами, доказывал их трудолюбие; над дверьми, на восковой, но сделанной под мрамор доске – Фемиса держала следующую надпись:
Хранящий истины уставы,
Законы ты мои внемли:
Не продавай своей расправы,
Не будь здесь пьян и не дремли.
Я едва мог разобрать сию надпись для того, что судьи очень жарко топят залу и восковая доска сделалась так гладка, что почти ни одного слова не было порядочно видно; со всем тем мне это подавало очень хорошую надежду, как вдруг вошел в залу толстый купец, который тянул за собою бедного человека.
«Рассудите меня с этим негодяем! – кричал сей брюхан, – он украл у меня из кармана платок, но ваше правосудие, конечно, не допустит, чтоб было в самом городе такое нам утеснение от сих наглецов, и я требую, – продолжал он, – чтоб его осудили вы по всей строгости законов».
Судьи, нимало не медля, приговорили бедняка сего повесить, и толпа народа нетерпеливо дожидала уже сего позорища.
«Почтенное собрание, – сказал тогда судьям бедняк, – ваша воля ничем не может быть оспорима; но неужели правосудие сначала наказывает преступника, а потом уже рассматривает существо его дела? Нет! ваше звание обнадеживает меня, что вы, конечно, благоволите, чтоб я оправдался…»
«Чтоб ты оправдался, – сказал один из них, смотря на солнце, – да знаешь ли ты, что уже теперь полдень и что тебя скорее можно повесить, нежели выслушать твои оправдания, которые у всех преступников бесчисленны».
«Постойте, – сказал бедняк, – одна минута терпения не нанесет вреда вашему желудку и спасет несчастного от строгого наказания. Признаюсь, я украл платок, но скажите, когда вы, не желая вытерпеть двух минут голоду, хотите похитить у отечества, может быть, полезного ему гражданина, то мог ли я, три дни быв без пищи, не украсть наконец сего платка, потеря которого ничего не стоит сему богачу. Знайте, что я никогда не имел сей склонности, родясь с способностями к живописи, которые подкрепя наукою и усовершив в чужих краях, возвратился я назад с успехом, надеясь иметь безбедное пропитание в своем отечестве. Мои картины хотя всеми были здесь одобряемы, но порочили их тем, что они не были Апеллесовы, Рубенсовы и Рафаеловы или по меньшей мере не были иностранной работы, и для того никто не хотел их иметь в своих галереях. Это меня лишило бодрости, предало унынию и повергло в отчаяние и нищету, так что я, не имея никакой надежды поправить свое состояние, имея престарелых родителей и малолетних сестер на своем содержании, на которое при нынешних обстоятельствах и дороговизне истощив все, что имел, и сам наконец умирая с голоду, принужден был сделать сие преступление. Итак, рассмотрите теперь, я ли виновен, что по необходимости прибегнул к пороку, или вы, гнушающиеся художествами ваших соотечественников? Я ли, который старался в своем отечестве поравнять вкус живописи со вкусом других народов, или вы, платящие мне за то неблагодарностию? Наконец я ли, который собою подкреплял надежду своих художников иметь со временем в нашем отечестве Мишель-Анжелов, или вы, которые своим нерадением и презрением погашаете в них весь жар к трудам и усовершению их дарований?»
Судьи признавались, что он изрядно говорил и мог бы по красноречию быть хорошим стряпчим, но как они не знали ни Мишель-Анжелов, ни Рафаелев и не понимали о живописи, то из всех его слов заметили только то, что он признался в краже, за которую закон наказывал виселицею, вследствие чего и не хотели отменить своего приговора; некоторые только из сожаления хотели, чтобы вместо виселицы отрубить ему голову, а другие, боясь петли и топора, приговаривали засечь его до смерти розгами. Я между тем удивлялся строгости судей и признавал сам в себе, что, хотя они не совсем были правы, однакож порок всегда наказываться должен и ничем не может быть извиняем.
«Вот, – думал я, – наконец те судьи, из которых, может быть, я выберу надобное число Плутону».
В сие время, когда они еще спорили, какую помилостивее положить ему казнь, отворилися двери залы и вошел богато убранный господин; все судьи перед ним встали, приветствовали его своими поклонами и просили его сесть. Бедняк, думая, конечно, что это был их начальник, бросился перед ним на колени и просил о своем избавлении.
«Что стоит прощение сего бедняка?» – спросил с гордостию богач.
«Милостивый государь, – сказал один из них, – если бы этот живописец был в состоянии заплатить двести небольших листов здешнего золота, то бы не был наказан; но он очень беден, и для того мы приговорили было его к виселице, однакож некоторые из нас, по мягкосердечию своему, присуждают отрубить ему голову, а другие засечь розгами; и вот уже полчаса, как о том у нас происходит спор, какою смертию его наказать, но еще ни на чем не решились».
«Вот двести листов, – сказал богач, подавая оные, – отпустите его и примитесь лучше за мое дело, а ты, друг мой, – сказал он живописцу, – подожди меня: мне нужен человек твоего искусства размалевать паркет в моей прихожей».
Живописца выпустили, и сей редкий искусник, который бы мог сделать честь своему отечеству, дожидался своего избавителя, чтоб идти за ним рисовать холст для обтирания ног пьяных служителей, а судьи, чтобы скорее приняться за дело сего господина, не медля нимало, приговорили к виселице еще десять бедняков, которых некогда им было тогда выслушать. Определение о том заключили они в следующих словах: «Хотя сущность их дел нам неизвестна, но в предосторожность, чтобы другие не надеялись на оправдание, повелеваем всех их перевешать, а рассмотрение сих дел отлагаем до предбудущего заседания».
«Кто это такой, – спросил я у одного из стоящих близ меня, – который столь щедро выкупил живописца и перед которым судьи так благоговеют?» – «Это один преступник, – отвечал он мне на ухо, – который судится в некотором похищении и грабительстве, и вот уже лет двадцать, как это дело тянется». – «Как, – спросил я, – и его до сих пор не повесили! Разве он похитил меньше, нежели золотник меди?» – «Нет! – отвечал он, – на него донесено, что он покрал из государственной казны несколько миллионов в золоте и серебре и разграбил целую врученную ему область». – «Пропащий же он человек, – сказал я, – его, конечно, уже замучают жесточайшими казнями». – «Напротив того, – отвечал он, – он уже оправдался перед правосудием, и это ему стоит одного миллиона, а чтоб оправдаться в глазах народа, то он делает такие выкупы, каким освобожден живописец, и взносит на содержание сирот немалые суммы денег, и через то в мыслях некоторых людей почитается честным, сострадательным и правым человеком; из доносчиков его большая половина перемерли в тюрьме, а оставшие завтра утоплены будут в море, если только не успеют они подкупить своих надзирателей и скрыться побегом; но я вижу, – продолжал он, – что вы недавно приехали на наш остров; поживите-тко у нас подоле, так и увидите сего поболе».
«Но и сего для меня довольно, – сказал я. – Мне удивительно, как можете вы жить в такой земле, где чуть было не засекли розгами бедняка, не евшего трое суток, за то, что вытащил он у богатого купца платок; где прежде вешают подобных ему, нежели рассматривают их дела, и где преступникам, обворовавшим государственную казну на несколько миллионов и разграбившим целую область, судьи кланяются чуть не в землю».
«Друг мой, – сказал мне мой новый знакомец, – это не так удивительно, как ты думаешь; в том только вся сила состоит, что прежде, нежели хвататься за какое ремесло, надобно оное рассмотреть со всех сторон. Сей живописец хватился за воровство, но с самой бесчестной и низкой стороны. Если бы он, например, вступил с каким-нибудь купцом в товарищество, хотя бы то было со мною, то бы ты увидел, что под моим богатым предводительством мы могли бы обманывать тех, кого нельзя грабить, и грабить тех, кого нет нужды обманывать, а со всем тем остались бы у всех островских жителей в почтении; но чтоб было для тебя сие понятнее, то расскажу тебе повесть сих жителей, которую слышал я от своего деда, а ему рассказывала об ней покойница его бабушка. Пристрастие к плутовству есть природное свойство здешних жителей, и мои земляки уже давно им промышляют. В старину оно было во всей своей силе; но как просвещение начало умножаться, то наши промышленники приняли на себя разные имена: первостатейные сделались старшинами и законниками, другие купцами, а третьи ремесленниками и поселянами; но, переменя звания, жители не переменили своих склонностей, и плутовство никогда столько не владычествовало над ними, как по сей перемене, так что наконец претворилось оное в совершенный грабеж, которому, однакож, даны самые честные виды; одно только старое воровство запрещено, а впрочем, кто чем более крадет, тем он почтеннее; опасно лишь тому, кто в сем хранит умеренность: украденное яблоко может стоить головы, а миллионы золота принесут уважение».
«Так поэтому, – сказал я, – никто не может иметь никаких собственных своих выгод, потому что вы друг у друга только что перекрадываете?»
«Нет, – отвечал он, – мастеровые имеют некоторые только способы к плутовству, купцы вдесятеро того больше, а законники и старшины употребляют все средства и способы к своему обогащению, и для того все купцы и мастеровые стараются у нас, разбогатев, купить себе между судьями скамейку; отчего произошло, что ныне у нас с лишком во сто раз больше судей, нежели было прежде».
Представь, любезный Маликульмульк, каково было мое удивление, услышав о столь развращенных нравах сих островитян. Я было немедля хотел уже отправиться на север, по совету Диогенову; но любопытство, а паче некоторый луч надежды, что между таковым множеством судей, может быть, сыщу я трех знающих и добросовестных, удержали меня несколько на сем острове. Расставшись с моим знакомцем, лишь только успел я выйти на улицу, как встретившийся со мной рассерженный человек, державший в руках своих бумагу, просил меня просмотреть, какова его челобитная, которую подавал он на нововышедшую в свет сатиру.
«Государь мой, – отвечал я ему, – я не знаю ни сатиры, ни вашего дела».
«О сударь! – сказал он, – это дело требует непременного отмщения. Сатира эта написана на рогоносца, а жена моя точно доказывает, что это на меня».
После чего подал он мне свою челобитную, с которой копию, как любопытную вещь, к тебе посылаю.
Судей собрание почтенно,
Внемли пиита жалкий глас,
И рассуди ты непременно
С сатиром негодяем нас;
Он смел настроить дерзку лиру
И выпустить во свет сатиру,
Где он, рогатого браня,
Назвал глупцом его безбожно,
Жена ж моя твердит неложно,
Что это пасквиль на меня.
Второе, он сказал нахально,
Что всем рогатым чести нет,
Хотя, признаться, непохвально,
Но это точно мой портрет.
А третье, тот его рогатый,
Лишь красть чужое тороватый,
Не может сам писать стихов,
А вам весь город это скажет,
И всякий стих мой то докажет,
Что я и был и есть таков.
Прошу ж покорно, накажите
За пасквиль моего врага
И впредь указом запретите
Писать сатиры на рога.
Может быть, любезный Маликульмульк, после уведомлю я тебя, чем эта странная тяжба кончится.
Часть вторая
Письмо XIII
От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку
Осматривая многие города, вздумалось мне в сем городе прожить несколько времени. Приняв на себя вид знатного путешественника, познакомился я со многими здешними жителями, которые со всех сторон осыпают меня превеликими ласками и приглашают во все лучшие собрания модных своих госпож и петиметров, где с великим примечанием рассматриваю я хитрости женщин и вероломство мужчин. В одно время случилось: когда я туда вошел, то речь шла о некоторой графине, о которой все говорили с превеликою насмешкою, несмотря на то, что в глаза ей все показывались друзьями.
«Я не знаю, – говорила одна молодая госпожа, – откуда графиня берет свои пустые рассказы, которыми всегда нам наводит скуку; по чести, в ее лета не позволялось бы такое пустое болтанье».
«Никак, сударыня, – сказал один петиметр с насмешливым видом, – ежели только это правда, что лета бывают причиною охоте скучать в собраниях своим болтаньем, то графиня давно уже имеет сие право». – «Куды какой ты насмешник, – подхватила другая госпожа, – я знаю графиню, она еще не так стара, чтоб ее считать в числе болтливых старух. Она вышла замуж в тот год, как я родилась: ей было тогда двадцать четыре года, а мне теперь только тридцать два». – «Как, сударыня, – вскричал один вертопрах с видом превеликого удивления, – вы кажетесь еще совершенным младенцем, а говорите, будто вам тридцать два года; это мне кажется столько же удивительным, как и то невероятным, чтоб графине было пятьдесят шесть лет, хотя она и сказывает всем, что ей не больше сорока».
В ту самую минуту, как спорили о летах сей графини, вошла она в собрание; каждый перед нею переменил свои слова. «Ах, Боже мой, любезная графиня! – говорила ей та самая госпожа, которая за минуту перед тем столь щедро награждала ее пятьюдесятью шестью годами. – Какой у тебя сегодня прекрасный цвет в лице, как ты кажешься прелестна, никто не скажет, чтоб тебе было тридцать лет».
«Однакож мне больше тридцати, – сказала графиня вполголоса, усмехаясь, прищуривая глазами и кусая себе губы, чтоб сделать их алее. – Я совсем не спала нынешнюю ночь, – продолжала она, – и поутру вставши страшилась сама на себя взглянуть в зеркало; по чести, я не хотела никуда сегодня показаться, но, имея чрезвычайное желание быть с вами вместе, решилась наконец сюда приехать».
«Мы бы очень много сожалели, когда бы лишены были вашего приятнейшего для нас присутствия, – вскричал тот петиметр, который пред ее входом язвил ее жестокими насмешками, – потому что никто не приносит столько удовольствия в собраниях, как вы, сударыня! Черт меня возьми, если я не гораздо приятнее слушаю те небольшие повести, которые вы иногда изволите нам рассказывать, нежели лучшие басни Бокасовы и де ла Фонтеновы!»
Я чрезвычайно удивлялся, слушая сии разговоры, наполненные гнусного ласкательства и притворства, и почитал оное непростительным вероломством. Мне очень казалось странным, что здесь, по заочности, столь язвительно насмехаются над такою особою, с которою всякий день бывают вместе и которую называют именем друга; а еще того страннее, что в глаза ту же самую особу осыпают чрезвычайными похвалами. Сии похвалы я почитал не иначе, как несноснейшим оскорблением, потому что они заключали в себе скрытыми те самые насмешки, которые пред ее входом насчет ее были произносимы.