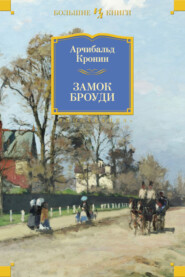скачать книгу бесплатно
При этом звуке Мэри шевельнулась и, наполовину придя в себя, шепнула чуть слышно:
– Денис, люблю тебя! Милый, милый мой!.. Но уже поздно, очень поздно. Нам надо идти.
Она с трудом подняла голову, медленно пошевелила онемевшими, как от наркоза, руками и ногами. Но вдруг молнией пронизало мозг воспоминание об отце, доме, сознание того, что произошло с ней. Вскочила испуганная, ужасаясь самой себе.
– Боже, что я наделала! Отец!.. Что будет с нами? – вскрикнула она. – Я безумная, что пошла сюда с тобой.
Денис тоже поднялся с земли.
– Ничего худого с тобой не случится, Мэри, – сказал он, пытаясь ее утешить. – Я люблю тебя. И позабочусь о тебе.
– Пусти меня, – возразила она, и слезы потекли по ее бледному лицу. – Ох, мне надо вернуться домой раньше, чем он, иначе я останусь на улице всю ночь и должна буду бродить, как бездомная.
– Не плачь, родная, – умолял Денис. – Мне больно видеть твои слезы. Не так уж поздно – еще нет одиннадцати. Не бойся, во всем виноват я, я и буду отвечать.
– Нет, нет! – вскрикнула Мэри. – Это я виновата. Мне совсем не следовало уходить из дому. Я ослушалась отца. Страдать буду я одна.
Денис обнял одной рукой дрожавшую девушку и, заглянув ей в глаза, сказал твердо:
– Тебе не придется страдать, Мэри. Прежде, чем мы расстанемся, я хочу, чтобы ты поняла вот что: я тебя люблю, люблю больше всего на свете. И женюсь на тебе.
– Да, да, – всхлипывала она. – Только отпусти меня. Мне надо бежать домой. Отец меня убьет. Если он сегодня нигде не задержится и придет домой раньше меня, он сделает что-нибудь ужасное со мной… с нами обоими.
Она кинулась бежать по тропинке, скользя и спотыкаясь оттого, что так спешила, а Денис бежал за ней, пытаясь успокоить ее и утешить нежнейшими словами. Но хотя она от этих слов и перестала плакать, она мчалась все так же быстро и молча, пока они не добежали до города. Здесь Мэри круто остановилась.
– Не ходи дальше, Денис, – сказала она, тяжело дыша. – Мы можем встретить его… отца.
– Да ведь на дороге так темно, – возразил он. – Я боюсь отпустить тебя одну.
– Ты должен уйти, Денис! А вдруг он увидит нас вместе!
– Да как же ты пойдешь одна в темноте?
– Ну что ж делать! Я буду бежать всю дорогу.
– Но ты заболеешь, если будешь так мчаться, Мэри. Посмотри, какая тьма… И дорога так пустынна.
– Пусти меня! Так надо. Я дойду одна. Прощай!
В последний раз руки их сошлись, и Мэри убежала от него. Ее фигура исчезла, словно растаяла во мраке.
Денис вглядывался в сплошную темноту, тщетно стараясь не потерять из виду быстро бегущую девушку; не решаясь ни окликнуть Мэри, ни побежать за ней, он растерянно поднял руки, словно умоляя ее вернуться, но затем медленно опустил их и, долго простояв в такой нерешительности, в конце концов повернулся и, удрученный, побрел домой.
Тем временем Мэри в паническом страхе, преодолевая усталость, мчалась по той самой дороге, которую в начале этого вечера прошла так легко. Ей казалось, что за эти несколько часов она прожила целый век. Подумать только, она, Мэри Броуди, поздно вечером одна на улице! Звук ее одиноких шагов пугал ее, раздавался громко в тишине, как немолчное обвинение, которое мог услышать ее отец, мог услышать кто угодно; он вопил о ее безумии, о предосудительности положения, в котором она очутилась. Денис хочет жениться на ней! Он, видно, тоже сошел с ума; он представления не имеет о том, какой человек ее отец и какую жизнь она ведет дома. Эхо ее шагов точно дразнило ее, твердя, что она поступила как безумная, бросившись очертя голову в такое опасное приключение, и самая мысль о любви к Денису казалась теперь жуткой и мучительной нелепостью.
Приближаясь к дому, она неожиданно заметила впереди себя человеческую фигуру и при мысли, что это может быть ее отец, оцепенела от ужаса. Правда, он чаще всего возвращался из клуба после одиннадцати, но бывало, что приходил и раньше. Подходя все ближе, молча догоняя неизвестного, Мэри говорила себе, что это, несомненно, отец. Но вдруг у нее вырвался стон облегчения: она узнала брата и, позабыв осторожность, бросилась к нему.
– Мэт! О Мэт! Подожди! – прокричала она, задыхаясь, и, налетев на него, ухватилась за его плечо, как утопающая.
– Мэри! – воскликнул Мэт, сильно вздрогнув, не веря своим глазам.
– Да, я, Мэт. Слава богу, это ты, а я сначала подумала, что это отец.
– Но… Господи помилуй, Мэри, что ты делаешь здесь в такой час? – продолжал Мэт, шокированный и удивленный. – Где ты была?
– Об этом после, Мэт. Скорее войдем, пока не пришел отец. Пожалуйста, Мэт, голубчик! Не спрашивай меня пока ни о чем.
– Да что ты это затеяла? Где ты была? – твердил Мэт. – Что подумает мама?!
– Мама думает, что я легла спать или что я читаю у себя в комнате. Она знает, что я часто читаю поздно, дожидаясь тебя.
– Мэри, какая ужасная выходка! Я просто не знаю что и думать. Встретить тебя на улице ночью! Какой срам!
Он прошел несколько шагов, потом вдруг, как бы под влиянием внезапной мысли, круто остановился.
– Было бы очень неприятно, если бы мисс Мойр узнала об этом. Позор! Такое поведение моей сестры уронило бы и меня в ее глазах.
– Не говори ей ничего, Мэт! И никому не говори. Скорее войдем! Где твой ключ? – торопила его Мэри.
Бормоча что-то себе под нос, Мэтью взошел на крыльцо, и, видя, что он отпирает дверь, Мэри вздохнула с облегчением: раз дверь не заперта на засов, значит отца еще нет. В доме было тихо, никто ее не поджидал, никто не осыпал ее обвинениями и укорами, и, убедившись, что она каким-то чудом спасена, Мэри в горячем порыве благодарности взяла брата под руку, и они бесшумно начали взбираться по темной лестнице наверх.
Очутившись наконец у себя в спальне, она тяжело перевела дух, и пока она уверенно пробиралась ощупью среди знакомых предметов, самое прикосновение к ним ее успокаивало. Слава богу, она в безопасности! Никто не узнает! Она поскорее разделась в темноте, скользнула в постель, и сразу же прохладные простыни обласкали ее усталое, разгоряченное тело, а мягкая подушка – болевшую голову. Она погрузилась в блаженное забытье, сомкнулись дрожащие веки, расправились пальцы рук, голова склонилась к плечу, дыхание стало спокойным и ритмичным, и с последней волнующей мыслью о Денисе она уснула.
III
Джемс Броуди проснулся утром, когда в окно спальни брызнул поток солнечных лучей. Он оттого и выбрал для спальни эту комнату в задней половине дома, что какой-то звериной любовью любил солнце, любил, чтобы яркие утренние лучи ударяли в окно и, будя его, словно просачивались сквозь одеяло в его тело, наливая его бодростью и силой. «Ничего нет полезнее утреннего солнца», – твердил он часто. Это была его любимая поговорка из того запаса мнимо глубоких истин, к которым он охотно прибегал в разговоре, изрекая их с видом авторитетным и значительным. «Утреннее солнце – замечательная вещь, скажу я вам. Им недостаточно пользуются. Но в моей комнате его достаточно, я об этом позаботился!»
Проснувшись, Броуди широко зевнул и блаженно потянулся всем своим массивным телом; некоторое время он с удовольствием наблюдал из-под полуопущенных век за золотистым роем пылинок, плясавших в солнечном луче, затем вопросительно сощурился на каминные часы, стрелки которых показывали только восемь; убедившись, что можно еще с четверть часа полежать, он зарылся головой в подушку, повернулся на другой бок и барахтался под одеялами, как громадный дельфин. Но скоро голова его снова вынырнула наружу.
Несмотря на чудесное утро, на щекотавший ноздри аппетитный запах, поднимавшийся снизу, где жена варила овсянку, Броуди не испытывал того полного довольства, какое, по его мнению, мог бы сегодня испытывать.
Хмурясь и, видимо, пытаясь отыскать причину своего недовольства, он повернулся, и взгляд его упал на углубление среди простынь на другой половине кровати, оставленное телом его жены, которая, как всегда, встала уже целый час тому назад, чтобы все приготовить и подать завтрак на стол в ту минуту, когда хозяин сойдет вниз.
«Ну что толку в такой женщине! – подумал Броуди с возмущением. – Разве это жена для такого человека, как я?»
Пускай она стряпает, моет и убирает, штопает ему носки, чистит сапоги… эх, пускай хотя бы лижет ему сапоги, – но ведь как женщина она уже никуда не годится. К тому же со времени последних родов – когда она родила ему Несси – она постоянно болеет и вечно киснет и хнычет, оскорбляя его инстинкты здорового и крепкого мужчины своим вялым бессилием, вызывая в нем отвращение своей хилостью. Незаметно для нее, например, по утрам, когда она, встав с постели раньше мужа, бесшумно, словно крадучись, одевалась, он уголком глаза наблюдал за ней с чувством, похожим на омерзение. Не далее как в последнее воскресенье, застав ее в тот момент, когда она прятала в постели какую-то испачканную принадлежность своего туалета, он заорал на нее как бешеный: «Нечего из моей спальни делать мусорную свалку! Мало того что я терплю здесь тебя, так ты еще будешь совать мне в лицо свое грязное тряпье!»
Он с горьким озлоблением признавался себе, что она ему давно противна; самый запах ее тела был ему ненавистен, и, не будь он порядочным человеком, он бы давно поискал на стороне то, чего ему нужно. Что это ему снилось нынче ночью? Он плотоядно выпятил нижнюю губу и сильно напряг ноги, смакуя этот сон, припоминая, как он гнался по лесу за дразнившей его молодой бесстыдницей, которую спасала от него быстрота ног, несмотря на то что и он мчался как олень. Она неслась быстрее лани. Ее длинные волосы летели за ней по ветру, и никакая одежда не стесняла ее движений – на ней не было и нитки. Но, убегая так быстро, она все же оборачивалась и усмехалась ему обольстительной, дразнящей усмешкой. «Эх, попадись она только мне в руки…» – подумал он, давая волю своей фантазии. Он лежал, грея на солнце большое тело, губы раздвинулись в бесстыдную и вместе сардоническую улыбку. «Да, попадись она мне в руки, она бы у меня запела по-иному».
Вдруг он увидел, что уже четверть девятого, и сразу вскочил с постели, надел носки, брюки и домашние туфли, снял бывшую на нем длинную ночную сорочку. Его обнаженный торс блестел, мускулы плеч и спины, как гибкие узловатые веревки, ходили под белой кожей, лоснившейся как шелк, и только на груди густо росли темные волосы, как мох на скале.
С минуту он стоял перед небольшим зеркалом, висевшим над умывальником, любуясь блеском своих глаз и крепкими белыми зубами, поглаживая пальцами колючую щетину на широком подбородке. Затем, все еще голый по пояс, отвернулся от зеркала, взял ящичек красного дерева, в котором лежало семь специально отточенных бритв из шеффилдской стали, с костяными ручками – на каждой был указан один из дней недели. Броуди осторожно вынул ту, на ручке которой было вырезано «пятница», проверил остроту ногтем большого пальца и принялся медленно править бритву на ремне, висевшем тут же на предназначенном для него крюке. Ремень был толстый и, как не раз имели случай убедиться в детстве Мэри и Мэтью, изрядно жесткий. Броуди медленно водил бритвой вверх и вниз по его буро-коричневой поверхности, пока лезвие не было великолепно отточено. Затем он подошел к двери, взял принесенную вовремя, минута в минуту, горячую воду для бритья, от которой поднимался пар, вернулся к зеркалу, густо намылил лицо и начал бриться медленно, точно рассчитанными движениями. С методической аккуратностью выбрил гладко подбородок и щеки, осторожно обходя блестящие завитки усов и проводя бритвой по тугой коже такими твердыми, размеренными движениями, что в тишине спальни слышались правильно чередовавшиеся хрустящие звуки. Выбрившись, он обтер бритву бумажкой из специально нарезанной стопки (приготовление и пополнение которой было обязанностью Несси) и уложил в футляр, затем, вылив воду из кувшина в таз, с азартом вымылся холодной водой, плеская ее себе в лицо, поливая полными пригоршнями грудь, голову и плечи. Такое усердное умывание холодной водой, даже в самые холодные зимние утра, вошло у него в неизменную привычку и, как он утверждал, прекрасно влияло на здоровье, предохраняя от насморка, которому была так подвержена его супруга. «Я люблю холодную воду, – хвастал он частенько, – и чем она холоднее, тем лучше. Ого! Я способен проломить лед, чтобы окунуться, и чем больше вода леденит, тем больше я потом разогреваюсь. А после этого я не стучу зубами, и у меня не течет из носа, как у некоторых других, которых я мог бы вам назвать. Нет, нет! У меня только разогревается кровь. Побольше холодной воды – от нее человек здоровее».
Умывшись, он крепко растер грудь и руки жестким мохнатым полотенцем, насвистывая сквозь зубы и чувствуя, как бодрость и теплота разливаются по всему телу и отчасти разгоняют скверное настроение, в котором он проснулся.
Он закончил туалет, надев, все с той же методической аккуратностью, сорочку дорогого тонкого полотна, крахмальный воротничок фасона «Гладстон», галстук с узором «птичий глаз», заколотый золотой булавкой в виде подковы, вышитый серый жилет и длинный сюртук отличного тонкого сукна. Потом сошел вниз.
Завтракал он всегда один. Мэтью уходил из дому в шесть, Несси – в половине девятого, бабушка никогда не вставала раньше десяти часов, а миссис Броуди и Мэри съедали что-нибудь на скорую руку, когда захочется, в тех темных закоулках, где происходила стряпня; так и выходило, что глава семьи садился за свою большую тарелку каши в гордом одиночестве. Ел он всегда с большим удовольствием, а к завтраку, полный утренней бодрости, приходил с особенным аппетитом, и теперь жадно накинулся на кашу, потом принялся за два свежих яйца всмятку (которые полагалось варить строго определенное количество минут и подавать уже вылитыми в чашку), большие мягкие булочки, намазанные толстым слоем масла, и кофе, который он очень любил и который только ему одному в доме и подавался.
Мэри, прислуживая ему во время еды, бесшумно ходила из кухни в посудную и обратно. Поглядев на нее из-под опущенных век, он заметил, как она бледна, но не сказал ничего: такова была его домашняя политика – не позволять женщинам считать себя больными. В данном случае он даже почувствовал внутреннее удовлетворение, приписав подавленный вид дочери и темные круги под ее глазами своей энергичной атаке на нее накануне вечером.
Позавтракав в молчании, он, как обычно, вышел из дому ровно в половине десятого и минуту постоял у ворот, с гордостью озирая свои владения. Удовлетворенным взглядом обежал он всю небольшую усадьбу, отмечая про себя, что на посыпанном гравием дворе не пробивалось ни травинки, на окраске не было ни пятнышка, на сером мрачном камне – ни малейшего дефекта, и с величайшим самодовольством любуясь своим созданием. Ибо дом весь был его созданием. Пять лет тому назад он купил этот участок земли и подробно объяснил подрядчику Юри, какой дом он хочет себе построить, показав ему грубо сделанные им самим чертежи. Юри, человек положительный и прямой, посмотрел на него с удивлением и сказал:
– Будь вы каменщик, вы бы не носились с такими затеями. Но вы, я вижу, фантазер. Да вы представляете себе, как будет выглядеть этот проект в камне и известке?
– Это мое дело, Юри. Не вы, а я буду жить в этом доме, – возразил Броуди со спокойным упрямством.
– Но он потребует много лишнего труда и денег. Взять хотя бы расходы на прорезку такого парапета! А какой в этом прок? – И Юри разложил перед собой на столе карандашный эскиз.
– Расходы мои, а не ваши, Юри, – снова обрезал его Броуди.
Подрядчик нахлобучил шапку, в недоумении почесал голову карандашом, но все продолжал его увещевать:
– Не может быть, чтобы вы это предлагали серьезно, Броуди! Такой дом был бы хорош, если бы он был в десять раз больше, а вы ведь хотите только шесть комнат и кухню. Получится что-то нелепое. Весь город будет смеяться над вами.
– Посмотрим! – угрожающе воскликнул Броуди. – Не завидую тому, кто посмеет открыто смеяться над Джемсом Броуди.
– Да полноте, Броуди, – все уговаривал его Юри, – предоставьте это дело мне, я вам построю хорошую, солидную виллу вместо этой пародии на замок, с которой вы носитесь.
Глаза Броуди приняли странное выражение, в них вспыхнул мрачный огонь.
– Выражайтесь повежливее, когда вы говорите со мной, Юри, черт бы вас побрал! Не нужно мне ваших нарядных бонбоньерок. Я хочу иметь дом по своему вкусу. – Но он тотчас же овладел собой и добавил обычным спокойным тоном: – Не хотите – не надо. Я предлагаю вам работу, а если она вам не по душе, так в Ливенфорде найдутся другие подрядчики.
Юри посмотрел на него и свистнул.
– Вот вы как заговорили! Что ж, ладно. Раз вы стоите на своем, я приготовлю план и смету. Упрямый человек всегда останется при своем. Но только помните, что я вас предупреждал. Когда дом будет выстроен, не приходите и не просите меня снести его и строить другой.
– Нет, нет, Юри, не беспокойтесь, – усмехнулся Броуди. – Я приду к вам только в том случае, если вы не сделаете всего так, как я требую, – и тогда вам не поздоровится. А теперь беритесь за дело и не теряйте времени на болтовню.
Планы были изготовлены, просмотрены Броуди, и постройка началась. Дом вырастал с каждым днем на глазах будущего хозяина, который прохладными вечерами приходил сюда следить, точно ли выполняется его проект, пожирал глазами гладкий белый камень, растирал между пальцами известку, проверяя ее качество, поглаживал блестящие свинцовые трубы, взвешивал и одобрительно вертел в руках тяжелые квадратные черепицы. Все делалось из наилучших материалов, и хотя это сильно отозвалось на его кошельке, можно сказать, совсем истощило его, но так как на свои нужды Броуди никогда не жалел денег и копил он их только для этой единственной цели, то он был горд тем, что цель достигнута, что он может теперь выехать из наемного дома на Ливенгрув-плейс, что осуществилось наконец его заветное желание.
К тому же он оказался прав: над домом никто не смеялся открыто.
Однажды вечером, вскоре после того, как дом был закончен, один из компании праздных гуляк, шатавшихся на площади, выступил вперед и заговорил с Броуди.
– Добрый вечер, мистер Броуди. – Он хихикнул, оглянулся на своих товарищей, видимо ища одобрения, потом снова повернулся к Броуди. – Ну, в каком состоянии сегодня ваш замок?
Броуди хладнокровно посмотрел на него.
– В лучшем, чем вы, – отрезал он и с ужасающей силой ударил насмешника кулаком в лицо, затем достал из кармана чистый полотняный носовой платок, вытер им кровь с пальцев и, брезгливо бросив платок на землю подле сваленного его ударом человека, спокойно пошел дальше.
Положение, которое Джемс Броуди занимал в городе, явно изменилось за последние пять лет; с тех пор как он выстроил себе дом, уважение к нему возросло, но его стали еще больше сторониться, поглядывали на него с опаской. Его общественное значение росло, а вместе с ним и одиночество. Он постепенно становился все более заметной фигурой в городе, у него было теперь много знакомых, но ни одного друга.
Постояв у ворот, он бросил последний взгляд на свой дом, выпрямил плечи и зашагал по дороге. Отойдя немного, он заметил в окне одного из соседних домов чье-то лицо, выглядывавшее из-за занавесей, и усмехнулся про себя: это был мелкий бакалейный торговец Петигрю, который только недавно поселился в столь аристократическом соседстве и сразу же, стремясь поднять свой престиж, решил ходить по утрам в город вместе с Броуди. Великий человек в первый раз стерпел эту вольность, но, когда и на второе утро увидел, что какой-то ничтожный мелкий лавочник снова поджидает его, он круто остановился.
– Петигрю, – сказал он спокойно, – уж не обманывают ли меня глаза? Вы снова здесь? Очень любезно с вашей стороны каждый день провожать меня, но лучше не надо. Притом я быстрый ходок. Идите себе своей дорогой и не утруждайте своих кривых ножек, пытаясь не отставать от меня. Прощайте!
Проходя сегодня мимо дома Петигрю, Броуди саркастически усмехнулся при мысли, что теперь нервный Петигрю избегает его, как чумы, и завел обыкновение по утрам следить за ним из окна: только когда он скрывался из виду, Петигрю осмеливался выйти на улицу.
Броуди скоро миновал тихий жилой квартал и вступил в центральную часть города. Здесь, в южном конце Черч-стрит, какой-то ремесленник с сумкой, в которой он нес свои инструменты, проходя мимо, дотронулся до шапки. При этом знаке почтения, оказываемом лишь самым видным людям в городе, Броуди невольно выпятил грудь. «Доброе утро!» – любезно крикнул он, откинув голову в приступе надменной веселости. Завернув за угол, на Хай-стрит, он зашагал вверх по главной улице, держа палку на плече, как солдат ружье. Дойдя до самого верха Хай-стрит, он остановился у невзрачной с виду лавки.
Лавка была старая, грязная, с узкой, неприметной дверью, с одним небольшим окном, в котором не было выставлено никаких образцов товара; окно это с внутренней стороны было затянуто тонкой проволочной сеткой, которая, закрывая его, как маска, открывала вместе с тем тайну лавки, так как на сером фоне сетки выступало написанное потускневшими золотыми буквами на стекле одно-единственное слово: «Шляпы». Итак, это был магазин шляп. И хотя лавка была самой крупной и известной в городе, она как будто стремилась укрыться от людских глаз и стояла несколько в стороне от линии других домов, позволяя им выступать вперед и возвышаться над нею, словно, несмотря на прочность своего положения, желала оставаться незаметной и, насколько возможно, скрыть свое содержимое и все, что происходило внутри, от любопытных глаз. Вывеска над входом тоже стерлась и поблекла от времени и непогод, краска на ней от солнца местами покрылась мелкими трещинами, местами же была смыта дождями. Но на ней все еще можно было разобрать надпись узкими косыми буквами: «Джемс Броуди». Лавка принадлежала Броуди. Он каждое утро неизменно с каким-то удивлением констатировал про себя этот факт и в течение двадцати лет относился к своему предприятию с иронической терпимостью. Конечно, оно было для него единственным средством к жизни, неприглядным источником приличного и приятного существования, это солидное, верное предприятие, дававшее ему возможность и хорошо одеваться, и беззаботно бренчать деньгами в карманах. Но Броуди относился к нему как человек, который со снисходительным презрением замечает в себе какую-нибудь мелкую, но неприличную слабость. Он, Броуди, – торговец шляпами! Он этого не стыдился, наоборот, – он наслаждался смешной нелепостью этого факта, упивался контрастом между собой и своей профессией, контрастом, который, по его мнению, постоянно должен был всем бросаться в глаза.
Он повернулся и с высокого места, где стоял, озирал улицу, подобно монарху, который показывается народу и милостиво позволяет себя рассматривать. Он, Броуди, – не более как торговец шляпами!
Удивительная нелепость такого положения всегда занимала его мысли, неизменно поражала его. Вот и сейчас, когда он вошел в лавку, чтобы начать свой рабочий день, он внутренне хохотал над этим.
Лавка производила впечатление запущенной, в ней было темно и почти грязно. Во всю длину она разделялась пополам длинным прилавком, который служил барьером между отделением для посетителей и служебными помещениями; на одном конце этого истертого, покрытого зазубринами прилавка стоял ряд подставок из потускневшей меди с надетыми на них шляпами и фуражками разного фасона и цвета. Другим, дальним концом прилавок упирался в стену, и часть его поднималась, открывая доступ к лесенке, которая вела к застекленной двери с надписью на стекле: «Контора». Под этой дверью выступал во все стороны небольшой, имеющий форму полуподковы шкаф из заднего помещения, часть которого отошла под контору. Здесь теперь с трудом умещались гладильная доска и железная печка, сушившая и без того лишенный влаги тяжелый воздух.
В самой лавке стены были оклеены коричневато-красными обоями и украшены несколькими старыми гравюрами. Шляп в лавке было выставлено мало, да и на тех не было ярлычков с указанием цен, а между тем позади прилавка высился ряд больших шкафов красного дерева и длинный ряд полок, на которых до самого потолка громоздились пирамиды картонок.
За прилавком, спиной к этому богатому, но скрытому запасу товаров, стоял молодой человек, наружность которого наводила на мысль о скрытых в нем запасах добродетели. Он был худ и бледен, его лицо своей бескровностью робко протестовало против отсутствия в лавке солнечного света и местами было изрыто почетными рубцами, полученными в непрестанной войне с одолевавшими его фурункулами, неприятной склонностью организма, которую его нежная мать объясняла малокровием и от которой лечила его, постоянно пичкая хинином Пеппера и железом.
Впрочем, его в общем приятного лица ничуть не портили ни эти мелкие недостатки, ни небольшая, но назойливая бородавка, самым неделикатным образом избравшая себе место на кончике носа. Лицо это выгодно оттенялось копной темных волос, всегда торчавших во все стороны, несмотря на то что он усердно их помадил, и так обильно обсыпанных перхотью, что избыток ее, подобно инею, хлопьями лежал на воротнике пиджака. В остальном наружность его была привлекательна, а костюм строго соответствовал социальному положению. Но он распространял вокруг себя специфический кислый запах, вызываемый склонностью к усиленному потению, в особенности ног, – прискорбное, но ничем не преодолимое свойство, из-за которого Броуди по временам выкидывал его вон из лавки через заднюю дверь, выходившую на реку Ливен, посылая ему вдогонку кусок мыла и циничный приказ вымыть благоухающие конечности. Таков был Питер Перри, посыльный, приказчик, помощник, истопник, гладильщик, лакей хозяина и его фактотум – все вместе в одном лице.
При входе Броуди Питер Перри, упираясь руками в прилавок, растопырив пальцы, согнув локти, наклонился всем телом вперед, так что видно было не столько лицо, сколько макушка, и в самозабвении подобострастия ожидал приветствия хозяина.
– Доброе утро, Перри!
– Доброе утро, мистер Броуди, сэр, – ответил Перри с нервной поспешностью, показывая уже немного больше лицо и меньше – волосы. – Сегодня опять прекрасное утро, сэр! Просто удивительно в такое время года! Чудная погода! – Он сделал почтительную паузу и продолжал: – С утра приходил мистер Дрон, сказал, что ему необходимо видеть вас по делу, сэр.
– Дрон? Какого черта ему от меня нужно?
– Не могу знать, сэр. Он сказал, что придет еще раз, попозже.
– Гм! – буркнул Броуди, проходя в свою контору. Здесь он бросился в кресло и, не обращая внимания на несколько деловых писем, лежавших на письменном столе, закурил трубку. Потом сдвинул шляпу на затылок – он никогда ее не снимал в лавке, как бы подчеркивая этим свое привилегированное положение, – и раскрыл газету «Глазго Херолд», предупредительно положенную у него под рукой.
Медленно шевеля губами, читал он передовицу; иногда ему приходилось дважды перечитывать какую-нибудь трудную фразу, чтобы уловить ее смысл, но он упорно продолжал читать. Время от времени он опускал газету и неподвижно смотрел в стену перед собой, напрягая все силы неповоротливого ума, чтобы как следует понять смысл прочитанного. Он каждое утро ставил себе трудную задачу разобраться в политическом содержании передовой статьи «Глазго Херолд»: он считал это обязанностью всякого человека, занимающего солидное положение. Кроме того, читая газету, он запасался вескими аргументами для будущих серьезных разговоров, и этим объяснялось его усердие, несмотря на то что к следующему утру содержание прочитанного совершенно исчезало из его памяти.
Так он упорным трудом одолел уже полстолбца, когда ему помешал чей-то неуверенный стук по стеклу двери.
– Кто там? – крикнул Броуди.
Перри (ибо так стучать мог только Перри) ответил сквозь закрытую дверь:
– К вам мистер Дрон, сэр.
– Какого черта ему нужно? Не знает он, что ли, что я читаю передовицу «Геральд» и не люблю, когда мне мешают!
Дрон, личность унылая и незначительная, стоял тут же за плечом Перри и слышал каждое слово. Это было отлично известно Броуди, и это-то и побуждало его со злобным юмором подавать свои реплики в самой неприятной форме и как можно громче. Со слабой усмешкой он из-за газеты прислушался к происходившему за дверью совещанию вполголоса.
– Мистер Броуди, он говорит, что отнимет у вас не больше минуты, – вкрадчиво уверял Перри.
– Минуту, вот как! Хорошо, если ему уделят и секунду! Я не имею ни малейшего желания его видеть, – все так же громко насмехался Броуди. – Спроси, что ему нужно, и если ничего важного, так пускай этот недоносок побережет свое дыхание, оно ему пригодится для того, чтобы дуть на горячую похлебку.
За дверью снова переговоры шепотом. Перри с энергичной мимикой, которая выразительнее слов, доказывает Дрону, что он сделал в защиту его интересов все, что возможно, и не нарушает его собственной безопасности.
– Поговорите с ним сами в таком случае, – пробормотал он наконец для очистки совести, отказываясь от посредничества и ретируясь обратно за прилавок.