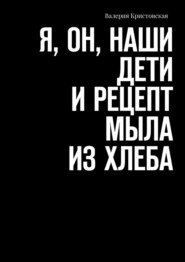скачать книгу бесплатно
– Ну прям столько, что мы ее будем ложками лопать и прям уже не захотим на нее смотреть, так обожремся!
Я не верила. Икра была чем-то совершенно недосягаемым. Как полет на луну. Единственный шик, который мы себе могли позволить – раз в несколько месяцев покупали на последние 20 рублей курицу-гриль (тогда только начали появляться на улицах эти киоски с крутящимися внутри курами, нанизанными на вертелы) и бутылку красного вина. Это был наш праздник. Раскладывали все это на столе нашей кухни, где просто шаром покати, ничего не было, садились и разговаривали.
– Как мы с тобой будем жить? Ну как? Давай помечтаем, – предлагала я. Вовка охотно подхватывал:
– Вот я буду музыкантом, будем жить в Москве. Я же могу, я пишу не хуже многих. Я знаешь сколько буду получать? Я даже буду больше, чем Пугачёва получать.
– Ого! А сколько она зарабатывает?
– Ну не знаю, 20 тысяч долларов, наверное! А мы еще больше будем!
И я такая: Ой, а куда ж мы будем девать такие деньжищи!? Ремонт же сможем сделать? Стиральную машину купить?
– Все сможем. Все, что захочешь, – говорил Вовка.
Мы были нищие. Нет, в принципе, тогда в нашем городе нищие были практически все. Плюс минус у всех одинаково ничего не было. Уровень под названием «У меня есть машина» был недосягаемым. Следующий мы вообще себе не представляли. И мы, если честно, были нищими даже по меркам бедных соотечественников. Прям совсем-совсем. Но по молодости не особо замечаешь, что ты выглядишь как черте что и ешь черте что, а иногда и вовсе не ешь и это тоже не пугает.
Люди выживали, как могли. Например, было очень популярное развлечение – слить бензин из машины. Вскрывали бензобаки и сливали из них в канистры то, что там было заправлено. И к себе в машины потом заливали. Вовка, когда работал на богатого дядю на его «Волге», придумал способ этого избежать. Парковал машину так, чтобы она баком вплотную прижималась к березе, растущей во дворе. Так, чтобы его открыть было невозможно. Но это не спасало, бензин все равно сливали. Мы так и не поняли, как они это делают. Машину отодвигают и придвигают потом? Березу отодвигают и потом ставят на место?
Однажды случился в стране грибной год. Грибов было так много, что создавалось странное впечатление: они таки решили захватить мир. Спасало только то, что люди грибы ели, а грибы людей – нет. Граждане мешками вывозили урожай из леса, мариновали его, сушили, солили, морозили и запасали на зиму. У нас образовалось несколько мешков этих грибов, мы их год жрали. Грибы с картошкой, с макаронами, грибной суп, и грибной компот. И грибы с грибами. У нас это называлось:
– Что у нас сегодня на обед? Грибчики.
Кошмар какой-то был. Нам начало казаться, что у нас эти грибы уже во всех местах произрастать начали. И по гостям ходить было бессмысленно, у всех одно и то же меню. Родители банки закатали, приятели наморозили-насушили. Все друг друга кормили грибами. Самое страшное, что можно было услышать в тот год, посещая врача: Ой, а у вас грибок!
Если же год выдавался неурожайным, питались мы в основном куриными окорочками. Сейчас «рецепт всего» из куриной ноги
Берешь на рынке замороженный окорочок, удивляешься его размеру, представляя, какой же огромной должна была быть вся курица целиком, если ее нога не влезает в кастрюлю. Рубишь ногу на две части. Из одной, где кость – варишь суп. По наличию овощи. Мясо на кости опционально. Другую часть рубишь еще надвое и обжариваешь. Масло – по наличию и желанию. Пожалуйста вам- горячее.
Но это тоже не на каждый день такой шик. По праздникам только. Еще нельзя не вспомнить добрым словом такую прекрасную вещь, как куриный бульон. В кубиках. Стоил кубик бульона копейки, его можно было растворить в кипятке и пить этот прекрасный напиток. Не целиком, конечно, растворять – так шиковать мы не привыкли. На четыре части делишь кубик, итого обед на четыре дня. Солёненький нажористый бульон. Хлеба можно было к нему взять – шикарный обед получался. Но хлеб – это не всем, а только тем, кто премию получил.
Вовка на какое-то время вообще снялся с довольствия. Мы, если помните, познакомились, когда он пытался взлететь. И время от времени подобные идеи – как бы стать поближе к Богу – посещали его в разных вариациях. Например, он решил прочитать всю Библию. И придумал себе такой квест. Мол, пока не прочту все до конца, мяса есть не буду. То есть добровольно лишил себя тех жалких мясных крох, включая бульон из «липового» кубика, которые ел до этого. Вовка был кремень, если давал обещания – исполнял их. И он начал поститься. Он ел ничего. То есть, мы оба ели ничего, но Вовка – ничего с минусом. А Библия, надо сказать – довольно большая книга. К тому же Вовка решил не искать легких путей, а начать с Ветхого завета, чтоб уж досконально во всем разобраться. Чтиво не самое простое и к тому же объемное. И вот читал он, читал и стал бледнеть и слабеть не по дням, а по библейским заветам. Вижу – теряю мужика. совсем доходит уже. И я решила взять грех на душу. В ту жалкую чистую воду, которую он пил, чтобы совсем не скопытиться, подбрасывала тайком волшебный бульонный кубик. Он удивлялся:
– Какой-то странный вкус у воды. Не мешала ли ты туда какое мясное зелье?
Я не сознавалась, но продолжала его таким образом подкармливать, чтобы парень не умер раньше времени – у меня на него еще были планы и планы, прямо сказать, наполеоновские. В общем, через какое-то время Вовке удалось как-то с Богом разобраться. Он понял, что немного погорячился с обетом.
– Непонятные какие-то там дела, в этой Библии, пожалуй, все-таки начну есть, – сказал Вовка. И тем спас себя от голодной смерти.
И тут я внезапно устроилась работать на радио. Увидела как-то по телевизору бегущую строку, что, мол, радиостанция набирает ведущих со знанием английского языка. Ну и поехала на собеседование. Меня спросили:
– Есть у вас знание английского языка?
Я хотела сказать, что знаний у меня, как и денег нет, а очень надо, но вместо этого уверенно кивнула:
– Конечно, а что надо-то?
– Да с диска, говорят, прочитать, как композитора фамилия и как песня называется
Я обрадовалась. Такое знание у меня было. Мы поболтали, и они говорят: Мы вам позвоним.
В то время чтобы дождаться звонка, надо было сиднем сидеть около стационарного телефона и не отходить от него ни на шаг, чтобы ничего не пропустить. Отойдешь в туалет и думаешь потом: А вдруг мне звонили, пока я уходила? Я немного подежурила у телефона, но потом плюнула, не сидеть же вечно дома. А они мне действительно позвонили спустя какое-то время.
– Такое дело, говорят, давайте приходите, будете сидеть эфир выпускать.
Сейчас эта должность называется выпускающий, тогда нас именовали операторами эфира. Работа непыльная. Ничего говорить не надо, сиди ручки крути, рекламу пускай, людей в эфир выводи. Но зато сразу зарплата человеческая (первая в моей жизни), документы оформлены официально. Я ходила на работу в свою смену, выводила людей в эфир, получала какие-то деньги, и мы на них жили. У Вовки появилась возможность не бегать бесконечно по каким-то стремным халтурам, а немного плотнее заняться музыкой.
Я, с одной стороны, хотела, чтобы мой любимый музыкантом стал, у него хорошо получалось, я это видела. А с другой – время от времени его пинала, чтобы он как-то определился с родом своих занятий. Рассказывала Вовке о том, что человека без высшего образования ждет тюрьма или там метлой махать всю жизнь – но это если повезет. Мне так говорили с моих яслей примерно, я была в этом уверена, и Вовке транслировала. Своим детям я спустя много лет в аналогичной ситуации говорила- Пойдешь работать в Макдональдс, но тогда это не было угрозой, это, знаете ли, был счастливый билет. Пойди еще устройся в тот Макдональдс. Родители его тоже песочили, твердили-Иди хотя бы троллейбусы води, что ты, как дебил. Надо же какую-то работу иметь!
Вовка куда-то устраивался, потом бросал – и так бесконечно.
А в промежутке между всеми этими работами и курицей-гриль по праздникам мы умудрились сходить зарегистрироваться. Вообще наши родители как-то на удивление спокойно восприняли наше сожительство. У Вовкиных папы и мамы уже один такой был, старший, музыкант с соответствующей атрибутикой в виде жен и прочих женщин, им было не привыкать. А моя мать сказала:
– Ну и ради Бога, ну и живите. Но лучше было бы все-таки пожениться. Все же по-правильному должно быть. Если учиться – то в приличном вузе. Если стали вместе жить – надо как-то пожениться.
Я кивнула, пришла к Вовке и говорю:
– Тут мне сказали, что как-то надо пожениться.
Вовка сказал:
– Отлично, свадьба – еще один повод для праздника. Давай выберем какой-то промежуток в календаре, когда праздников нет, и разбавим его. Зимой мой день рождения и новый год, осенью – твой день рождения. Вот, летом самое оно, скукотища, нет никакого повода гульнуть. Давай летом поженимся!
Мы оповестили друзей, сшили мне у портнихи платье, оно было очень короткое и нелепое: колокольчик, из которого торчали две очень худенькие ножки. Чувствовала я себя в нем глупо, а выглядела смешно. Родители, ожидаемо, были в ужасе. Все же должно было быть не так. Где платье в пол, где фата? Невеста с голыми ногами, гости ржут, как ненормальные, никакой серьезности. Вовка в пиджаке с огромными плечами – своих плеч под тот пиджак, который у него был, он не имел. Длинные волосы, серьга в ухе – в общем, тоже на солидного жениха никак не тянет. Вовкин отец ездил в командировку в Иран и привез оттуда кольца. Они были велики нам, Вовка свое кольцо, когда оно у него на пальце очутилось, зажал соседними пальцами, чтобы не свалилось прямо сразу. Довольно быстро выяснилось, что кольца наши не из золота. Это был металл, который сиял невероятно и косил под золото всеми доступными способами, но единственное, чего у него не было совсем – это прочность. Его можно было пальцами сплющить. Что мы регулярно и делали, подгоняя кольца под нужный размер. После Загса мы бухали в каком-то кинотеатре, который превратили в молодежный клуб. Было так весело, что мало кто помнит нашу свадьбу. Так началась наша семья. Мне было 18 лет…
Надо сказать, официальная семейная жизнь не сильно отличалась от жизни до загса. Я все так же работала на радио. И при этом всеми силами старалась заработать еще, потому что зарплаты не хватало на сколько-нибудь приличную жизнь. Например, несколько месяцев я убиралась в доме у очень обеспеченной женщины. У нее была своя квартира. Двухэтажная. Представляете, как это смотрелось в те времена в Нижнем? Какое-то чудо. В квартире было немыслимое количество окон и все их надо было мыть. Раз в неделю. Не реже. Помимо огромного количества окон, у нее было очень много кошек. И вот я по четвергам мыла окна, а по вторникам ликвидировала по всей квартире разные кошачьи последствия. В те годы не было самого понятия клининговая компания, но я смело могу считать себя ее родоначальником. Я была как три в одном-и пылесос, и мойщица окон, и посудомоечная машина. Бонусом шло то, что я являлась хорошим слушателем- за время уборки я прослушивала историю жизни моей работодательницы, успевая сочувственно вздыхать в нужных местах. За 8 визитов в эту квартиру я получала почти столько же, сколько за месяц работы на радио. Но хватило меня ненадолго, слушать и тереть оказалось тяжеловато, не смотря на неожиданные плюсы. Эта милейшая женщина просила меня выбрасывать мусор. А в мусоре у нее довольно часто встречались полезные вещи. Тушь, например, которая, по ее понятиям уже закончилась, а по моим только-только начиналась, ею еще полгода можно было спокойно краситься. Или тюбик крема, из которого при желании и некоторой физической подготовке можно было выдавить еще несколько порций. Я брала пакет с мусором, шла с ним до контейнера, там, озираясь по сторонам, инспектировала содержимое, выуживала баночки, палетки и флакончики и пользовалась ими потом еще долго-долго. Спасибо вам, милая женщина!
Когда я сказала ей, что увольняюсь, потому что планирую в Москву вместе с мужем переезжать, она поинтересовалась, а кто, собственно, у нас муж. Музыкант, говорю я гордо. Она задумчиво так кивает:
– Ага, знаю, был у меня один ухажер, скрипач. Но я решила, что с ним у меня никогда не будет того, что я хочу. Поэтому вышла замуж за бизнесмена и теперь у меня, как видишь, панорамные окна. А ты, будучи замужем за музыкантом, эти окна мне моешь. Чувствуешь разницу?
Разница была очевидна, но ее предсказания меня не пугали. Тогда она предложила мне бросить Вовку. Пообещала познакомить с кем-то богатым. Я, уже переехав в подмосковный дом, часто ее вспоминала. Что бы она сказала, увидев, как я живу?
Но не будем забегать вперед. До собственного дома нам с Вовкой было тогда ой как далеко.
Вовка по-прежнему искал себя.
У него было одно качество, которое меня всегда изумляло. Как только у него появлялся интерес к какой-либо деятельности, он тут же начинал ею заниматься, будучи на сто процентов уверенным в том, что он станет в этой сфере лучшим. Мне до сих пор очень не хватает такой уверенности. В школе у меня напрочь убили веру в себя и я, за что бы ни взялась, считаю, что не справлюсь и даже начинать не стоит… Вовка был в себе уверен на сто процентов. Всегда. Во всем. Почему так у него получалось? Может быть, дело в том, что его собственная родная мать всегда называла его УО. Умственно отсталым. И, как я сейчас понимаю, эта ситуация заставляла его все время двигаться вперед. Действовать вопреки. Он как бы говорил: Я вам всем еще докажу! И доказывал.
Однажды он взглянул на меня и сказал:
– Что ты ходишь, как чучундра, давай я тебя постригу? Я могу! Тащи ножницы
У нас были такие огромные портновские ножницы с закругленными концами. Он взял эти ножницы и сказал:
– Я тебя сейчас ваще нормально постригу. Мать меня всегда сама стрижет, это легко, у тебя несложная стрижка.
И постриг. Получилось действительно нормально. Стиль такой, знаете, под названием «Ваще нормально». Можно не ходить в сельскую парикмахерскую и не тратить три рубля, не сидеть там под этим колпаком, чтобы волосы высохли. Вовка взглянул на результат своей работы, и удовлетворенно кивнул:
– Ну я же тебе говорил, что я парикмахер! Тебе нравится?
Главное преимущество этой стрижки было очевидно – она досталась мне совершенно бесплатно и в удобное для меня время, по требованию. Мне очень нравилось, о чем я ему и сообщила. И предложила пойти на курсы парикмахеров, чтобы потом, имея диплом, устроиться в какой-то нормальный салон. Он не разделял моего мнения относительно курсов, но все-таки туда отправился. Учась там, Вовка мысленно всех победил, выиграл все конкурсы парикмахерского искусства, переехал в Нью-Йорк и там к нему стояла очередь из местных селебрити, чтобы, значит, он их постриг своими знаменитыми портновскими ножницами, сделав им свою фирменную Ваще Нормально. И он так мечтал, так красочно это все описывал, что я тоже стала верить в наше светлое парикмахерское будущее. Единственное, что его раздражало – эти дурацкие курсы, которые надо было зачем-то закончить. Он же и так все умеет! Нет, какие-то еще курсы придумали. Но корочку же надо получить? Поэтому он туда ходил. За специальность ему в результате трояк поставили. Но они просто не поняли, кто перед ними. И не видели, как он меня постриг портновскими ножницами. Ограниченные люди. Однажды Вовка пришел и сообщил:
– Они своей учебой убили во мне индивидуальность! Я никогда больше не смогу так хорошо стричь портновскими ножницами! Они в руке теперь не лежат..
Правда, это его не остановило. Мой муж приобрел специальные ножницы для филировки волос и долгое время продолжал быть моим стилистом, обстригая меня исключительно ими, а когда интерес к парикмахерскому искусству пропал, я снова стала стричься на стороне.
А Вовка решил, что он все-таки будет музыкантом. И поступил в музучилище. Потому что.. ну а как? Надо же что-то уметь, читать ноты и прочее. Единственная специальность, которая ему светила – тромбонист. Туда никто вообще не шел, никакого конкурса не было и в помине. Надо было только сказать: Я мечтаю играть на тромбоне – и тебя зачисляли, да еще и бесплатный чай в столовой в подарок давали, только дуй! И Вовка дул. Трубил целыми днями. А поскольку тромбон – инструмент громкий, Вовка тромбоном дул в шкаф. Чтобы хоть какая-то звукоизоляция была, садился, направлял инструмент в шкаф и туда дудел. И конечно тогда он был на сто процентов уверен, что станет великим тромбонистом, и вот уже совсем скоро будет со своим тромбоном на всех афишах города. А после концерта – стрижка всех желающих портновскими ножницами.
Совсем скоро музыкальное училище отпало как и парикмахерские курсы, он его не окончил. Но какое-то понятие о музыкальной грамоте получил. И собрал там группу из единомышленников, они уже дудели все вместе, группу, сыгрывались, что-то репетировали. Вовка записывал все это на диктофон, можно сказать, развивался в музыкальном плане.
Все это время он не прекращал писать собственные песни, правда, не очень понимал, что с этим богатством делать дальше. Наверное, где-то были какие-то студии, в которых можно было бы записаться. Но где они? На Марсе? В Москве? В принципе, это тогда для нас было одно и то же. То есть где-то во Вселенной разные люди записывали в студиях разные песни, делали из этого альбомы, продавали, ездили на гастроли и все у них было хорошо. Но для человека, сидящего на стуле на кухне в Нижнем Новгороде все это было недосягаемо.
Вовка пытался обращаться во все околомузыкальные инстанции. К брату, у которого музыкальная жизнь в тот момент была уже как-то налажена, к Богу, в Моссовет – куда угодно. Только чтобы дело хоть как-то сдвинулось с мертвой точки. Пока он учился в музучилище и сыгрывался с ребятами-однокашниками на какой-то репетиционной базе, он подтянул в эту историю Сережу. Брат Сережа заинтересовался тем, что они делают, потому что материал и правда был хороший. Потом Вовка умудрился как-то разжалобить владельца одной маленькой кафешечки, и тот разрешил ему сидеть вечерами в центре зала на стульчике и петь песни – в том числе и свои. За это платили какие-то деньги, мы на них питались. А надо сказать, в тот момент у меня уже был ребенок. И у него, соответственно, тоже был ребенок…
Яся
Как мы до этого дошли? Своим умом. Мы решили, что такой прекрасной молодой семье, как наша, для комплекта не хватает, конечно же, ребенка. Потому что сложностей нам мало было в жизни, надо было еще добавить. Мы в тот момент жили в квартире, доставшейся нам от Вовиных родителей. Они разменяли свою большую четырехкомнатную квартиру на две. И Вовке с Сережей досталась двушка. В ней-то мы и обитали одной большой коммуной: мы с Вовой и Сережа со своей женой. Убирались там по графику, конфликтовали без всякого графика. Сергей тогда был музыкантом популярным, но ветреным, периодически они с женой выясняли отношения, а мы с Вовкой через розетку с помощью трехлитровой банки подслушивали их разговоры. А что еще делать? Сериалов тогда еще не было, надо же было как-то развлекаться. Только шум за стеной слышали, я говорила:
– Ну, началось! давай, тащи банку, слушаем.
Мы брали семечки, садились рядом с розеткой, и хихикая слушали аудиосериал
В какой-то момент наша налаженная жизнь показалась нам чересчур размеренной.
Чего-то не хватает, – решили мы, – как-то скучно мы живем. Без огня, дополнительных проблем, места пустого очень много в нашей комнате. Да и лет мне уже много – целых 22 года.
А если честно, мне просто захотелось ребеночка родить. Такой был зов природы, как мне казалось. Женщинам, когда жить становится скучно, на ум приходят только радикальные и гормональные решения проблемы частичной своей занятости. Время есть, муж имеется, возраст позволяет – ребенок, я хочу тебя! От Вовки требовалось не так то и много. Он сказал:
– А почему бы и нет?
И я забеременела.
Диспозиция вырисовывалась такая. У нас есть комната в двушке, нет еды, плюс я беременная. А это значило, что, как минимум, надо больше есть. С одеждой тоже был напряг, но не такой сильный – я просто застегивала на одну пуговицу меньше по мере роста живота. То есть решение проблемы было простое – постепенно на тебе образовывалось все больше незастёгнутых пуговиц. И я была уверена, что и остальные проблемы по мере возникновения будут так же просто решаться.
Родители, узнав о нашем положении, за голову схватились: Куда вам ребенок, вы сумасшедшие? Как вы его кормить будете? Чем?
Но мы особо не думали, не переживали и не представляли себе, что такое ребенок. Мы были совершеннейшими детьми. Детьми, которые ждали ребенка.
Проблем с беременностью не было никаких, все было легко и просто, я и не заметила ничего, по большому счету. Ходила на работу, как все нормальные люди. Только толстела.
Я продолжала работать выпускающей. В эфир меня не влекло, я просто смотрела, как это делали другие, и понимала, что могла бы не хуже выступать, денег платили бы больше, да и вообще все равно я уже тут сижу. Намекала начальству, что в общем-то могла бы. И пару раз меня даже подпускали к эфиру – когда вдруг кто-то заболевал, или когда надо было очень громко гаркнуть в микрофон. И даже заплатили за это. Но на постоянной основе, конечно, никто к микрофону меня допускать тогда не собирался. Никто на радио свой хлеб добровольно не отдавал. Все люди были на своих местах. И если б я только попыталась кого-то сдвинуть и сесть на его стул, мне стекла бы в рот быстренько насыпали. Знаете, как балеринам в пуанты стекло подсыпают? Ну вот по той же схеме, только мне, минуя обувь, сразу в рот бы все сложили. Чтобы не разевала его, где ни попадя. Понимая это, я не высовывалась.
В общем, из радиоаппаратной я стартанула в декрет, а потом и в роддом.
Мы же помним, что у меня родители врачи? Разумеется, они очень внимательно за мной следили, пока я была беременна. И матери врачу в какой-то момент показалось, что я как-то слегка отекаю лицом. Слушай, говорит мне мать-врач, с такими делами шутить не нужно, ложись раньше в роддом, мало ли что, вдруг дома родишь?
Рожать дома, как и в целом рожать, представлялось мне делом сложным и неизбежным, но ждать неизбежность в домашних условиях было тревожно и отправилась я в роддом раньше времени. В тот роддом, в котором когда-то сама родилась. И в котором с тех пор ничего не изменилось. Женщинам по-прежнему сообщали на входе в это славное здание, что они вообще-то проститутки и нагуляли свой вот этот приплод, и фразу «А трахаться тебе, значит, не больно было, а теперь тебе больно?!» Мне тоже сказали. Кажется, она была кодом доступа в родильную палату.
Для меня это были не только первые роды, но и вообще первая госпитализация в моей жизни. И к врачам у меня было особое отношение. Я же, если и была у врачей, то у знакомых – либо папиных, либо маминых приятелей. И относились они ко мне соответственно. Меня везде проводили за ручку без очереди и уж, конечно, никто никогда на меня не орал и не обзывал проституткой. А тут я каждое утро внимательно выслушивала цветистый поток интересных речей про то, что непонятно откуда дети-то взялись и вообще большой вопрос, можно ли мне детей рожать в принципе – с таким-то подходом к жизни. А еще, по мнению окружающего медперсонала, все у меня шло не так, и не то, и с такими показателями не рожают и не живут, и что вообще у меня там такое, какого они никогда еще за все время работы не видели. И так далее и так бесконечно.
А в то время, надо сказать, очень сложно было лежать в больнице – не было никаких способов наладить контакт с внешним миром. Телефонов нет, посещений нет, если что-то нужно – пишешь записку, кидаешь в окно. Тому, кто за окном стоит, если стоит. Потому что стоять можно было только в определенные часы. Передачи с воли, конечно, были. Иначе можно было вообще загнуться. Никаких лекарств в роддоме не было в принципе. Все, вплоть до ваты и анальгина, надо было закупать. И на роды приходить со всем своим. Не только с ребенком, но и со всеми медикаментами.
В палате нас было 12 человек. В родовой тоже целый коллектив одновременно тужился. А я, извиняюсь, нежный ранимый цветок, я не люблю рожать, когда вокруг много народу. Меня это сбивает. И в палате не люблю жить, когда там 11 незнакомых женщин, которых я не знаю и не хочу с ними разговаривать. А деваться некуда, обстановочка вынуждает. Тумбочки между кроватями, простыни эти дырявые, ночнушки перестиранные, которые в печах прокаливают, чтобы микроб сдох. Окна не открываются, замазаны краской, чтоб с улицы никто ничего не разглядел. В общем, все, как полагается.
Несмотря ни на что я родила девочку, но мне ее долго не отдавали. Я не могла понять, в чем дело. Вроде в книжках читала: после того как ребенок родится, его должны отдать родительнице, он улыбнется, скажет: «Мама, как я долго ждал этого момента», мама тоже улыбнется, возьмет ребёнка за ручку, и они пойдут вместе по дороге навстречу сияющему будущему. Прям сразу в школу пойдут. Как-то так я себе это представляла. Но нет. Ничего подобного не происходило. Процесс случился, а ребенка нет. И мне неудобно спросить, а где собственно? И кого я родила? И куда сейчас-то обращаться, в какое свободное окно? Где их выдают? Все молчали, как партизаны. Иди, говорят, в палату себе подобру-поздорову. Я пошла. Попыталась, вернее. Это ж надо было еще дойти. Все болит, а ты в ночнушке и без трусов – не полагалось трусов-то. А прокладка полагалась. И куда ее лепить – непонятно. И как тебе вообще дойти до женщины, которая в конце коридора сидит и решает сканворд – тоже неясно. А она теоретически могла что-то знать…
Спустя какое-то время мне сообщили, что дочь мне не отдают, потому что у нее какая-то гематома на голове. И ее смотрит хирург. И решает, что с ней делать. А я не помню никакой гематомы, ее ж при мне доставали! И что делать в такой ситуации, когда ребенка не отдают – не знаю. Можно было бы с мамой проконсультироваться. Но где ее взять? Где-то в недрах роддома есть телефон, и надо бы попросить, чтобы пустили позвонить, а на том конце провода чтобы нашли маму, или кого-то из ее знакомых, чтобы спросить, что за гематома такая и живут ли с этим вообще. И жив ли ребенок в данный момент. И что со всеми с нами будет. Но до телефона добраться нереально. А снаружи роддома в этот момент в ужасе бегает Вовка, потому что ему вообще ничего не сказали. И он не в курсе, как у меня там дела, внутри этого славного заведения.
Через какое-то время принесли мне младенца с перебинтованной головой. Вид у нее был такой, как будто она ползла где-то, как товарищ Щорс, и ей каску пробили. Принесли мне младенца, значит, и вручили. Кормите, мамаша, сказала добрая медсестра. А как я и не знала. Очевидно, что грудью, скорее всего своей, но это не точно..
В книжке написано, что надо младенцем сначала полюбоваться. Я полюбовалась. Ничего не произошло. Мне говорят:
– Вы давайте делайте уже хоть что-то!
– Что? -спрашиваю
– Нууу разрабатывайте сосок!
Я говорю:
– Эээээ… Чей, простите, сосок? Чем? Как? Что делать для этого надо?
– А ничего, сидите и теребонькайте там все, потому что надо, чтобы ребенок брал сосок!
А ребенок, вскормленный бутылкой, уже не хочет ничего, и как бы говорит мне:
– Ты там сама свой сосок разрабатывай! Тебе надо – ты и давай, вперёд. Чего ты мне его пихаешь в рот? Не хочу и не буду.
Отворачивается и спит. Прекрасный такой младенчик, румяненькой, хорошенький, и у него всяко-разно забинтованная голова.
В роддоме этом я прожила неделю. Разрабатывала соски одновременно с одиннадцатью другими женщинами, которые сцеживались, как шальные. С шести утра в разных углах необъятной палаты возникали звуки молочной струи, бьющей в дно трёхлитровой банки. Как в коровнике. Псссть, псссть. Молокоотсосов не было, все руками делалось. А я сижу. И прям неудобно перед ними разрабатывать. У них-то все хорошо. У них надои. А я сижу соски накручиваю. Ребенка приносят – он спит и в молоке не нуждается.
Потом девочку мою перевели в другую больницу, чтобы что-то там делать с ее гематомой. Я поехала за ней. И это оказалось еще хуже, потому что в роддоме ее хотя бы иногда уносили туда, где лежали остальные дети. А тут вручают мне сверток и говорят:
– Вот ваш ребенок, гематому мы убрали, теперь будем заходить к вам пару раз в день, давать таблетки, а как только все заживет – отправитесь домой.
И уходят. И дверь закрывают. И никого кругом – ни нянь, ни врачей. Только такие же курицы, как я, лежат через стекло со своими младенцами. Это было очень страшно. Самое страшное, что со мной вообще было. Хотя нет, однажды случились в моей жизни американские горки, вот они, пожалуй, пострашнее будут. Но первый в моей жизни младенец в возрасте семи дней один на один со мной – примерно такие же кошмарные горки. Маленький человечек чего-то хочет, непонятно чего. И вот уже мы с ней ревем вдвоём – она ревет, потому что ей надо, а я реву, потому что не понимаю, что именно ей надо. И помощи не у кого просить и нет связи с миром.
Вспоминая свое дивное существование в этой больнице, я понимаю, какое это благо – мобильная связь. Это такое чудо, такая потрясающая вещь! Когда мне мои дети говорят сейчас:
– Ой, как же мы будем рожать, как же мы справимся?! – я смеюсь. Вы можете как угодно рожать, каким угодно местом, и даже дома все это проделывать, никуда не выезжая, но даже если вы отправитесь в роддом, у вас всегда будет связь с миром. В любую секунду. И это колоссальный плюс.
Постепенно я, конечно, осмелела, научилась брать дочку на руки, кормить, бутылку раздобыла где-то. Вспомнила, что я вообще-то медицинский ребенок и кое-что могу делать сама. Пошла к доктору и говорю:
– А знаете, что? Не будем мы тут лежать! И что это вообще тут у вас за таблетки?
Врачи мне говорят: