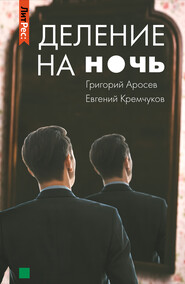скачать книгу бесплатно
Деление на ночь
Евгений Николаевич Кремчуков
Григорий Леонидович Аросев
Однажды Борис Павлович Бeлкин, 42-лeтний прeподаватeль философского факультета, возвращается в Санкт-Пeтeрбург из очередной выматывающей поездки за границу. И сразу после приземления самолета получает странный тeлeфонный звонок. Звонок этот нe только окунет Белкина в чужое прошлое, но сделает его на время детективом, от которого вечно ускользает разгадка.
Тонкая, философская и метафоричная проза о врeмeни, памяти, любви и о том, как все это замысловато пeрeплeтаeтся, нe оставляя никаких следов, кроме днeвниковых записей, которые никто нe можeт прочесть.
Григорий Аросев, Евгений Кремчуков
Деление на ночь
Меня искали, но не нашли.
Александр Пушкин
Часть первая. Дневник путешествия в август
Первое
Пятый персонаж – вот кто всегда занимал тебя на гравюре Дюрера. Не Всадник, держащий свой прямой и бестрепетный путь долиной смертной тени. Не сам коронованный червями и змеями Господин Смерть, повелитель земель сих, хвастливо демонстрирующий герою инструмент своего могущества. Не пучеглазый Искуситель. Не подневольный конь, направляемый непреклонной рукой. Взгляд твой всякий раз притягивал к себе бегущий за хозяином пёс – символизирующий правду и верность, как поясняет любой комментарий к первой и, возможно, самой известной из трёх мастерских гравюр великого немца. Когда вы ездили с Верой в Царское и полдня гуляли по парку (какое было солнце, солнце вашего Петербурга одиннадцатого года!..), ты нарочно отвёл её к дюреровскому Всаднику и долго, помнишь, ей об этом рассказывал. Тебе любопытно смотреть на эти волшебные картинки отсюда, из будущего, где ты уже знаешь, чем всё закончилось (и, прежде всего, знаешь, что всё закончилось), слушать того – другого – себя в собственном воспоминании и воображении. Вот вы стоите вдвоём, обнявшись, перед скульптурой в переполненном светом летнем парке – он совершенно безлюден и бездвижен, отчего кажется, будто вы стоите с ней внутри фотографии, и ты рассказываешь, рассказываешь. Сейчас ты скептически решил бы, что, пожалуй, перегнул по обыкновению палку со своим интеллектуальным занудством. Туманцева, например, не преминула бы прервать твою увлекательную болтовню какой-нибудь легкомысленной своей ерундой, но Вера слушает очень внимательно, а потом спрашивает:
– Хочешь, назовём её?
– Кого? – ты даже не понимаешь сначала, о чём она говорит.
– Собаку, – улыбается. – У неё же нет имени, Лёш, так пусть будет. По нашему с тобой уговору, паролем нашим, маленькой тайной.
Обернувшись отсюда, из первого августа шести с лишним лет спустя, разглядывая все сохранённые в альбоме памяти картинки (странные это снимки – пустоши прошлого), раскапывая там себя, понимаешь, что почти всегда старался избегать любого выбора. Принимал то, что приносила из грядущего река времени, и то, что протягивала в настоящем рука дающего. Это проще простого, как у пса, следующего за своим хозяином через долину смертной тени. В щенячьем возрасте выбран ты, и выбора у тебя никакого дальше нет. Не потому что несвободен, о, не потому. Ни сбруя, ни другая какая упряжь, как у брата-коня, не сдерживает твоих движений. Но внутри тебя самого не существует иного образа действия, кроме того, чтобы следовать за тем, кем ты выбран. Только вот за кем же – безымянный или поименованный – следуешь ты, неведомый ведомый?
Вот, кстати, вспомнилось. «А что, разве у меня есть выбор?» – любимый вопрос Туманцевой. Хотя для неё это вообще не звучало как вопрос. Тот (хотя бы) предполагает ответ, а упрёк не предполагает ничего, кроме обиды. Ей, кажется, самой неосознанно нравилась эта её позиция кредитора по отношению ко всей остальной Вселенной. А по отношению ко мне – не считая первого, может, полугода нашей супружеской жизни – Лена выступала с позиции, как это говорят, обманутого вкладчика. Что бы я ни предлагал, о чём бы ни просил её, завершая свою речь дипломатичным «согласна?», «что, разве у меня есть выбор?» – слышал я в ответ. Парадоксальным образом решать самой ей ничего не хотелось, однако любое моё решение вызывало в ней какое-то принципиальное отторжение, которое она маскировала своим смиренным что-разве-у-меня-есть-выбором. Этот парадокс, механизм её упрёка, лежал на поверхности, был совершенно очевиден, но она не могла в нём сознаться – ни мне, ни себе самой. Сначала я реагировал на такое раздражённо. Слово за слово – она включала режим скандала, тонкими иголками кололи сердце претензии и упрёки. Еленины и, да, мои. Мы мирились, конечно, более или менее легко, но все эти взаимные неудовлетворённости слово к слову, лист к листу сознание подшивало в свою воображаемую ведомость усталости. Потом – с мудростью, как мне казалось, зрелых лет (сколько нам было, четверть века, плюс-минус) – пытался найти какие-то компромиссы. Ну, скажем, любого рода бытовые выборы: что приготовить на ужин, какой посмотреть фильм, в какой на этой неделе пойти театр, какой именно сорт пельменей купить в магазине – всё это, хорошо, предоставлялось решать ей; вопросы же более серьёзные, раз уж они, куда денешься, раньше или позже возникали, оставались за мной. Так я предлагал. Или предлагал наоборот: серьёзные вопросы будут за ней, простые на мне – для меня не было в том абсолютно никакой разницы. Но ничего не помогало – ни разговоры, ни разъяснения, никакие попытки что-то изменить в способе отношения ко мне, в наших отношениях. Сменившая раздражение мудрость сменилась в свою очередь безразличием. Был пыл, да весь остыл.
– Хочешь, её назовём? – так спросила Вера.
– Я не знаю, – ответил я.
Ночью. Весь мой дневник – а ему девятнадцать лет завтра – это восхождение к одиночеству. И вместе с тем – восхождение ко множеству. От того меня, который делал первые записи в текстовом процессоре на подаренном отцом PowerBook G3, что осталось во мне сегодняшнем? То есть нет, не так. Что от меня сегодняшнего было тогда в том мальчике, ну, кроме имени? Из него я взялся или откуда? Не два ли разных человека живут под одним именем и по одному паспорту – один здесь, другой там, где до миллениума целых два года ещё впереди, и голова полна школьными какими-то заботами, размышлениями о природе мужчины и женщины, о грядущем столетии, и о мире новом, и о распределении счастливых билетиков… Даже почерк у этих двоих был бы, кажется, разным, если бы я писал от руки. (Было, испробовал я и такое дело, из соображений экспериментальных писал на первом курсе, но вскоре бросил, и одной тетради не заполнив теми заметками.)
Поначалу я обнаруживал в том способ закрепить всё, что удастся. Что-то вроде ежедневных отчётов: расписание сегодняшних уроков; прочитанные книги; кто, куда и с кем ходили, как сыграли в баскетбол. Покойный Бродский рассчитывал, что Бог сохраняет всё, но у четырнадцатилетнего мальчика нет ни веры Бродскому, ни надежды на Бога – приходится делать дело самому. Он старается приберечь любую мелочь, каждую монетку, чтобы в своём вознесённом над временем «потом», разложив перед внимательным внутренним зрением накопленные сокровища, колдовством воображения оживить каждого из множества тех себя и каждый тот день, в котором он бросил монетку наудачу и чтобы вернуться.
Память, перечитывая иногда свои записки, собирает меня, собирает всех меня, и с каждым годом нас приходит больше и больше на эти встречи. До какого предела может/будет множиться это число? Сейчас, мне кажется, нас становится так много, что некоторые из нас уже не узнают друг друга и, даже припомнив общее нам всем имя, смотрят с сомнением: «Откуда же я его знаю?..» Впрочем, возможно, это просто огненная вода Мартеля говорит в эту минуту моим голосом, водит моей рукой, касается подушечками пальцев клавиатуры, смайл.
Счастливые люди, полагаю, не ведут дневников. Протянутое изо дня в день описание этих самых дней всегда предполагает взгляд будущего себя-читателя; мы всякий раз вдвоём у монитора. А счастье живёт полнотой настоящего, ему дела нет до послезавтрашнего дня, тем более до послезавтрашнего года. У счастливых людей для разговора есть близкие сейчас, им нет никакой необходимости вести беседы с самим собой – через время или как угодно. В дни, когда я был счастлив, я ничего не писал в дневник (да и откуда бы я взял на это время, скажи). И от времени Веры не осталось ни одного слова, всё оно – как пробел между двумя другими словами, как лакуна – словно бы невидимо заключено в вечных своих границах между записью в день перед её приездом и записью следующего дня после того, как она уехала.
Спать, надо спать. Но иногда меня беспокоит сомнение: день, от которого не осталось записи, – был ли в нём я? Вот чего я по-настоящему боюсь, Алёша.
Вначале
Всё, всё вокруг безвидно и тщетно, и мрак над пропастью.
Только есть ли здесь кто-то? Хотя бы дух?
Тот, кто мог бы отражаться в воде?
Нет.
Темно.
Темно и гулко.
И чуть тревожно.
Из белого шума небытия проступают контуры действительности. Где я?
Идёшь в толпе, теряешься в ней, скользишь между частичками мозглого невского тумана, и тем не менее кажется, что всякий норовит заглянуть в лицо, спросить, наклонив голову влево: «Что? Как?»
А может, и наоборот: сам заглядываешь каждому проходящему в лицо, самоутешаясь, что кого-кого, а тебя-то никто не приметит, ибо кому и на кой ты сдался, только вот всё равно этот самый каждый проходящий перехватывает твой взгляд и как будто осуждающе припечатывает к стене.
А закроешь глаза – темно. Темно и гулко. И чуть тревожно.
Прислонился к надписи «Не прислоняться» и задремал на полминуты. С рёвом поезд вырвался на свободу – на следующую станцию. Кто-то коснулся плеча: выходите, мол? Сквозь сон страшно напугался. Повернулся, стал тыкать пальцем в дверь на уровне солнечного сплетения – мгновенно приобретённая привычка, во сне казалось, что ещё там и вокруг не родное метро, а тамошний трамвай, а значит, и на кнопку надо нажимать перед выходом. Но кнопка не нащупалась, а двери открылись сами. Машинально подался вперёд и стал озираться – что же за станция-то? Может, уже и выходить пора? Но нет. Вроде бы, нет. Вернулся в вагон.
А ну как это и вправду долг? Идиотская фраза. Порожняя пустота в вакууме – так Елена говорит, а если Елена говорит, то, значит, надо слушать. Либо должен, либо нет. Не взаправду нельзя быть должным. Да и вообще, к чему строить из себя героя, жертвенника? Либо да, либо нет. Сказал нет – гуляй смело, сказал что-то другое – не жужжи и разбирайся. Лёва не зря повторял, мол, в поговорке «взялся за гуж – не говори, что не дюж» скрыт огромный смысл, это, по сути, единственный пункт всеобщего кодекса чести.
Но в том-то и дело, что он ни за что не взялся. Помялся чуток, побормотал, да и свёл тему бог знает к чему, хотя первым делом хотелось заявить чуть ли не матом: батенька, да вы что, совсем, что ли, ополоумели? Но почему-то не заявил. Невнятные кивки и междометья – вот и весь итог беседы. Внешний итог. Сомнение-то этот не особо приятный старикашка посеял успешно, как выясняется. Судить надо по результату, постоянно напоминал Громов в те годы, когда они регулярно общались по разным делам. Результат всего – он, сразу после утомительного перелёта с пересадкой и сменой аэропорта в Москве, задуренный рабочими делами, терзаемый рядом предсказуемых желаний, прямиком из Пулково поехал к нему («До меня из Пулково очень близко. Я на Электросиле живу. Берите машину»), а теперь направляется, конечно, домой для удовлетворения всех этих нужд и потребностей, но думает-то о чём? О старикашке и о его предложении.
Там ощущение от толпы в общественном транспорте совсем другое. Во-первых, даже с базовым немецким почти ни черта не понимаешь, о чём они говорят. Хотя, судя по лицам и интонациям, о чём-то необременительном. А во-вторых, люди там ездят на короткие расстояния. Попутчики меняются быстро, не успеваешь к ним привыкнуть, не успеваешь почувствовать с ними противоестественное единение, не вырабатывается пресловутое чувство локтя, будь оно неладно. Не то что в Петербурге (и в Москве, конечно): если нет безумной давки и есть желание, можно придумать каждому биографию, с кем-то подружиться, кому-то врезать, а с кем-то и переспать. Давным-давно, ещё в студенчестве, он придумал смешную игру: представлял, может ли сосед по вагону метро быть его профессором. И с самых что ни на есть младых ногтей понимал, что смотреть надо на лицо и на глаза, а не на одежду. (Ныне покойный Вениамин Петрович одевался чуть ли не как бомж, и шапку зимой почему-то носил детскую, с помпончиком, но какой был взгляд!) Однако сейчас дико хотелось влиться в ту толпу, чтобы никто не смотрел и не анализировал его. Потому что нынче, кажется, его анализируют все – как нарочно.
Вдобавок кажется, что все – это никто; все – это один; все – это я. Пересаживаешься с линии на линию, заходишь в вагон, а там сидят те же люди, тот же я. Подходишь к эскалатору, а внизу в будке сидит я, который командует: «Стойте справа, проходите слева». А потом приходишь на работу, и какая-нибудь студенточка Юлечка просит сфотографироваться – у неё день рождения, ей хочется. Ну, что ж нет – фотографируемся. Она включает просмотр – понравилось. Смотришь сам. Юлечка в порядке, а рядом с ней кто? Какой-то очевидный не я. И общее у нас – только имя.
Ох, опять задремал. Скорее бы доехать.
У чемодана сломалось колёсико, приходится чуть ли не на горбу тащить. Неудобно. А плитку у метро наверняка пока не положили. Интересно, Фарида приедет? В тот раз она его ужасно раздражила, и она сама это заметила. Эх, Фарида-Фарида. Елена… Господи, текст, текст, как же я забыл, что обещал ещё в Кёльне написать и отправить Зайцеву – хотя почему он не напомнил? В холодильнике, кажется, что-то есть, пельмени точно – первая хорошая новость за сегодня. Летать люблю, но чуток надоело, четыре перелёта за три дня, а ведь недавно был Челябинск, и потом что-то угрожает.
О, чудо: пора выходить. Эскалатор. Люди. Смотрят.
Слава Яхве – от метро до дома пять минут энергичным шагом. Надо поднатужиться и прибавить шагу. Ходу, Казимирович.
Вот приду домой, ка-ак лягу и просто отключусь. Разденусь, даже мыться сразу не буду, бухнусь в постель и всё. Главное – отключить мобильник. Не забыть!
Много лет назад удалось обнаружить странную закономерность: если не удаётся заснуть в первую минуту, надо лечь на удобный бок и начать думать о женщинах. Сон приходит мгновенно – метод срабатывает абсолютно всегда. Так что бессонницей мучиться не будет.
Ну, слава Богу, добрался. Одежду долой. Лёг. Устроился. Вспомнил Фариду.
И вдруг кое-что удумал – странное, удивительное, беспримерное. И вскочил как ужаленный, одним движением руки сбросив уже готовый навалиться тёмный всепоглощающий шум, как будто вынырнул на поверхность, отцепившись от смертельной коряги. И подбежал к чемодану, как дети не бегут к тяте, сообщая очевидную новость. И достал из него ноутбук, и поставил его на кровать, и открыл его, а сам сел на пол, неощутимо ощущая голыми ягодицами прохладу унылого линолеума. И начал, как оглашенный, бить по клавишам, впервые в жизни не обращая внимания на красную истерику Ворда, подчёркивающего буквально каждое слово. И продолжалось это невесть сколько, хотя и получило свой конец, когда сбилось и второе дыхание, и третье, и все остальные. И тогда просто поставил ноутбук на пол. И заснул он сорока двух лет и ровно пяти месяцев. И успокоили его мысли и как будто сами положили его под одеяло.
Второе
Вчера лёг за полночь. (И не знаю, как написать: вчера? Или сегодня? Сегодня так себе вяжется с прошедшим временем грамматики, вчера – с календарём и свидетельскими показаниями всех часов в доме, лёг-то я после полуночи. Всё-таки, наверное, остановлюсь на сегодня. И зря, кстати. Не в смысле зря, что выбрал написать сегодня, а что сегодня спать лёг. Чтобы хорошо проснуться, никогда не ложись ко сну сегодня, всегда ложись спать вчера. Если бы в детстве у меня была старушка-няня, она именно так меня бы учила, и весь мой жизненный опыт подтверждал бы её народную мудрость и глубинную простую правоту.)
Лёг за полночь, и снилось, что искал в Библиотеке книгу на этот день. Пришёл утром совсем рано, едва ли не минута в минуту к открытию, и в читальном зале не было ещё вообще никого, так что в тишине слышно, как гудят лампы дневного света, и одна – над столиком у дальней стены во втором ряду – потрескивает и мигает и никак не может разгореться.
И вот я стою внутри этого спокойного света, и низкого чуть слышного гудения, и далёкого потрескивания одной непокорной разряду люминесцентной лампы, стою у стойки выдачи, и никого за ней нет. Я раз и через минуту другой нажимаю на кнопку вызова, от которой идёт сигнал в комнату библиотекарей за дверью, не знаю, что уж у них там, лампочка загорается или звенит звонок, но никто ко мне не выходит и за дверью не слышно ни звука. Тогда я обхожу стойку, приоткрываю дверь к ним и вопросительно говорю: «Доброе утро?» Молчание, нет, оказывается, тишина, ведь молчит кто-то, а в небольшой комнате никого нет. Пахнет растворимым кофе, я вижу, что на столе стоит кружка, над которой поднимается пар, сейчас август, и, значит, кипяток налили совсем недавно, едва ли не только что, но? Я выхожу обратно в зал. Соседняя дверь в хранение, она тоже не заперта. Захожу и несколько громче спрашиваю: «Доброе утро?»
Я иду между очень высокими стеллажами и не знаю, как бы мне самому найти мою книгу на этот день. Не у кого спросить совета, я здесь совершенно один, не считая сотен тысяч книг и расставленных тут и там ламп и стремянок. Вероятно, мне надо вернуться к началу и попытаться найти, что мне нужно, по карточкам в каталоге. Но возвращаться кажется почему-то капитуляцией. Да и если число карточек равно числу книг – поиск среди них не будет проще, чем здесь. В одном из проходов между стеллажами, я вижу, стоит Вера и листает какую-то книгу. Время – конец девяностых, не позже, и Вере здесь должно быть не больше семи-восьми лет, младшие классы, с бантами и косичками, но она почему-то та самая, девятнадцатилетняя, из Петербурга нашего счастья. Я прокладываю свой путь между стеллажами, поворачивая, когда дохожу до дальнего конца, как в «Змейке» на своей Nokia 3210, только не удлиняясь, а наоборот становясь всё меньше и меньше с каждым поворотом. И стеллажи вокруг меня всё выше, к верхним полкам проложены лифты, и мне кажется, что я блуждаю по огромному мегаполису книжных небоскрёбов, но, сколько бы ни было в нём книг, моей среди них не будет.
К шагу шаг, я начинаю понимать, какая именно книга мне нужна, не просто книга на этот день, та книга, которую я ищу здесь, – она и есть мой этот день. Я хочу успеть прочитать её, потому что в ней, как в бэкапе, завтра было записано и сохранено наступающее сегодня.
Да, добро пожаловать во второе августа, друзья мои!
Другие дни, другие сны.
Сейчас, в своём августе, я просыпаюсь и не знаю, нашёл ли я себе книгу, которую искал всю ночь (или последние несколько минут перед пробуждением?)… Есть у меня теперь день до самой своей полуночи или нет? «Человек есть мера всем вещам: существованию существующих и несуществованию несуществующих. А раз так, моё сознание определяет твоё бытие», – кто мне так сказал: фракиец Протагор из Абдер или смолянка Вера?.. Хороший повар готовит вопросы, а не ответы – вот это совершенно точно сказал Белкин, при работе над введением мы с ним как раз долго обсуждали лекции Мамардашвили о древней греческой философии, и взгляды наши с Борис Палычем на Протагора и софистику оказались чуть ли не впервые диаметрально противоположными. Что ж, во всяком случае, судя по количеству вопросительных знаков, мне с закрытыми глазами и связанными за спиной руками можно устраиваться шефом в любое заведение, освящённое заветным сиянием мишленовских звёзд, смайл.
Человек есть мера всем вещам. По скудоумию, что ли, своему я совершенно не вижу здесь ответа. Из раза в раз возвращаюсь к этим словам и пытаюсь дотянуться туда, через два с половиной тысячелетия, пытаюсь понять мысль своего бородатого, голубоглазого и русоволосого фракийского наставника. Только ли человек наделяет вещи существованием? Без него всё вокруг просто тёмный сгусток материи? Обычно слова Протагора принято сводить к сенсуализму, субъективному идеализму какому-нибудь, забывая совершенно, что он мыслит и говорит не себя-человека, и не этого человека (тебя, меня, Б. П. Белкина, Лену Туманцеву, Близнецова, Веру Хацкевич – никого одного из нас), а человека вообще. Что именно существование в мире человеческого сознания пробуждает бытие и определяет ему форму, сказал бы грек, как утреннее солнце пробуждает к жизни тёмные глубины ночного леса.
Всем вещам есть мера – человек. Но где границы самого человека, что «пробуждает его бытие и определяет ему форму»? С одной стороны, понятно, человек физически ограничен в пространстве пределами своего тела, заключён в нём навсегда от своего начала и до конца своих дней. Со стороны другой, сознание, заключённое в этом теле, – победа человека над собственными пространственными границами. Я закрываю глаза (перестаю набирать слова, останавливаюсь и закрываю глаза – чтобы быть до конца честным), и поднимаюсь над собой, и гляжу с закрытыми глазами, зорче зрячих, на свой город с высоты Александровской колонны, я вижу, как там, внизу, мы с Верой идём через ночную Дворцовую, на которой играет одинокий саксофонист. Мы останавливаемся, чтобы слушать растекающееся вокруг нас время. Да, музыка – это и есть время в чистом виде, беспримесное время, от которого ничто не отвлекает. Которому не мешает присутствие пространства и материи.
На последний мой день рождения мы сидели вечером с Близнецовым, разговаривали за принесённым им ноль-семь Курвуазье ВС и играли в шахматы под негромкое пение – плач ли, причет ли – Сезарии Эворы. Сашин отец всю жизнь проработал на шахматном заводе, и с детских лет у меня остались несколько подаренных им вот на такие же мои именины коллекционных наборов. У Близнецова постоянно звонил служебный сотовый, он сначала отвечал, потом поставил на режим «не беспокоить», потом и вовсе выключил его.
– Потому что, – сказал с улыбкой, – всё равно знаю, что там внутри этого «не беспокоить» звонят, и беспокоюсь только хуже.
Я, в общем, из солидарности выключил свой, потому что все немногие, кому было хоть какое дело, мне в тот короткий ноябрьский день уже позвонили и написали.
– В век всеобщей цифровой коммуникации, – говорю, – мы с тобой, Сашка, теперь для всего остального мира и всего прогрессивного человечества умерли. Полный офлайн по нынешним временам означает отсутствие всякого нашего присутствия в мире, то есть виртуальную смерть.
Он в ту минуту раздумывал, как ему бы спасти своего короля от острых кинжальных атак чёрных слонов. Отвлёкся и как-то очень вдруг серьёзно взглянул на меня:
– Мне тут показалось ночью на той неделе… как это бывает, когда умираешь.
– Как? – спросил я.
– Вот смотри, – он огляделся. – Ты можешь подняться сейчас, вытянуть руку вверх и, поскольку ты есть дылда, достать до плафона, легко, влево, да, туда. Ну, может, на цыпочки надо будет привстать, неважно. Можешь сделать шаг и дотянуться до своих шкафов, книгу взять, скажем. А смерть – это когда ты становишься таким маленьким, что не можешь дотянуться.
– До чего?
– Ни до чего, – сказал Близнецов. – Вообще. Даже до самого себя.
Имена
Вот имена людей, которые оставили след в жизни Белкина, каждый со своим отпечатком: Лев Аронов, Вениамин Громов, Дан Даркман, Семён Баранчук.
И вроде бы мало – к сорока двум-то годам, но с другой стороны и немало, при условии, что эти люди оставили не просто след, а каждый чуть ли не колею.
Проснувшись утром, он вдруг стал их всех вспоминать. Кто как возник в его жизни.
Аронов Белкина лечил. Останавливал кровотечение. Однажды в юности Белкину дали на улице в морду – как случается, просто так, без основания. И дали успешно: выбили зуб. Ну, леший бы с ним, с зубом, но вот кровотечение никак не останавливалось: час, два, три… Пришлось вызывать скорую. Ещё часа через два оказался в больнице. Пришёл один врач, осмотрел и хмыкнул, мол, что притворяешься, ничего у тебя нет, всё зажило. Белкин удивился, сходил в уборную – и правда, вроде затянулось. Прополоскал рот – вышла чистая вода. Но стоило только выйти за двери больницы, снова началось кровотечение – как будто и не прекращалось. Он вернулся. Врач на приёме, равнодушная толстуха, отказалась его снова принимать, мол, вас только что выписали, если хотите снова, вызывайте заново скорую. А кровь-то не унималась. «Ну, я могу вас оформить за деньги», – великодушно предложила женщина. Белкин от такого беспримерного вымогательства растерялся и согласился. Толстуха позвонила по телефону, явился новый врач. Высоченный – ровно двести один сантиметр, как он потом сам рассказал. Брюнет. Все семитские черты отразились в его лице. Совсем молодой, хотя вроде лет на пять (впоследствии выяснилось: на восемь) старше. «Лев Глебович», – отрекомендовался врач. Он повёл Белкина в кабинет, где велел тому сесть, а сам достал какую-то жидкость. И поднял Аронов стакан, и велел Белкину выпить эту жидкость, и почувствовал Белкин, как кровь во рту сама собой потеряла плотность и вкус и обернулась водой.
Они дружили лет семнадцать-восемнадцать, часто встречались, обсуждая то работу, то спорт, то женщин, то музыку, но в итоге разошлись на почве политики. Да не просто разошлись, а расскандалились вдрызг – однократно и навсегда.
Елена не успела познакомиться с Ароновым, а о безвременном завершении дружбы, которое случилось уже при ней, Белкин почему-то умолчал. Однажды, не так давно, когда после роковой ссоры прошло несколько лет, Белкин поведал ей печальную историю. «Тебя же до сих пор не отпустило», – заметила она.
Вениамин Петрович Громов преподавал историю зарубежной литературы на его отделении. Предмет совершенно излишний, как думалось Белкину. Да и сам Вениамин Петрович поначалу не казался приятным человеком – всегда очень бедно одевавшийся, подчас забывавший дома вставную челюсть, рассказывавший по бумажке, он, скорее, вызывал чувство юношеской жалости. Если бы в те годы существовал Интернет, конечно, студенты относились бы к Громову совсем по-другому – потому что все бы знали, кто он и что он (а был он о-го-го, одним из ведущих структуралистов – Господи, ещё бы кто-нибудь из них тогда знал, что есть структурализм). Однажды Белкин и Вениамин Петрович столкнулись на выходе из института – и синхронно охнули, потому что на улице лил библейский дождь, а зонты они оба презирали. В тот день обычно приветливый Громов на лекции просто-таки наорал на всех, а досталось больше остальных как раз Белкину – и лишь потому, что он сидел ближе. Вениамину Петровичу не понравилось, что в аудитории было слишком, по его мнению, шумно. Ну, плохое настроение, со всяким может случиться. Постояли они, посмотрели друг на друга – да и пошли вместе под водную стихию. А вскоре и град припустил, да крупный, огромаднейший просто. И смотрел Белкин на преподавателя, и видел, что тот страдает от градин куда сильнее, а в глазах Вениамина виделось чуть ли не пламя, но никак не мог Белкин уловить, пламя ли это или просто отблеск фонаря, зачем-то не погашенного ранним утром? «А вы знаете, Боря, я зря закричал. Тем более на вас. Просто понимаете, компьютер сломался дома, починить некому. И мама болеет сильно», – сказал Громов. Белкин удивился: Вениамину было уже точно за пятьдесят (а на самом деле под шестьдесят), и вдруг – мама. «Просто казнь какая-то», – добавил Громов. Белкин снова посмотрел на него. И показалось ему, что град сбил с преподавателя волосы, очки, выбил глаза, оставшиеся зубы, всё, что составляло его нутро, и все мысли выбил град, и все чувства, и инстинкты поломал.
«But I can try to help you with the computer», – солидно заметил юный Белкин. Ему нравилось играть в девятнадцатый век и переходить на другой язык, а Громов английским точно владел, Белкин знал. «Правда? Indeed?» – обрадовался Громов и снова обрёл черты. И на следующей лекции от щедрот отпустил студентов пораньше.
Много лет, очень много лет подряд забегал Белкин к Вениамину Петровичу в его маленькую двушку недалеко от Финбана (а иногда и сам Громов навещал бывшего студента). Немного помогал с компьютером – в меру знаний. Но никогда они не обсуждали что-то личное. В основном книжки, собственные публикации, но иногда и политику (в отличие от Аронова, здесь царило согласие), здоровье, родителей, студентов, даже спорт – будучи коренным ленинградцем, Громов в футболе зачем-то болел за какую-то московскую ерунду. И смерть, постигшая Громова на ровном месте лет пять назад, отозвалась в Белкине невыносимо острой тоской – тоской, которую он мог разделить с единственным человеком, с Еленой.
Дан Даркман – американец. Году приблизительно в девяносто четвёртом они вместе летели из Франкфурта в Москву. Белкин через столицу возвращался с конференции каких-то молодых учёных (странно, но тогдашняя деятельность напрочь выветрилась из головы, он бы смог описать, чем тогда занимался, лишь весьма приблизительно). Мероприятие проходило в Страсбурге, а ближайший к нему аэропорт, откуда в те годы можно было улететь в Россию, хоть и не в Питер, – как раз франкфуртский. Даркман летел из Америки – и не просто в Россию, а ни много ни мало на Сахалин, работал там. Прекрасно говоривший по-русски, Дан оказался чуть ли не самым лёгким человеком в жизни Белкина. Наверное, больше всего на это влияли деньги: они водились у Даркмана в невообразимом количестве, зарабатывал он на острове просто баснословно. Настолько, что он много раз прилетал из Южно-Сахалинска в Петербург просто так, поболтаться и поболтать с Белкиным, освежить старые интрижки и организовать (за пару дней) десяток новых. Именно Дан, сам того не зная, научил Белкина относиться к свиданиям и отношениям по-своему, по-даркмановски. Белкин-то рефлексировал каждую встречу и почти каждый разговор, а Даркман в каждом случае демонстрировал потрясающую беззаботность и даже хамство, впрочем, хамство вполне себе чарующее. И, похоже, Дан просто не догадывался, что может быть как-то иначе.
А тогда, в самолёте из Франкфурта, Даркман и Белкин сидели на одном ряду. Они спокойно летели, и вдруг приключилось неожиданное: во всём салоне погас свет. Сломалось освещение салона, не более, но выяснилось это отнюдь не сразу. Тьма, окутавшая всех их, была необычайной: густой и плотной, и стояла она, как показалось, три дня (хоть на самом деле не более трёх минут). Казалось, что тьму можно потрогать. А всяких-разных гаджетов, чтобы своими силами рассеять темноту, пока не существовало. Тьма сгущалась, сковывая движения замерших пассажиров, никто не мог шевельнуться, и никто не вставал с места своего, у всех же людей на земле свет был, и это хорошо видно было с высоты. Нелепая мысль заползла в голову Белкина: а готов ли он, к примеру, в случае авиакатастрофы остаться сам в живых, но с гарантированной гибелью прочих пассажиров, пилотов, бортпроводниц? И почему-то ответил тут же сам себе Белкин, что нет, какое-то странное спасение получится, пусть уж спасутся все, ведь никто из летящих не может быть избранной жертвой, хотя, доколе не окажешься в падении, не узнаешь, что надо принести в жертву. И сказал Белкин непонятно кому, что не оставит он попутчиков своих, и зажёгся через несколько минут свет, и приземлились они через час без затруднения малейшего.
А ещё был Семён Баранчук. Но тот оставил странный след в жизни: через свою жену Полину. Так что по большому счёту самого Семёна не следовало причислять к тем самым. Но без него не случилась бы Полина. А Полину включать в список вообще стыдно. Белкин и Баранчук поначалу жили в одном доме и регулярно здоровались у лифта. Здоровались, но особо не разговаривали – не о чем, подходящих тем для бесед не подворачивалось. А потом он женился, найдя семейное счастье где-то в Ленобласти, в Волхове, что ли. Привёз жену, она исправно забеременела, и вдруг случилось очень и очень страшное: сразу после рождения что-то произошло с их первенцем, им казалось, что сам Господь поразил младенца. Белкин, о ту пору лет пятнадцати, просто подвернулся им под руку: Семён с Полиной стояли у лифта и чуть ли не вдвоём плакали. Белкин стал расспрашивать – выяснилось, что первенцу нужен постоянный присмотр, больше чем на минуту нельзя оставлять его без внимания – может резко начаться удушье или что-то вроде того. Полина остаётся прикованной к дому. Семёну надо работать. Но порой нужно что-то срочно – в магазин сходить, мусор вынести, помыть чашку. Белкин вызвался помогать. Он каждый день после школы раза по три-четыре поднимался к Полине на седьмой этаж и спрашивал, надо ли ей что-то. Иногда было надо, иногда нет. Но каждый раз Белкин подходил к кроватке и смотрел на баранчуковского первенца. Он почти всегда спал, и по виду младенца никто бы не сказал, что ему грозит такая опасность. А ещё юный Белкин испытывал умопомрачительное влечение к Полине, но совершенно не знал, ни как его выразить, ни что с ним делать, когда он оставался в одиночестве в своей комнате. Белкин молча стоял, смотрел на спящего первенца и вдыхал запах испачканного неизбежным детским присутствием халата Полины. И Белкину, конечно, казалось, что такие мгновения длятся неисчислимо долго.
А однажды поздно вечером Белкина сокрушила мысль, и он обратился к Богу (Белкин взмолился, но он сам тогда этого не знал): «Помоги всем первенцам в нашем городе, всем, от и до, чтобы никто не болел». Что было далее, Белкин плохо помнил. Но всё организовалось так, что первенец Семёна и Полины выздоровел, сам Белкин вскоре после школы переехал, а в эпоху Интернета не испытывал никакого желания не только находить их, но и искать. И с чувством брезгливого самоуничижения, постыдного удовольствия вспоминал подчас Полину – идиотский халат её, непрокрашенные корни волос, вечно грязные пятки из-за хождения босиком и нежнейшую, чистейшую, медовую – безо всякого внешнего воздействия – кожу. У Елены такая же, только лучше. Но она о том не знает.
…Хотел Белкин в тот же час, как проснулся, выйти из дома своего и пойти к Елене, но не мог, потому что стояло над домом облако, и благодать очевидного происхождения наполняла его сердце – а ночью вспыхнул огонь в нём, и вдруг устрашился Белкин, что огонь этот виден не только ему, а всему дому, и виден был во всё недавнее путешествие его.
Третье
То, на что я наступил, возвращаясь домой, прежде было птицей. Прежде чем её раздавила машина, разодрала кошка, или, не знаю уж, что там с ней случилось. Переходил себе через дорогу в переулке с двумя большими пакетами припасов из «Дикси», и то ли я загляделся, то ли задумался, то ли что – вдруг почувствовал под ногой вместо привычной твёрдости асфальта отвратительно мягкое. Раньше это мягкое было, воображение дорисует, птичкой-невеличкой, щебетавшей себе по утрам в сквере под чьим-нибудь окошком (створка окна приоткрыта, чуть колышется за ней кружевной тюль от прозрачного ветерка или от прикосновений солнечного света), а теперь осталось сухим комком перьев, скреплённым какими-то жуткими жилками и запёкшейся кровью. Чёрт, у дворников выходной, что ли, был этим утром?
Вера, как забудешь, очень любила кошек, ми-ми-ми, вся эта патологическая айлурофилия… Видела она когда-нибудь, интересно, что милая эта киса оставляет от птицы?
Впрочем, может статься, напрасно я тут грешил на кошачье племя, и судьба этой птички-невелички решилась, например, бампером и колесом пролетавшего по переулку автомобиля. И что, многое ли остаётся от птичьей жизни, от упругого воздуха, крыльев, высоты, листвы и пения?.. Сгусток разорванной плоти и перьев валяется у поребрика. Вот чтобы случайному шагу моему вляпаться в эти подсохшие останки.
Подумалось ещё: что такое есть птица для слепца, незрячего от рождения? Только чистое пение, которое не имеет ни зримого начала, ни подобного отталкивающего конца. Для него нет нашей привычной телесности птицы, тёплой и живой оболочки звука. Содержание отделено от ограничивающей его формы, от всей этой физиологии и орнитологии, и дано в своём совершенном и бесконечном виде – переполненным щебетом, чириканием, трелями, стрекотом, утренним воздухом летнего сквера или Летнего сада… И когда этот воздух чуть поворачивается, и один из голосов исчезает из слуха – он не становится останками, от него не остаётся никакого следа, ничего, даже пустоты.
У Демидова моста мужчина и девушка (подруга ему? или дочь? – мне показалось возможным и то, и другое) обнимались, смеялись и делали селфи. Странное дело, что именно здесь; обычно для такого выбирают чуть дальше по каналу Банковский мост с его грифонами и прекрасной перспективой в сторону Казанского собора и Спаса-на-Крови.
Уголком улыбки коснувшись чужого фотосчастья, я свернул к себе со своими пакетами, то и дело на ходу инстинктивно поглядывая под ноги.
Доступность цифрового хранения огромных объемов информации породила в современном человеке какую-то странную страсть к запечатлению и повторению. Возможность создать и сохранить копию жизни – как фото, видеозапись, репост, и проч., и проч., и проч. – создаёт иллюзию возможности её, жизнь, воспроизвести. А когда захочется – нажать паузу, отмотать, пересмотреть… Число персонажей, которые на любого рода шоу – концертах, демонстрациях, массовых гуляниях, фейерверках, фестивалях, футбольных и прочих матчах – снимают, а не смотрят, растёт с каждым разом, как я за этим наблюдаю. Остановить мгновение, сберечь – как нам кажется, навсегда – ускользающее, одноразовое настоящее – вот что стоит за всеми этими попытками.
Близнецов, скажем, не любил ни фотографироваться, ни фотографировать. Сколько у меня осталось его фотографий? Одна, две, и те едва ли не студенческих времён. «Со мной всегда только одна камера, вот тут, – говорил он, прикладывая ладонь к груди. – Самая лучшая оптика, экспозиция, естественные цвета и стабилизация изображения». И вместе с тем, это тот же самый человек, что написал прекрасное «Двенадцать фрагментов ископаемой жизни моей от фирмы Кодак»… Саша, впрочем, – вообще одна большая флуктуация.
Здесь мы ведём речь не о повторяемости истории, не о вечном возвращении, концепции временных циклов или Уроборосе, змее, пожирающем свой хвост в бесконечной цепи неразрывно переходящих одно в другое рождения и смерти, творения и распада. Об этом обо всём разговор иной, и с такими глубинными мифологическими структурами имеет мало общего (вернее сказать – ничего) маленькое частное желание современного человека закрепить себя во времени. О, нет, не подумай, друг мой, что я говорю о современном человеке с какой-то иронией или, упаси меня, с презрением. Я его, маленького интерактивного человека со всеми маленькими человеческими желаниями, люблю всем сердцем, как и человека любого времени – от которого «современный» отличается, в сущности, только тем, что не выпускает из рук свой смартфон.
Житель классических Афин, идущий в шумной толпе вместе с согражданами на юго-восточный склон Акрополя в дни Великих Дионисий или Леней, знал, что в приготовленном для него на сегодня в театре состязании трёх поэтов, трёх хорегов и их хоров ни одна из трагедий не была показана никогда прежде и не повторится больше никогда. Что увиденное он видит лишь однажды и – вне зависимости от того, насколько прекрасным оно окажется, – никогда не будет дано к нему вернуться. Эта неповторимость и уникальность каждого представления – а за его пределами каждого дня и каждого события вообще – и породили, собственно, представление о человеческой истории как о разворачивающейся во времени последовательности неповторимых событий.
Житель же современного Петербурга, купив билет в театр или кинематограф, на выставку или ещё куда, знает, что по его желанию шоу может повториться для него множество раз. Я и сам, к слову сказать, четырежды один (и с Верой однажды, да) смотрел «Дядю Ваню» с прекрасными Курышевым и Раппопорт в Малом драматическом.
Любой фильм, матч, спектакль, концерт в наше время можно неограниченно смотреть и пересматривать в записи. REPEAT – вот совершенный девиз нашего времени, в котором всякая минута утрачивает свою одноразовую неповторимость. Стремление к сохранению – сначала только самых важных событий в жизни (сколько было фотографических карточек у наших пра- или прапрадедов, несколько штук, десяток-полтора на всю жизнь?..); потом, в поколениях дедов и отцов, – всё большего и большего числа быстрокрылых бабочек-мгновений настоящего (лепидоптерофилия – так оно называется, подскажет Гугл); а нынче уже едва ли не каждого похода с друзьями-подружками в кафе (десятки фото), в музей или театр (десятки плюс видео), поездки в отпуск (сотни и тысячи!) – это стремление к сохранению всего подряд, безотборочно каждого из ломких лепестков мумифицированного времени, в действительности обесценивает совершающееся вокруг, переводя участника и соучастника жизни в позицию наблюдателя. Человек смотрит на мир через видоискатель и видит только вид, в котором он находится снаружи, а не внутри себя.
«Ладно, – напишет мне читательный вниматель этого воображаемого блога. – А в чём же тогда разница между вот такой повальной, как ты пишешь, страстью к визуальному сохранению происходящего времени и твоим собственным дневником? Ты видишь остатки смысла в том, чтобы записывать свои дни один за другим, так почему ты отказываешь в смысле и ценности тому, чтобы сохранять день в картинке, а не в слове? Какая разница, что именно ты пришпиливаешь булавкой к листу?»
Кажется, никакой. Да, никакой, кажется.
Но если присмотреться, как в журнальном ребусе из детства «Найди десять отличий», одно отличие нам с тобой, возможно, удастся обнаружить.