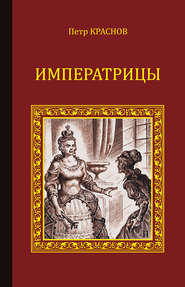скачать книгу бесплатно
И тем не менее цесаревна ощущала, что воля народа, как ни задавлен народ, существует и может каждую минуту выявиться. Кто же был тем народом, к чьему мнению считала себя обязанной прислушиваться и чьего зова ждать цесаревна?
С учреждением императором Петром Великим российской регулярной армии в России появилось новое сословие – солдаты.
Взятые молодыми парнями-«новиками» по набору от сохи, они до глубокой старости оставались под знаменами. Они пешком, с ранцем за плечами, с ружьем на плече исходили всю Россию. Они бывали за границей. Были среди них такие, кто дрался под Выборгом и Фридрихсгамом со шведом, а потом прошел до Дербента в персидский поход. Они видели хмурое северное море у шведских берегов, а после стояли «у самого синего» моря – Каспийского. На биваках, на винтер-квартирах они повидали много разного народа, видели богатство и сытость, повидали нищету и голь перекатную. В Швеции, Ганновере, Саксонии и Польше они имели случай сравнить тамошние порядки со своими. Они были неграмотны, но по-своему они были весьма образованны, ибо были они бывалыми людьми. Они строили крепости и рыли каналы, они устраивали города там, где ничего не было. Они были сила.
Над ними, на верхах армии стояли немцы. Их полковые командиры часто не говорили по-русски. Кроме старика фельдмаршала Трубецкого, в армии на высших должностях русских не было. Фельдмаршалами были Миних и Ласси, вице-президентом военной коллегии принц Гамбургский, принц Антон Ульрих Беверен, герцог Крои, генералы Кейт, Стофельн, Дуглас, сыновья герцога Бирона, Бисмарк, Геннинг, Гордон, вице-адмиралы Бредаль и Обриен и другие иностранцы вершили дела армии и флота. Во главе старейшего Бутырского полка стоял фон Зитман, не говоривший по-русски и даже на официальных бумагах подписывавшийся по-немецки. Но тем сильнее в полках, и особенно в полках гвардейских или расположенных в столице и ее окрестностях, сплачивалось по своим плутонгам и ротам петровское солдатство. При императрице Анне Иоанновне был основан 1-й кадетский корпус, и из него стали поступать в ряды армии образованные молодые люди, прекрасно понимавшие, что происходит в государстве и при дворе. Дворяне из мелкопоместных, петербургские чиновники записывали в полки своих сыновей с двенадцатилетнего возраста. Эти мальчики с большим рвением проходили солдатскую науку и медленно продвигались по ступеням военной иерархии, готовя смену немцам.
Внутри армии появились люди, преданные военному делу, авторитетные своим солдатам, горячо любящие Россию, желающие продолжать Петрово дело и могущие понимать обстановку и рассуждать о ней. Урядники всяких званий: капралы, ротные и шквадронные писаря, фурьеры, подпрапорщики, сержанты, младшие офицеры: прапорщики, поручики и капитаны – были давно настороженно недовольны немецким засильем. В них накипело русское чувство, озлобленное унижением всего русского.
Они были хорошо материально обставлены. Их мунд-порцион состоял из двух фунтов хлеба, одного фунта мяса, двух чарок вина и одного гарнца пива в день, да на месяц они получали два фунта сала и полтора фунта круп. Сытые и хорошо одетые, они имели много свободного времени – на строительных работах, где они были надсмотрщиками, в караулах, на походах и дневках, когда они могли сходиться вместе и говорить о чем угодно.
Для них всякая перемена правления была богата последствиями: она несла с собой мир или войну. Шкурным вопросом был для них: какое и из каких людей будет состоять правительство.
Они выросли в семьях, где было преклонение перед Петром Великим. Их отцы были овеяны славою петровских побед и завоеваний. Отцы их заложили Петербург – они его отстраивали. Все, что касалось дел Петра Великого, было им дорого и свято.
Общественное мнение России тогда составляли солдаты. Они носили в себе народную душу и были выразителями народных желаний.
Когда цесаревна Елизавета Петровна думала и говорила о том, что скажет народ, в ее представлении были не крестьяне ее слобод и деревень, не уличная толпа Петербурга и Москвы, не чиновники, мещане и ремесленники и не дворяне, помещики и придворные, – но именно солдаты, руководимые русскою военной молодежью, те солдаты, которые пели, проходя мимо ее дворца:
– Краше света – нам Елизавета,
Во-от кто краше света!!
Она прислушивалась к тому, что говорилось в казармах, и она ждала, когда песня о ней претворится в действие. Она не знала, как и когда это будет, но всею своею русской душой чувствовала, что когда-то это так и будет. Русская, дочь Петра Великого, она, как никто другой, понимала, какое страшное оскорбление нанесено всему русскому народу этим странным письмом-завещанием императрицы Анны Иоанновны, где нигде не было упомянуто даже самое имя цесаревны. Точно и не было у Анны Иоанновны столь близкого человека, каким была она, дочь брата ее отца… Точно и не говорила за несколько дней до своей смерти сама императрица о том, что она считает ее, Елизавету Петровну, законной по себе наследницей…
VIII
Прошло всего три дня после смерти императрицы Анны Иоанновны и обнародования ее посмертного указа – полковая молодежь заволновалась. Преображенский полк находился на работах по постройке казарм. Рота Ранцева только что пошабашила и собиралась к полковой подводе, на которой привезли от полка обед. Солдаты, снявшие кафтаны, в камзолах, перепачканных кирпичной пылью и известкой, строились под дощатым навесом, где уже собрались капралы. Во двор въехал верхом на лошади поручик Ханыков. Он соскочил с коня, бросил поводья подбежавшему гренадеру и подсел к унтер-офицерам своей роты, обедавшим отдельно от солдат.
– Хлеб да соль, – сказал он.
– Милости просим, ваше благородие. Не откушаете ли с нами солдатских щец?
– Спасибо.
Он взял предложенную ему деревянную ложку и осмотрел сидевших около котла. Против него был сержант Алфимов, смышленый ловкий унтер-офицер, с которым Ханыков всегда был откровенным. Дальше сидел поручик Михайла Аргамаков, человек надежный, за ним сидела молодежь – безусые капралы, привыкшие прислушиваться к тому, что скажет их офицер. Все были свои, верные люди.
– Что в грустях, Петр Степанович? – спросил Ханыкова Аргамаков.
– Не могу, братец, успокоиться, не могу, Михайла, переварить в себе, для чего-де министры сделали, что управление Всероссийской империи мимо Его Императорского Величества родителей поручили его высочеству герцогу Курляндскому.
– А тебе-то что с того? – сказал Алфимов.
– Как что? – возмутился Ханыков. – Ты думаешь о том, что в бесчувственном равнодушии своем говоришь? Как же мы сие сделаем, что государева отца и мать оставили и отдали государство такому человеку!.. Регенту, прости Господи! Они, родители-то, чаю, на нас плачутся. Как по-твоему, кому до возраста государева управлять государством, как не отцу его и матери? А то!.. Регент!.. Шут гороховый!..
– Да, сие бы правдивее было, – тихо сказал Алфимов.
– И все вы с оглядкой, – горячо продолжал Ханыков. – Все вы правды боитесь. Правдивее!.. Какие вы унтер-офицеры, что солдатам о том не говорите?.. У нас в полку, кроме Петра Сергеевича, надежных офицеров нет – не с кем советовать. И надеяться не на кого… Вам, унтер-офицерам, надо солдатам о том толковать… Я уже здесь и в других местах солдатам говорил о том, и солдаты все на то порываются и говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали… Нас, офицеров и унтер-офицеров, бранят, для чего мы не зачинаем… Им, солдатам, зачать того не можно. Как был для присяги строй, напрасно мы тогда о том не толковали!
– Так что же ты-то не толковал? – сказал Аргамаков.
– Я?.. Да я бы только своим гренадерам о том слово одно сказал – и они бы то дело сделали: все бы за мной пошли… Они меня любят… А там, гляди, и офицеры б, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать.
– Чужая душа потемки, – уклончиво сказал Алфимов.
– Ну, так что же ты тогда не сказал? – спросил Аргамаков.
– Я скрепя сердце гренадерам о том не говорил для того, что я намерения государыни принцессы не знаю, угодно ли ей то будет.
– Дело-то какое… Табак-дело, – сказал Аргамаков.
Ханыков вспылил:
– Боишься?.. А ныне!.. До чего мы дожили и какая нам жизнь!.. Лучше сам заколол бы себя, чем такой срам допускать в государстве!
– Ты б лучше молчал.
– Хотя бы жилы из меня стали тянуть, я говорить о том не перестану.
Аргамаков задумался.
– Слушай, – сказал он после нескольких мгновений, когда было слышно только, как черпали ложки в котле, выскребывая кашу, да жевали молодые крепкие зубы. – Есть у нас вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин.
– Ну, знаю, – сказал Ханыков, настораживаясь.
– Что, если нам ему довериться?.. Я видал его у сержанта Акинфиева, и он мне говорил: «Хотят-де ныне к солдатству милость казать и за треть жалованье выдать, доимку не взыскивать и с которых доимка взята – возвращать. Из полков гвардии дворян отпустить в годовой отпуск и вычетными из жалованья их деньгами казармы достраивать и тем солдатство и всех приводят к милости…»
Покупают, значит, нас. И он, Камынин то есть, сим всем очень даже как бы возмущен. «Чудесно, – говорил он, – господа министры кого допустили править государством… И мой дядюшка Бестужев тоже министр… А какой он министр, не знаю я его, что ли?..» Так вот, ежели бы через того Лукьяна нам проведать от государыни принцессы – угодно ее милости, чтобы солдат к сему склоняли?.. Понимаешь?..
– Как не понять… И ежели только ее высочеству то угодно, я здесь, а ты, Михаила, на Санкт-Петербургском острову учинили бы тревогу барабанным боем. Моя гренадерская рота пойдет хоть куда. И тогда бы мы регента и сообщников его: Остермана, Бестужева и князя Никиту Трубецкого – убрали бы. Что же? Дальше терпеть?.. Я слыхал, есть такое регентово намерение ко всем милость показать: в Преображенский наш полк больших из курляндцев набрать… Отчего, вишь ты, полку будет – кр-расота!.. Значит, ничего не видя, хотят немцев набрать, а нас из полка вытеснить… Что ж, давай, побеседуем хоть и с Камыниным… Только верный ли он человек?..
– Ну?.. Отчего не верный?.. Он сам мне о том говорил: «Говорим мы-де о сем на один… Дело смертельное… Так ежели что, доносчику, кто будет, значит, доносить – первый кнут…»
– Что ж, дело… Иначе нельзя, – сказал Алфимов. – Ваше благородие, ребята откушали, прикажешь к работе?
– Ступай…
Барабанщик ударил, сзывая людей на работы.
IX
23 октября к одиннадцати часам утра в большой аудиенц-зале Зимнего дворца, к которой примыкала стеклянная галерея, были по приказу регента собраны министры кабинета, сенаторы, генералы и командиры полков, расположенных в Петербурге.
День был ясный и морозный. С залива дул ровный свежий ветер, Нева играла белыми зайчиками вспененных волн. На баржах и яликах с заречных сторон через Неву, в каретах и двуколках по гулко звеневшим обмерзлым доскам мостовой по улицам и проспектам съезжались приглашенные. Низкое солнце бросало веселые, оранжевые лучи на светлый штоф стенных обоев, играло радугою в хрустальных подвесках люстр и кинкетов и освещало портрет покойной императрицы работы Каравака. Полное лицо с точно подмигивающим правым глазом надменно и гордо смотрело из тяжелой золоченой рамы.
Сенаторы в красных кафтанах с золотым позументом и в белых панталонах держались отдельно от пестрой толпы генералов и офицеров в пехотных кафтанах с длинными полами, в узких кирасирских и драгунских мундирах. Яркое солнце и веселый, солнечный, будто праздничный день не отвечали угнетенному настроению большинства военных. Эти дни шли аресты среди офицеров Петербургского гарнизона, офицеров тягали в Тайную канцелярию и там кидали на дыбу, допрашивая «с пристрастием».
На правом фланге, где около старого заслуженного фельдмаршала Миниха собрались старшие чины, не смолкала немецкая речь. В стороне от генералов особняком держался худощавый и нескладный, застенчивый герцог Антон Ульрих Брауншвейгский – отец императора. Ему было двадцать шесть лет, но выглядел он моложе. Свежее, длинное, овальное, породистое лицо его было юно, длинный, тонкий нос, большие, красивого выреза губы были женственны и придавали его лицу капризное выражение. Большой парик мелкой волны длинными локонами светлых кудрей ниспадал на плечи. В колете своего кирасирского Брауншвейгского полка – герцог числился в нем полковником, состоял в чине генерал-лейтенанта по армии – с кружевным шарфом на шее, в узких лосинах и высоких ботфортах, он, казалось, не знал, что ему делать среди старых и заслуженных генералов и куда девать руки.
– Ваше Высочество, пожалуйте сюда, – по-немецки позвал его Миних. – Вашему высочеству надлежит быть с нами, как первому чину армии.
Герцог улыбнулся совсем детской улыбкой. Он несмело подошел к генералам и, щуря большие серые, близорукие глаза, старался вслушаться, что говорит ему Миних.
У дверей, ведших во внутренние покои, где был устроен теперь рабочий кабинет регента, церемониймейстер застучал тростью, в зале смолк гул голосов, и все стали устанавливаться по чинам и положению по службе.
– Ваше Высочество, сюда!.. Сю-юда!.. – тянул за рукав герцога Антона Миних. – Вам место здесь, – он установил его правее себя.
Совершенно смущенный герцог хотел было как-то незаметно улизнуть за чью-нибудь спину, но в это время дверь растворилась, и в залу вошел, ступая размеренными шагами и высоко неся голову, регент.
Лицо с квадратным лбом, более широкое книзу, где опухшие щеки смыкались жирным блестящим подбородком с ямочкой, с маленькими презрительно оттопыренными губами и с изогнутым носом было важно и полно самоуверенной гордости. Серые глаза сверкали самодовольством. Все говорило в нем: «Это я – регент!.. Все равно что император!.. Хочу – и всю эту русскую сволочь в бараний рог изогну и к самым чертям брошу. Я заставлю недовольных молчать и повиноваться мне!»
В седеющем парике, локонами падающем на плечи, в кафтане и орденской алой епанче, он медленно, никому не отвечая на поклоны, прошел мимо сенаторов и направился к прямой, выровненной шеренге генералов. Позади него шел начальник Тайной канцелярии генерал Ушаков, за ним молчаливой группой адъютанты и пажи.
Тяжелыми шагами регент дошел до герцога Брауншвейгского и остановился против него, меряя его с головы до ног суровым взглядом серых немигающих глаз, потом посмотрел на Миниха, на вытянувшихся в струнку генералов и усмехнулся: власть пьянила его.
Солнечный луч играл на золотых украшениях мантии регента и слепил глаза. Регент прищурился. За пестрой линией генералов он видел голубеющую в ясном дне Неву, деревья в серебряном инее на Петербургском острове, темные верки крепости, белые стены, золотые купола и шпиль собора. Гордая мысль прошла в его голове: «Все сие теперь – мое, и кто посмеет отнять сие от меня?»
Путая немецкие фразы с русскими, регент стал выговаривать начальническим тоном герцогу Антону:
– Ваше Императорское Высочество позволяете себе то, что ни вашему чину генерал-лейтенанта армии, ни вашему положению никак не ответствует. Вы изволите слушать молодых, горячих офицеров, которые масакр зачинать хотят!.. Вы думаете угрожать мне!.. Я себя устрашать не позволю… Вы полагаете, что как вы есть подполковник при Семеновском полку, то надеетесь на сей полк. Вы неблагодарный, кровожаждущий человек есть, да, если бы вы получили в руки ваши правление, вы сделали бы несчастными и сына вашего, и всю империю!..
Под публичным разносом безродного Бирона герцог Антон, родственник императора римского, отец императора всероссийского, вспыхнул. На мгновение воля шевельнулась в нем, и жутко почувствовал он нанесенное ему оскорбление. Он наложил левую руку на эфес своей шпаги. Глаза Бирона сверкнули. Он понял движение герцога как угрозу и, покраснев пятнами, горячо сказал, с силой ударив по своей в золото убранной шпаге:
– Как дворянин, готов и сим путем, буде принцу то желательно, разделаться.
Но герцог Антон вдруг весь обмяк и почувствовал, что силы его оставляют. Неприятная слабость охватила его тело, и незаметно для других, но чувствительно для него самого у него задрожали колени.
– Простите меня, Ваше Высочество, – прерывающимся негромким плаксивым голосом сказал он. – Я только по молодости моей имел неосторожность слушать легкомысленные предположения молодых офицеров… Но я не обратил на них никакого внимания… Мне надо было, может быть, приказать им молчать. Но я того не сделал. Я буду теперь более сдержанным. Прошу простить меня… Я не дам более никакого предлога на жалобу или выговор…
– Так знайте, Ваше Высочество, что ваши сообщники: Ханыков, Аргамаков и Алфимов – сегодня ночью пытаны на дыбе и сечены плетьми… Ваше счастье, что они вас не оговорили.
Довольный своей силой, счастливый, что он мог одним словом уничтожить герцога Брауншвейгского, отца императора, генерал-лейтенанта русской армии, герцог отошел в сторону и, обернувшись к Ушакову, с наигранным презрением кинул:
– Андрей, разъясни его высочеству, о чем постановила Тайная канцелярия…
Генерал Ушаков, низкий, толстый человек с тупым, красным, налитым кровью лицом с припухшими, набрякшими от бессонных ночей в застенке веками маленьких, узких, сонных глаз, палач в генеральском мундире, с толстыми квадратными руками, – про него рассказывали, что он сам этими руками поддавал жару плетьми пытаемым на дыбе людям, – подошел к герцогу, и тот почувствовал, как одно приближение этого страшного человека лишает его воли и делает из него слабого ребенка. Слезы показались на глазах у герцога, и сильнее задрожали колени.
Ушаков заговорил тихо, отечески ласковым голосом, как бы увещевая и успокаивая непокорного мальчика:
– Ваше Высочество, если ваше поведение сему не помешает, мы все будем смотреть на вас, как на отца нашего императора… Но, Ваше Высочество, мы все слуги нашего императора, и если ваше поведение нас к тому обяжет, мы с вами поступим, как с подданным нашего императора… Ваша молодость, ваша неопытность могут вас кое-как извинить… Вы говорите, что вы заблуждались… Хорошо… Но если бы вы были старше?.. Если бы вы были умнее и имели способность предпринять и исполнить такое намерение, которое взволновало бы столицу и поставило бы в большую опасность мир и спокойствие, благоденствие и процветание нашей великой империи – я должен вам объявить с глубоким сожалением, я бы поднял преследование против вас как виновного в предательстве против вашего сына и повелителя, с такой же строгостью, как бы я сделал для всякого другого подданного Его Величества.
Регент строго посмотрел на молчавших сенаторов и генералов и сказал:
– Министры, сенаторы и генералы!.. Предлагаю вам сейчас еще раз подписать акт, нами составленный, о вашем искреннем желании нашего регентства для блага и пользы империи.
Он кивнул головой и вышел в ту же дверь, в которую вошел.
Граф Остерман вышел из толпы министров со свитком пергаментной бумаги. Два камер-лакея выдвинули стол, поставили на нем тяжелую бронзовую чернильницу и положили пачку гусиных перьев. Герцог Брауншвейгский шатающейся походкой подошел первым к столу и подписал бумагу. За ним стали подходить министры, сенаторы и генералы…
Когда подписавшие акт выходили в прихожую и разбирали шубы и епанчи, старый Миних отыскал Ранцева и хлопнул его по плечу:
– Как поживаешь, старина?.. Все полком орудуешь?.. Который, однако, год!.. Не дают тебе хода?.. А?..
Миних взял Ранцева под руку и, отведя в сторону, зашептал:
– Видал, как с нами ноне поступают… Ах, дурак! Что мы мальчишки!.. А Антон-то нюни распустил!.. Нет!.. Надо ей самой сказать!.. Анне!.. Какой то будет удар для нее!.. Как твой сын смотрит на все сие?.. Что говорят в полку?.. Что преображенцы?.. А, что?..
– Вашему сиятельству, полагаю, лучше, чем мне, известны чаяния и вожделения наших солдат…
– Ах, so! N-nu, ja… Сие… Трудно!.. Невозможно! – И, нагнув Ранцева к себе так, что ухо того щекотали сухие губы Миниха, прошептал: – Незаконнорожденная… Совсем невозможно. И уже очень крутит… С кем попало…
– Но духовенство, ваше сиятельство…
– Что духовенство?.. Сам видишь, какое теперь духовенство, – Миних толкнул Ранцева от себя и частыми шагами, кутаясь в легкую епанчу, выбежал на крыльцо.
Рослый гайдук закричал на всю набережную:
– Фельдмаршала Миниха карету…
Золотой солнечный свет слепил глаза. Морозный ветер обжигал лицо. Весело плескали волны голубеющей Невы.
В этот вечер герцог Брауншвейгский сидел в опочивальне, где стояла колыбель его сына императора Иоанна III. Перед ним на столе горели две свечки, в их свете лежал большой лист плотной бумаги с каллиграфически чисто писарской рукой выведенным письмом. Герцогиня Анна Леопольдовна стояла над колыбелью сына. Ее лицо было презрительно и строго.
Она повернулась к мужу и сказала по-немецки:
– Так и подпишешь?..
– Что же я могу сделать? – дернув плечами, ответил герцог Антон.
– Дурак!.. Дурак и дурак!.. Дураком родился – дураком и умрешь… Все искусство твое – детей делать… А сам никуда…
– Я обещал, Анна…
– Обещал!.. Ты думал о том, кому ты обещал?.. Посмотри, что вокруг тебя делается… Везде ропот и неудовольствие… Отчего не позовешь Миниха и не поговоришь с ним?..
– Что Миних? – вяло сказал герцог Антон и взял в руку перо. В колыбели заплакал, забулькал слюнями ребенок-император, его сын.
На листе бумаги на имя этого ребенка крупными кудрявыми буквами было выведено: «Всепресветлейший, державнейший великий государь император и самодержец всероссийский, государь всемилостивейший…»
Герцог Антон читал эти строки. «Государь всемилостивейший» продолжал плакать. Анна Леопольдовна склонилась над колыбелью и тихим голосом успокаивала ребенка.
Герцог Антон перечитывал написанное: «По всемилостивейшему Ее Императорского Величества блаженные и вечно достойные памяти определению пожалован я от Ее Императорского Величества в чины – подполковника при лейб-гвардии Семеновском полку, генерал-лейтенанта от армий и одного кирасирского полку полковника. А понеже я ныне, по вступлении Вашего Императорского Величества на всероссийский престол желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при Вашем Императорском Величестве всегда неотлучным быть.
Того ради, Ваше Императорское Величество, всенижайше прошу, на оное всемилостивейше соизволя, от всех тех доныне имевших чинов меня уволить и Вашего Императорского Величества указы о том, куда надлежит, послать; также и всемилостивейшее определение учинить, чтоб порозжие чрез то места и команды паки достойными особами дополнены были…»
Герцог Антон умакнул перо и написал внизу: «Вашего Императорского Величества нижайший раб Антон Ульрих…»
Потом присыпал пестрым песочком подпись, упал головой на стол и громко, как ребенок, заплакал.
– Ну, вот чего еще недоставало, – с досадой сказала Анна Леопольдовна и, взяв императора из колыбели, понесла его в соседнюю комнату, подальше от горькими слезами плачущего его «нижайшего раба» и отца…