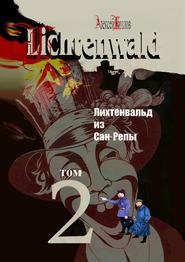скачать книгу бесплатно
Лихтенвальд из Сан-Репы. Роман. Том 2
Алексей Козлов
«Лихтенвальд из Сан-Репы» – роман о доблестном Алексе Лихтенвальде, которому помогают высшие силы. Возвращение на родину и новые похождения в компании с Гитболаном и Кропоткиным.
Лихтенвальд из Сан-Репы
Роман. Том 2
Алексей Козлов
© Алексей Козлов, 2017
© Алексей Борисович Козлов, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4483-0189-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Новое явление страшного незнакомца народу
Ранним утром обещавшего быть прекрасным дня июля одна тысяча девятьсот, не будем говорить какого года, на старой Нусековской дороге, у развилки, обозначенной только поваленным ржавым столбом, остановилась роскошная машина – массивный чёрный масляно-никелево – лакированный закрытый лимузин невиданной модели, с золотыми дворниками и затемнёнными окнами. Потом несколько любителей-автомобилистов, напрягая извилины, припомнили, что модель эта точно была «Мерседесом» образца 1934 года, ручного исполнения, сильная штучка! Несколько старых пердунов увидев такое диво, облизались. Машина эта довольно долго стояла у края дороги в ожидании чего-то, и её никто не покидал. Потом дверь треснула, и из неё первым делом выскочил шустрый длинноволосый и длинноносый угреватый шофёр в оранжевой кепке и услужливым движением распахнул широкую переднюю дверь. Через несколько секунд из машины, запахивая чёрный кожаный плащ нервными интеллигентными руками, вылез высокий, плотный мужчина, с очень эксцентричным и завораживающим лицом, как автору показалось – весьма знакомым по каким-то древним публикациям и документальным фильмам, с чёлкой и импозантными венскими усиками под носом по моде начала прошлого века. Вслед за ним появился совершенно разухабистый, явно страдающий одышкой толстяк в тоге. В руках толстяк бережно сжимал круглую гнутую красную баранку от детского велосипедика «Росток». Присутствовавшие при появлении толстяка женщины без всяких оснований могли сделать скороспелый вывод, что толстяк в тоге очень любит детей, сделать – и ошибиться, он их терпеть не мог! Все, все старые девы заявляют, что любят детей, но так ли на самом деле, никто не знает.
Завершал появление странной компании болезненный бомжеватого вида субъект в нищенской, всюду залатанной робе, похожей на толстовку. Милиционер, заметивший странную гоп-компанию из стеклянной будки, сначала решил проверить документы у странных персон, для чего уже и привстал, но потом, увидев нечто вообще несообразное, побелел, сел обратно на карман с дневной выручкой и из будки не пошёл. Велик был контраст между ухоженным нагловатым денди в машине и его странным попутчиком и вызывал вопросы.
«Что общего может быть между этим нищим плохо одетым бастардом и пижоном в шляпе, явным иностранцем? Ничего не может быть! Персоны из разных опер! Весьма подозрительная парочка! – напрашивался сам собой ответ, – Что общего между этим сомнительным аристократом и клоуном в тоге? Для рождественских утренников время явно не подходящее, далеко ещё до новогодних ёлок, не до них сейчас! Ну и троица! Не взорвали бы тут чего! Надо бы проверить, не иностранцы ли? – думал милиционер и не находил ответа, что делать. Думал милиционер проверить подозрительную троицу, думал, да так и не проверил. Испугался он совсем другого, о чём даже мы не будем говорить и испугавшись, к машине не пошёл вовсе… не потому, что заметил странное. Каждый день тут, на его дороге было столько странного, что он уже ко всему привык, но тут… На самом деле пригвоздил, пришпилил его взгляд странного субъекта, очень тяжёлый, странный взгляд, от которого не приходилось ждать ничего хорошего. Как только мент оторвал зад от коленкорового сиденья, чтобы встать, иностранец посмотрел на милицейскую будку таким спокойным взглядом, так снял удобную лайковую перчатку и что-то произнёс глуховатым голосом так, что даже муравьи у обочины дороги замерли. Да-с, мы с прискорбием вынуждены констатировать, милиционеру совсем вдруг расхотелось идти исполнять свой долг.
– Ну, вот тут и будет! Подождём, наши друзья уже грузятся. А мент – умный! Знает, с кем надо дело иметь! Глаз намётан! – пробурчал клоун в тоге.
Совершив вместе с толстяком короткую прогулку к лесу, о чём-то заинтересованно беседуя, потирая руки и постоянно жестикулируя, высокий господин, видимо слегка размявшись, вернулся в машину и резко захлопнул дверь. Как раз в это время те, кого ждали на дороге уже, и правда, грузились в автобус.
– Шеф! А, шеф! Повеселите чем-нибудь исключительным, я знаю, как велика ваша коллекция человеческого материала. Мистер Гитболан! Давайте посмотрим, как живут здесь люди, самые обычные люди, я полагаю это не менее поучительное и интересное зрелище, чем забавы королев! Да и иногда можно повеселиться при этом так, как не повеселишься ни на одном эстрадном номере! Что там Букингемские забавы и Луврские причуды! Правда – здесь! – крикнул Кропоткин, заранее потирая ручки.
– Да! Идейка неплоха! – подтвердил Нерон, сморкаясь в подол хитона и зажав неудобную тиару между ног.
– Итак, вы, друзья мои, предлагаете мне посмотреть обычную бытовую сценку, какую можно часто видеть в их тесных жилищах? – засмеялся маг и одним движением развернул вращающийся шар.
«Эрец! Перец! Гармонайль! Вереск! Пенис! Харль! Манайль!»
В магическом стекле Гитболана было уж совсем что-то интересное. У входной двери стоял один был здоровенный парень с улыбкой на лице и длинными волосами до плеч, другой – дёрганый интеллигент с высохшим от постоянных запоров лицом встречал его по другую сторону, недоверчиво заглядывая в глаза. Через миг два персонажа находились в коридоре довольно новой квартиры и проходили один за другим в дверь. Кристалл даже читал мысли двух коренных сблызновчан, показавшихся мне почему-то поразительно знакомыми.
Элтон плюхнулся в новенькое кресло.
«Никакого уважения к моим трудам. Даже не заметил моей покупки, гнидёныш! Даже не заметил! Я всю спину порвал, гоняя тележку с майками по рынку! Столько башмаков прохудил! Ящики с майонезом «Лурд» – это вам не подарок! Труженик тыла! Иван Сивый!
Славика передёрнуло.
«Прорвёт, прорвёт, прорвёт своей утлой задницей тончайшую шёлковую китайскую обшивку. Шелковичные черви сейчас в гробу ворочаются, вспоминая свои заслуги! Пропадёт весь их труд и дум высокое стремленье! Китайские горшки лопаются от горя! Мать моя, зачем, зачем ты назвала меня Славиком? Я родился только затем, чтобы увидеть, как негодяй рвёт своей задницей шёлковую обшивку моих кресел? О, какая это насмешка судьбы! Такое впечатление, что у него из задницы растут железные шипы! Жлобьё! О, какие они все жлобы! Пилой прошёлся помоей обивке! Боже!»
Как не пожалеть о том, что впустил в свою жизнь чужих! Про себя он уже давал страшную клятву никогда больше не звать старых фронтовых друзей в своё новое жилище, не подвергнув их предварительно дезактивации или лучше вивисекции, но поддался в очередной раз добрым чувствам, и на тебе, получил по самые помидоры, всё поели, всё снесли, чуть дедовых кресел не лишился. Надо наблюдать за ними, чтобы мельхиоровые ложки не с… здили. Дай палец пососать – лапу откусят! Друзья! Мать предупреждала, хлебнёшь ты с ними амброзии! Где был мой ум? А-а? Где честь? Где совесть? Ампутирована!
Однако, похоже у Элтона запоздалая совесть всё же заговорила и он, аппетитно зевнув, покинул насиженное гнездо и стал рассматривать поддельные офсетные олеографии на стенах. Глядя на такую дрянь, правый глаз его смотрел налево, а левый направо. Стоял, как Командор, заложив руки за спину и приподнимаясь на носки трёхкопеечных штиблет. «Я любил такие носить в детстве. Сейчас такие уже не делают, секрет их изготовления утрачен. У меня сегодня во сне выпал зуб! Плохой знак, знак страданий и грядущей болезни!» Рассматривал расплывающиеся пейзажи, дрянь, обретающуюся в хоромах массового человека. Целующиеся дети в лентах. Рождественский ангел голубой с позолоченной трубой. Кастрюльное золото самарской выделки. А это что?
Очки иногда снимал и протирал рваным кусочком дырявого носка. Нет, в нём всё же есть порода, не отнимешь, чёрт подери, не отнимешь! Аристократ в третьем поколении. Глыба! Матёра и прощание с ней. Протуберанец! Девятнадцатый век! Викторианский человек!
– Славик, я надеялся, что у тебя сохранились мои старые порно-карты? Помнишь, я подарил их тебе? Ну, помнишь? Не мог бы ты мне подарить или презентовать их мне на время, знаешь, у меня открылась вторая молодость! Старый солдат вылез из погреба! Настало время влюбляться и бить французов! Я летаю, как бравый орёл-стервятник – говорил дрозд и пытался придать своему голосу жалобу. Ярославна в портках. А тебе они всё равно не нужны! Я знаю!
Славик смешался с грязью и передёрнулся, как корабельный затвор.
– Элтон, я же женат! И женат счастливо! У меня фотографий больше нет! Порнография у меня теперь на кухне! Мне собак не надо! Нам и с женой вдвоём хорошо! Откуда у меня может быть хоть одна карта?
Элтон самоуглубился.
«Конченная душа! Кризис любопытства! Пытается убедить в том, чего нет! Жалкие потуги посредственности пред ликом Твоим, Господи!».
Элтон как бы не огорчился. Чего огорчаться при таком безнадёжном анамнезе. Правда, ё осмотр поддельных раритетов продолжился уже без разговоров.
Как бы прочувствовав полупрезрительное сочувствие друга и помолчав минут пять, Славик внезапно смягчился и рёк:
– Элтон, кстати, я совсем забыл, у меня ведь есть дюжина клубничных журнальчиков, может быть они поднимут твой дух? Только не лапай жирными пальцами! Бумага мелованная! Вот они! Новые!
Он долго лез на полки и рылся в книгах, пока не извлёк самое дорогое.
«Вопрос на засыпку».
Изображение вдруг размазалось и приняло вид вращающейся змеи.
– Вы видели интеллигентных людей средней полосы Европы начала двадцать первого века. Ну, как? Вы удовлетворены этим экскурсом в местные нравы? – спросил Гитболан.
Глубоко тронутый отеческой заботой и тлением, Нерон налился кровью и заблаговествовал:
«В трабант вскочили
И ногой – на газ!
Поганый полицай не словит нас!
Идём по автобану на рогах,
Вселяя в гувернанток дикий страх.
– Надбавь-ка жару! —
Гансик прорычал, —
– Мой «Тробби» выжат, —
Вальтер отвечал,
– Придётся, видно…
– …Вальтер, да ты чо?
– …Лежать в могиле нам к плечу плечо!
– Ты что чмонаешь, обречённый лох!
– Не надо напрягать меня! Я – плох!
Так и случилось. Сторож приволок
На две могилы жестяной венок».
– Нерон! Забыта Страна Детства! Нет надрыва! Нет! Где ломка первых дней творения? Где напор и натиск? Где полёт валькирий в майском небе? Где безумие первой любви? Тебя подводит европеидная бесхребетность! А то всё «приволок-заволок»… Шеф! Куда мы попали? – дуплетом прокричал Кропоткин и разбежался в разные стороны.
– Бди, каналья! – промолвил Нерон, – Довольно разговоров! Пустых Скоро промоушен будет! Едут!
Глава 2. Страшный случай на дороге
А тем же днём случилось вот что, описанное потом газетами: «Рано утром седьмого июля одна тысяча девятьсот… года» от от главного входа чрезвычайно презентабельного здания закрытого пансионата «Черепшина», где обычно отдыхали в тишине и столовались в покое высшие чины городской администрации славного и быть может известного вам по уголовной хронике центрального телевидения древнего города Сблызнова, в направлении к шоссе отбыл новенький, сверкающий никелем и тонированным стеклом автобус с игривой рекламой и группой депутатов Сблызновского Народного Сейма на борту, публике весьма разношёрстной, если не сказать более. Точнее, новенький «Мерседес» перевозил весь только что избранный в «народном» голосовании Сейм в полном его составе, если это можно так назвать. Отдых прошёл на ура, сами знаете, как располагает к весёлому и беззаботному времяпровождению чудная природа с рекой, вековым лесом, лугом, чистый сосновый воздух, просторные светлые номера кемпинга и наличие обширного бара. Прощальный вечер прошёл с трогательным пионерским костром и довольно тихо, если не считать разбитых холодильников в номерах, облёванных занавесок в столовой, полдюжины поломанных стульев в холле и груды мусора повсюду, о причинах возникновения которой никто не мог сообщить ничего толкового. Вечер завершился помпезным гимном Сан Репы, буйными плясками, быстрыми, но эффективными романами-случками с обслуживающим персоналом-девушками, поэтому утром его участники вставали тяжело. Да, тридцать три богатыря и две богатырские женщины, которые несмотря на свою половую принадлежность тоже, как оказалось, были депутатами, времени зря не теряли и рта зазря не разевали.
Когда уютный автобус мягко выруливал по извилистой дороге меж огромными вязами, на сотовом телефоне начальника фракции Народно – Сексуального блока Сан Репы Ли Ивановича Моппса раздался звонок его секретаря Антона Хрипукбзднжанского. Звонок этот, разумеется, удивил маститого политика. Тот нёс какую-то несусветную чушь, про Армагеддон, пожары, что-то блеял про беспорядки, повторял визгливым голосом «Сблызнов! Сблызнов!», а в конце зарыдал тонкой фистулой и бросил трубку. Ли Иванович Моппс недаром был знатоком Сблызновской политической кухни, чтобы поверить в эту сбивчивую речугу, скорее похожую на бред буйно помешанного, чем на речи здравого половозрелого мужчины. Но он слишком хорошо помнил свои Нусековские матырства и встречи с сатанинской компанией карликов и великанов, чтобы не понять – дело серьёзное. Поэтому, заложив свой портативный телефон в широкий карман твидового, слегка залитого вином костюма, он только буркнул: «Что за чертовщина? Зачем я держу этого дурака при себе? Давно уже пора указать этой помеси Ноздрёва с Хлестаковым на его место или выгнать к чёртовой матери, что ещё правильнее! Почему он прямо не позвонил в компетентные органы? То, что он ненормальный, хорошо известно, да пойди, найди среди местных кретинов исполнительного человека! Этот хоть и ненормальный, да очень всё же старается! Они не могли попасть в Сблызнов. Куча городов в Сан Репе! Нечего им тут делать! Чепуха какая-то!» И хотя про себя он и говорил это, лёгкое, ни на чём не основанное облачко тревоги и замешательства уже закопошилось в его маленьком сердце и ему даже пришлось встряхнуть головой, чтобы отогнать неизвестно откуда появившееся грозовое облако.
Между тем автобус выбрался из затенённых джунглей заповедника на шоссе, ведущее в Сблызнов, и взяв скорость, весело бежал между широко расстилавшихся полей, обмелевших и пришедших в запустение речек, ветхих избушек на горизонте и гигантских замков Карабаса Барабаса, которые представляют ныне самую интересную и причудливую черту окрестного пейзажа нынешнего Сблызнова.
«Ты лети, наша песня, лети, сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви» – пели туристы. Кто ездил по Сан Реповской провинции, тот хорошо знает, что Шкуры, Мрази, Дряни, Хряки, Ошкуряевки – самые распространённые названия деревень и посёлков, какие можно здесь встретить на пути. Название – немое свидетельство доисторических нравов, господствовавших здесь столетиями. Дикие помещики былых времён имели к несчастью столько досуга, что им хватало его на изумительные эксперименты над крестьянами, топографией и словообразованием, но не хватало порой на самые простые и практичные вещи, например на еду для своих рабов. Ковровое бомбометание не могло бы так преобразить местность, как смогли преобразить административный восторг и созидательная, неугомонная деятельность. «Название, – как сказал в своей последней речи наш великий вождь, друг народов Тути-Фрути – это засохшая музыка, свидетельство нравов и дела народного…» Попугай-юморист перефразировал засохшую музыку в заглохшую, что тоже верно. С этим определением не поспоришь, музыка так музыка, вектор так вектор, восторг так восторг, в конце концов, не живём же мы там, где живут эти бедные люди, покинутые временем и забытые пространством. Тяжёлые на руку и малообразованные хозяева человеческих душ явно полагали и не без оснований: «Вот проедем рядом с неизвестно каким блудливым языком обозванными Мразями и тю-тю, поминай, как звали. Не жить нам здесь вечно. Точнее, не жить никогда. Лучше жить в Патарстоуне или на худой конец, в Нусекве, а не в ваших Мразях». Мрази, конечно писатели любят иногда описывать в своих слезливых повестушках с этими бесконечными «стягами» «супонями» «рындами», желая предстать в роли народных радетелей, но сами обитатели Мразей такой литературы не читают в принципе и не без оснований: жить тяжёлую и скучную жизнь вдали от цивилизации. Да ещё и читать о ней, извините – это извращение! И там я был, мёд-пиво пил, у моря видел дуб мочёный, под ним сидел и кот учёный свои мне сказки говорил. Скажу вам по секрету, нет пейзажа грустнее Сан Реповского придорожья. Вековое молчание раба висит над ним, ожидание новой беды, и только ветры проносятся в широком поле колышащейся кое-где пшеницы, гуляют над бритыми берегами умирающих рек и гонят лёгкие распутные облака в несусветную даль. Боже, как грустно мне, как грустно! Как грустна моя страна, моя милая Сан Репа, Боже мой, Боже! Как я любил всё это когда-то и до какой степени не могу это видеть сейчас. Безнадёжно, с пустыми и холодными глазами смотрю я на всё это однообразие, в эту минуту преображённое появлением долгожданного трогательного автобуса с уткнувшимся в стекло удивительным пассажиром.
Глядя в широкое окно рассеянным взглядом, Ли Иванович внезапно обратил внимание на несколько чёрных густых столбов дыма прямо по пути следования.
У деревни «Синие Котьхи» диким пламенем горела буйная степь. Огонь рвался на другую сторону шоссе и было понятно, что это ему удасться.
«Наверно лес горит. Какие-то негодяи всё время жгут лес. Несколько прямых поджогов за два последних месяца – это много, очень много! А впрочем, и чёрт с ним, новый вырастет, не в пустыне живём!» – сказал Ли Иванович сам себе брезгливо, рассмотрев в своём мутном отражении надёжную фамильную бородавку у носа. Потом втянул ноздрями воздух и снова поморщился. К далёкому и крайне неприятному запаху гари стал примешиваться ещё более омерзительный запах. Впереди автобуса ехала такая замызганная гом… овозка, что её становилось жалко любому, кто видел это чудо техники прошлых веков. Хобот механического золотаря волочился по асфальту и извергал потоки радужной жижи. Туристы в автобусе заткнули платками обуховидные носы, вдавили животы и стали поочерёдно шутить.
«Все в го… не, зато разгружать не надо! Ли Иванович, ваши архаровцы едут?» «Приеду – снесу голову!» – решил в гневе не по годкам деловитый Ли Иванович.
Водитель угрюмо посмотрел на четырёхколёсного разбойника. Хотя скорость механизированного золотаря была весьма приличной, опытный седовласый водитель «Мерса» стал набирать скорость. Возможность до самого Сблызнова обонять народный дух, не привлекала и патриотичного Ли Ивановича. Когда до окончания этого нехитрого и знакомого, как пять пальцев, маневра оставалось всего несколько метров, гом… овозка вдруг резко затормозила, а почему, водитель злополучного автобуса так и не успел понять толком. Гом… овозку понесло юзом, и на мгновение она закрыла своим беременным боком всю проезжую часть.
«А-а-а» – возопил водитель и диким движением вывернул руль. Автобус в мгновение ока вынесло на другую полосу, и в последнее мгновение побелевший водитель увидел растущий покатый и безобразный лоб другой говновозки.
«А-а-а! Чтоб вам… Проклятье! Каждый день – День Го… на!..» – только и успел пропеть водитель, бешено нажимая на тормоз и похолодевшими висками чувствуя, что мощный и всегда безотказный механизм совершенно не подчиняется его приказам, а даже совсем наоборот, ещё быстрее несет многотонную махину к неизбежному столкновению на бешеной скорости. Водитель ещё сильнее вдавил тормоз в пол.
«О, чёрт! Что происходит? О, чёрт! Наваждение! О-о! Только не это!» Почти уже ничего не соображая, водитель бил ногой по тормозу, но не судьба!..
Ресь! Тресь! Бенц! Вау! Тяжкий удар, звон битого стекла, дружный вопль слились в протяжный вой, и тишина, воцарившаяся через несколько секунд, была противоестественна.
Когда смолкли заливистые полицейские свистки милиционеров, невесть откуда набежавшим зрителям бросилась в глаза жуткая, но живописная картина: сплочённые в крепком объятии, догорали гом… овозка и «Мерседес» – конь и трепетная лань, Лейла и Мейджнун, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, дон Кихот Ламанческий и Дульцинея Тобосская. Все слились теперь в едином порыве, а на измятом борту догорающего автобуса красовалась бодрая размашистая рекламная надпись жёлтой краской по чёрной полосе: «Роллтон. Лапша быстрого приготовления. Съешь нас – сэкономишь час!».
Незаметно набралась толпа. Она стояла беззвучно и неподвижно и взирала на импортную лапшу, обильно орошённую пеной из огнетушителей. Среди праздных посетителей автомобильного шоу выделялась странная группа, те, кто потом пытались вычленить события приснопамятного дня, сразу отмечали, что выделили странных зрителей из толпы праздношатающихся. Потом некоторые вспомнили, что же особенно их поразило и пришли к выводу, совершенно правильному, что поразило их то, что в жаркий летний день эти товарищи были одеты как-то поразительно, немотивировано тепло, одеты не по сезону короче. В центре троицы стоял чрезвычайно высокий и удивительно ладно скроенный смугловатый человек с утиным римским носом, гордой головой, в длиннющем блестящем плаще невиданного фасона и в тирольской шляпе, надвинутой на глаза. На губах у него застыла полупрезрительная улыбка и глаза были расширены. Один глаз, сильно увеличенный стеклом монокля, был зелен, другой аспидно чёрен. Под носом его чернели усики щёточкой по моде начала прошлого века, золотого времени оперного искусства. Один рукав его утопал в бездонном кармане, а другой рукой он сжимал белую явно импортную трость и постукивал ею то и дело о свой немыслимо дорогой коричневый ботинок. Ни у кого из толпы не было никаких сомнений, что один такой башмак мог потянуть на зарплату целого завода честных санреповских тружеников, которые теперь тусовались около роллтоновской лапши. Рядом с высоким франтом торчал толстяк со всклокоченными рыжими патлами. Он всё время нетерпеливо подпрыгивал и его широкая, как будто художественная не то штормовка, не то блуза колыхалась то и дело. Третий был и вовсе какой-то истощённый недоеданием бомж с перевязанной засаленным платком головкой и ртом до ушей, пересекавшим голову почти на всём её протяжении. Было видно, что третьего не то разбивал неоднократно паралич, не то в детстве его уронили с четырнадцатого этажа, в общем – человек претерпел по полной программе и теперь находится в процессе успешной реабилитации и абсорбции. Странная компания то и дело шушукалась, вернее стоявшие по бокам персоны подпрыгивали к уху чернявого аристократа и что-то ему говорили.
Так начался приснопамятный день, положивший конец старой жизни. Он оставил такую жуткую память во всех, кто хоть каким-то боком был связан с прекрасным Сблызновым, где мы все к несчастью родились, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Мы не будем мешать бодрым суетящимся специалистам с фибровыми потёртыми чемоданищами, скрупулёзно мерящим тормозные пути и соскребающим горелую краску с поручней, и пока милиция упорно разгребает мгновенно возникшую на дороге быструю лапшу, мы преодолеем десятилетия, отмотаем время назад и кое-что вспомним на досуге такое, какое мало кто вспоминает, тем более, что теперь времени у нас навалом. Очень часто то, чего уже нет и в помине, выглядит на вид лучше, чем то, что ещё существует.
Потихоньку, вкрадчиво и как бы исподволь мы приближаемся к тому долгожданному моменту, когда на нашей авансцене должен явиться наш герой и повести нас в свой странный мир, неведомое существо, не догадывающееся о нашем умысле. Он уже бродит поблизости, пытаясь чем-то заниматься, забредая на городской рынок и отирая фалдами своего довольно потрёпанного пальто каменные прилавки. При этом он брезгливо отдёргивает руку. Автор уже чувствует своим острым носом его неповторимый и специфический запах. Уф! Немного терпения, читатель! Не будем спешить! Я ещё не успел поведать тебе о древнем городе Сблызнове, городе твоего детства, городе первой мечты, городе первого поцелуя. И намереваясь это сделать, я уже потираю руки. Вот уж развлечёмся!
Глава 3. Город Сблызнов в утреннем свете
Видел ли кто, поколесивший по сей благословенной стране, город лучше, чище и милее города Сблызнова? А увидев, понимал ли, куда он попал? Хорош, хорош-таки город Сблызнов со своими кривыми грязными улочками, жуть, домами, набросанными как попало будто расшалившимся пьяным младенцем на ровной, как сковородка, местности. Всё здесь причудливо и непредсказуемо, как сам характер народа, его населяющего. Кому повезло родиться здесь, тот любит, чего греха таить, свой город и почитает за честь быть его гражданином со всеми втекающими сюда предпосылками, вытекающими отсюда последствиями и немногими странными привилегиями. Особенно хорош Сблызнов летним вечером, когда осядет едкая пыль, поднимаемая загадочными грозными механизмами на его улицах в часы делового снования торгового и праздношатающегося люда, и в свете гаснущего и уходящего дня на его лицо ложится выражение удовлетворения и довольства. «Мы хорошо поработали и теперь хорошо отдохнём», – как бы говорит оно нам, и мы сразу и навсегда уверяемся в истинности и неоспоримости этого выражения. Сразу потянет дымком из самоварных труб, печами – народ садится за вполне законную трапезу, осади на плитуар!
Хорош, хорош-таки был Сблызнов со своими сбитенщиками, лудильщиками, кухарками и своим замызганным людом. Я не знаю ни одного человека, равнодушного к его неброской, как бы это точнее сказать, даже уродливой красоте, к его невменяемой оригинальности во всех чертах и складках. Несколько иностранных пилигримов, занесённых разными бурными ветрами сюда на протяжении двухсотлетней, славной истории Сблызнова, были столь поражены его своеобразием, что только один из них не оставил этнографических записок, в коих бы остались бесценные свидетельства и картины тамошней жизни, да и то не оставил по причине преждануременной кончины. Собранные неизвестно кем и лежащие по сю пору в специально оборудованном помещении городской бани, эти записи, по большей части изгрызанные мышами, содержат столь противоречивые сведения, что составить какую-либо более или менее полную картину жизни обитателей не представляется ныне возможным. Посланник Кардамон неизвестно по каким причинам прозябавший здесь более трёх месяцев и чудом сбежавший из Сблызнова на воздушном шаре, склеенном им из рыбьих пузырей здешних сомов, славных своими размерами, оставил впечатляющий рисунок, на котором явственно видны чёрные курные дома, разбросанные по холмам, кривоватые колокольни из пережжённого кирпича на наиболее презентабельных местах, и стены деревянной, дровяной крепости, позволяющие судить о строительном мастерстве того приснопамятного века и удалом размахе строительства сблызновчан. При этом он был настолько скрупулёзен, что изобразил даже купу чахлах берёз на фоне крепостных стен. Эти берёзы на том же месте стоят, такие же маленькие и плюгавые, что и при Кардамоне, вечная ему память. И похоже, что они даже не выросли ни на йоту за прошедшие века.
Как и все подобные города, Сблызнов был построен не для жизни в нём, но для созерцания его с дальних дистанций административными персонами, когда мелкие молопривлекательные детали не видны, а подслеповатые, выжившие из ума и часто престарелые вельможи видят только величие здешних холмов да луну поперёк неба. Жизнь напоказ, жизнь как зрелище прилепилась к образу великого города и больше от него никогда не отлеплялась, даже во времена нашествий!
История в широком смысле не является наукой, как считают многие, это скорее некое общественное искусство. Нет, скорее творчество. В ней нет цепких, неукоснительных формул, также меры и весы не постоянны и изменчивы. К каждому событию может быть миллион разных подходов и мерил. То, что изучается в школе, следовало бы называть «Хронологией», но ни в коем случае не «Историей». Что же касается истории Сан Репы и отчасти Сблызнова, то тут ситуация ещё более запутанная.
До появления на картах благословенной Сан Репы города, на его месте кучковались безнадёжные слободы, заселённые разным проходным людом или ссыльными разных мастей. Заселение происходило без всякого плана, всяк приносил своё бревно и свой гвоздь и всяк заколачивал своё бревно в свой гвоздь, не обращая ни малейшего внимания на то, что заколачивает его сосед и куда. Дружбы между поселенцами, как правило, не наблюдалось, наличествовало придирчивое завистливое признание. Тех, в ком не было природной въедливости, потихоньку выпихивали и изгоняли придирками, ночными подножками и они безропотно уходили в ночь без слов и сетований. Коренной сблызновчанин, как гордо называл себя венценосный пиит Грегори Опискин, в конце своей жизни сполна почувствовал на своей шкуре силу сблызновского остракизма, обрушившегося на него из-за сущих пустяков – откуда-то взявшейся привычке задирать голову на закате и шептать собственные нерифмованные стихи с присвистом. Его посчитали сначала чудаком, потом не своим, потом чужим, потом просто сумасшедшим, потом – опасным необъяснимым рецидивистом, потом экстремистом, потом потенциальным террористом, а потом просто изгнали, особенно не разбираясь ни с законами, каких и сами не знали, ни с кухонным общественным мнением. Как Овидий, изгнанный из Рима, скитался он долго по свету, и канул в бескрайних окрестных просторах вместе со своими никому не нужными сочинениями. Таких примеров была масса, не всем открывал своё загадочное христианское сердце неумолимый Сблызнов, не всем, и гордыни не терпел совершенно!
Как же жили здесь люди? Да как жили? Так и жили! Три века назад они стали сбегать от своей сохи и селиться поближе к скоплениям народных масс. Кто убежал, тот селился в городках, а кто не сумел убежать, тот оплакивал свою горестную судьбу и влачил жалкое существование под присмотром помещика или председателя колхоза. И хотя эти названия звучат по-разному, но по существу, и помещики, и председатели – суть одно и тоже. Раздень их догола, поставь рядом и никто не угадает, чем они отличаются, зуб даю на отсечение.
В конце концов, какая разница, по какой причине тебе не дано убежать, потому ли, что тебя сторожит помещик и урядник, или потому, что председатель и милиционер паспорт не дают. Какая разница. И вот в Сблызнове три века подряд только и делали, что беспрерывно оплакивали свою горестную судьбу. И продолжали линять в города и пристраиваться там разными путями и тропами. В результате столь мощных и непредсказуемых миграций в Сблызнове, на мизерной территории, скопилась половина населения, в то время, как остальная осталась прозябать на выселках и деревнях, раскиданных чёрт знает на какие расстояния. Жить в городе, разумеется, получше, чем жить в глухой деревне, спорить нечего. Тут тебе и телефон, и смывной бачок, и газ из конфорки, живи и радуйся, пока не подохнешь.
Все сблызновца, чувствовавшие проснувшееся уважение к себе, и расправляя новые крылья, сразу же начинали бурную трудноостановимую деятельность, и деятельность эта сводилась к обзаведению какой-нибудь лавочкой, желательно на бойком месте, с большим замком и охраной. Марс – бог торговли властвовал здесь, не давая никому покоя. Вот и всё. Радость по поводу освоения торговых площадей, впрочем довольно быстро проходила, и пальма первенства отдавалась тогда размножению и дальнейшему пестованию чад. Подрастающие поколения ничем не отличались друг от друга, разве что всё возраставшим пристрастием к употреблению крепких горячительных напитков.
Оставленный на долгие годы без попечения власть имущих, Сблызнов пребывал веками в летаргическом сне и радовался каждому немудрёному историческому чуду, случавшемуся всегда, как назло. Чудеса радовали Сблызновцев, но крайне произвольный характер чудес вселял в них каждодневное раздумье, не посылаются ли столь сомнительные чудеса в качестве наказания за мелкие уездные грехи. Попытки получить ответы на столь острые вопросы, не приветствовались местными священнослужителями, тем более, что они традиционно читали проповеди на языке, который никто не понимал.
На начальном этапе доисторической истории Сблызнова центральные власти нанесли незаживающую рану тонкой душе Сблызнова. Сблызнов, отстроенный рачительными отцами-основателями на непроходимых болотах, тогда носил название Нусеква, которое, как знает каждый младенец, произошло от двух слов, а именно «мошка», трансформировавшегося в «мушеква», и звукоподражательного «ква», не нуждающегося в расшифровке ввиду его зримо звукоподражательного характера. Раскинувшийся на болоте сосед перехватил звучное название и присвоил его себе. Несмотря на ропот Сблызновских нусековичей. Так вопреки исторической справедливости Сблызнов стал Нусеквой, а Нусеква Сблызновом.
Именно с этого времени город обзавёлся своим гербом: кувшином, из которого вытекала какая-то жижа.
Переименование городов ввиду их тогдашнего жалкого состояния не сопровождалось большими празднествами, однако двое алкоголиков в тот день упились дармовой брагой до смерти. Да по городу целый месяц скакали конные патрули в поисках очередных зачинщиков. Шло время. Проходили века. Сменялись династии фараонов. Немцы ждали Валгаллы. На торговых путях лазили шайки разбойников и шли караваны пингвинов. Шекспир пробирался в чужой лес с луком охотиться за королевскими оленями. Со стиляги сорвали штаны. Нусековский ипподром рвал бумажки. Люди лечили желудок «Пепси-Колой» и мазались бриолином. В Вене носили усики щёточкой. Паровозы гремели шатунами. Везде кипела звериная жизнь, а в это время в Сблызнове почти ничего не менялось, по крайней мере сведений об этом в уездных летописях не сохранилось совершенно. Тусклая неприхотливая жизнь диктовала свои неписаные законы. Всё было размыто и зыбко и жителям города иногда начинало казаться, что они и не живут вовсе, а видят бесконечный серый сон. Приходило и быстро уходило поколение за поколением, не осознав, кто они, откуда и зачем-таки явились на свет божий. Нет, я не буду даже упоминать о непререкаемом атрибуте Сблызновской жизни – хроническом пьянстве, ибо вы и сами прекрасно осведомлены об этой стороне Сблызновского существования. Не надо. Не надо. И без того тошно. Я лучше расскажу о тех немногих истинных чудесах, чьё влияние поколебало болотную ряску и долго служило притчей во языцех.
Однажды в Варфоносоньепском скиту монаху Ептимию явилась во сне прозрачная корова с огромным, синим пылающим выменем, с родинкой на сократовском лбу и ветвистыми оленьими рогами. Она дико мычала и била копытами в сочный дёрн. Она была прекрасна, и все считали, что она неминуемо заговорит. Толки по этому поводу свелись к тому, что такое явление должно сопровождаться невиданным урожаем, что, однако, не последовало, и на следующий год случился неурожай, ящур и засуха. Спустя десять колов времени на третьем Ахинейском соборе, так называемом Варварином, Тараторин выступил с зажигательной речью, полной предчувствий томительного конца. Он обозвал слушателей «свинорылыми муравьями» и предрёк им всем скорый и страшный конец. В тот год великое нашествие тли и жука – клешневика смутило народ и извлекло невиданное количество попов из их скитов и келий. Народ жаждал божьей защиты, хотел, чтобы монастырские дети окропили поражённые скверной поля своим тайным чудодейственным раствором и поля таким образом освободились от скверны и вредителей. Попов на поля, однако, выползло столь много, что они заполонили всё обозримое пространствои, и скорее мешали друг другу, толкаясь ягодицами, чем истребляли божественными пассами хлебную тлю. К тому же они потоптали своими бахилами гораздо больше посевов, чем была способна съесть тля.
Без худа нету зла. Отсутствие еды произвело мощное движение населения на основных дорогах. Толпы двинулись, кто куда и кто на чём. На этом, однако, видения не прекратились, а наоборот, многократно умножились. Лицезрение полуобнажённой святой Монистии стало со временем явлением чуть ли не банальным. Летающие собаки, говорящие ёжики, плачущие, или даже рыдающие глицерином иконы святого Мориска составляли костяк новых провидческих снов пастырей овец православных. Что-то неуловимое, как дуновение ветра проносилось в застоявшемся воздухе. Монахи, предавшие свои души вольному полёту фантазии и избравшие себе в качестве примера благословенного, но уже изрядно почившего в бозе Ептимия, видели теперь столь много чудесного, что иногда в их видения приходилось вмешиваться настоятелю. Это уже напоминало соревнование в причудливости ума, некий конкурс, несовместимый с характером Варсоносопьевского Скита. И настоятель это знал. Своим острым пьявочным носом он ощущал, что обилие снов хорошо, когда не переходит границ чётко очерченного здравого смысла, но когда переходит, свидетельствует о приближении смутных времён и катаклизмов. Настоятель совершенно справедливо полагал, что во всём, как в божьем промысле, так и в земных делах пристойна мера, а посему видений должно быть столько, сколько нужно для дела. Остальные видения он отвергал и отрицал, как заведомо вредные, разрушительные для общественносго духа и народного спокойствия. Знал он также, что столь бурно описываемые монахами святые видения, якобы пригрезившиеся им есть не что иное, как выдумки то ли изощрённого ума, то ли больной психики, а монахам по ночам могли присниться скорее грешные женщины, чем безгрешные ангелы.
Надо отметить, что все эти бесчисленные сметанноеды и ветхопещерники оставили по себе далеко не самую лучшую память в навсегда обиженном и одуревшем от произвола и пьянства народе.
Есть более позднее, но оттого не менее интересное свидетельство знаменитого Сблызновтинского писателя Никиты Муарова, где он приводит весьма точные и достаточно ценные факты из жизни Варфонософьевской братии, добытые им при шунтировании железными стеками стен пещер, в коих с незапамятных времён обретались монахи.
Полный решимости преуспеть в жизни, не надсадившись работой, он выстроил план, в осуществимость которого сам не верил. Он мечтал подобно Шлиману найти сокровища веков. В том, что эти сокровища есть в карстовых пещерах, он не сомневался. Но где?
Скитаясь в бесконечных коридорах, где не было солнца, господин Муаров сначала не наткнулся ни на какие свидетельства жизнедеятельности. Но потом…
Насколько можно верить этим свидетельствам, в одном укромном местечке, под густым слоем белил была обнаружена торичеллиева пустота, а в ней – две старинные гимназические тетради в линейку, банка сморщенных, поеденных жуками белых грибов, несколько ценных предметов старинного кастрюльного золота, бутылка с прокисшей винной бурдой, чёрный деревянный крест с кое-как выцарапанной на нём фигурой какого-то кривоватого, невнятного святого, и в заключение – патрон от испанского мушкета, уже тронутый медной зеленью и благородной патиной.
«Встреча Билла Клинтона и Моники Левински в Соборе Святого Петра». Они посмотрели друг на друга. Папарацци! Где папарацци?
Ни патина, ни грибы, ни даже пыльная бутылка зелёного стекла не тронули осязательного Муарова, как эти бесценные тетради. Дрожащими руками взял он полуистлевшие, хрупкие раритеты, с величайщей осторожностью раскрыл на первой страницы и поразился. Выцветшими орешковыми чернилами изящным, почти женским почерком с наклоном на странице было начертано: «Учитель Беловайский! А не пошёл бы ты…». Далее была изображена пышнотелая женщина с птицей на плече и сияла игривая клякса.
«Вот откуда у ёжика зебры растут! Вот оно как!» – воскликнул внутренне Муаров.
Вторая запись гласила: «Мадемуазель! Вы прищемили мне палец! Вы достойны осквернения! Отказ от исповеди неуместен! Раздевайтесь во имя отца и сыны и святого Мука!
Эрих фон Конетс».
Эта странная запись была трактована исследователями в том смысле, что монахи к моменту делания этой записи освоили искусство перевоплощения столь хорошо, что уже не знали, кто они сами.
Третьим объектом изучения был листок, вложенный в тетрадь отдельно:
«Откровения Отца Флориссия из Соловков».
«Велик Святой человек. Его робкие сексуальные утехи схожи скорее с оргиями францисканцев, запертых в клетках, хотя по остроте, и извращённой напряжённости далеко оставляли всё выдуманное мировыми светилами. Мог ли я осуждать его за это? Природные способности, как клеймо, выбитое навеки, и если ты рождён явно не пуританином, стоит ли печалиться, что ты не половой гигант и уже не представляешь интереса для осьмнадцатилетних…»
Но самое интересное и интригующее было на других одиночных листках, вложенных в самый конец тетради.