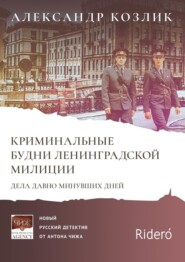скачать книгу бесплатно
Владимир Александрович Ястребов, ранее давший показания, был задержан в порядке ст. 122 УПК РСФСР (в качестве подозреваемого) 10 мая 1982 года. Сроки следствия и содержания под стражей неоднократно продлевались прокурором города Ленинграда, прокурором РСФСР и Генеральным прокурором СССР и с разрешения Президиума Верховного Совета СССР, так как все предусмотренные законом сроки содержания под стражей истекли.
По мере расследования отдельных эпизодов они выделялись в отдельное производство. Постепенно эти расследования завершались и направлялись в суд для рассмотрения. Таким образом, было окончено19 уголовных дел в отношении 76 человек, которые были рассмотрены Ленинградским городским судом и другими судами.
По уголовному делу проведена 31 экспертиза (почерковедческие, товароведческие, криминалистические и судебно-психиатрические экспертизы).
Причиненный ущерб по делу №286 составлял 368 558 рублей 47 копеек, обеспечено возмещение ущерба по делу на сумму 340 254 рубля 62 копейки.
Уголовное дело было на постоянном контроле в Генеральной прокуратуре, естественно, у начальника ГСУ[2 - ГСУ – Главное следственное управление.] ГУВД Ленинграда Алексея Васильевича Петрова и начальника ГУВД Анатолия Алексеевича Куркова, который перешел в милицию из КГБ, так сказать, в порядке усиления и контроля со стороны «старшего брата». В 1982 году, с приходом к власти Юрия Андропова, МВД возглавил Виталий Васильевич Федорчук, бывший заместитель начальника КГБ. По его просьбе в МВД были направлены 150 сотрудников КГБ. В Ленинграде, как я помню, их пришло около 20 человек, и возглавили они наиболее сложные участки работы: уголовный розыск и ОБХСС. Насколько им удалось эти подразделения усилить, судить мне сложно, поскольку в тот период я работал на невысоких должностях, но, судя по тому, что я знал, все-таки работа в милиции значительно отличается от работы в КГБ, и потому через некоторое время в Управлении внутренних дел остались единицы.
Был привлечен к уголовной ответственности и генеральный директор «Ленбытхима» Олег Леонидович Грачев. Все руководство «Ленбытхима» поменяли. Так закончилась эпопея с хищениями в данном объединении.
Уголовное дело №5580: Воры-рецидивисты
Лето 1975 года было нежарким. В кабинете начальника третьего отдела следственного управления ГУВД Леноблгорисполкома подполковника милиции Аркадия Григорьевича Крамарева было прохладно. На столе перед подполковником высилась гора уголовных дел, присланных из различных районов города. Напротив Крамарева сидела капитан милиции Лариса Тимофеевна Соколова, следователь его отдела, которой предстояло разобраться со всем этим нагромождением. По одному из дел было двое арестованных: некие Ефремов и Ефимова, задержанные за совершение квартирной кражи. По остальным делам необходимо было определить, имеют ли эти граждане отношение к ним или нет.
– Ну что, Лариса Тимофеевна, – сказал Аркадий Григорьевич, – давай разбирайся. Вначале закрепи доказательствами по одному делу, а затем их проверяй по другим. Опера обещали помочь. Ты только на них дави, чтобы шевелились. Я все дела тебе распишу, в канцелярии получишь. Все ясно?
– Чего уж тут неясного.
«Сопротивляться все равно бесполезно, дел и так полно», – подумала Лариса Тимофеевна и отправилась к себе в кабинет.
Подумать Ларисе Тимофеевне было о чем. Сложность в расследовании возникала прежде всего из-за того, что большинство уголовных дел были возбуждены не своевременно, а по истечении нескольких дней и даже месяцев, поэтому не везде выезжали на место преступления эксперты и брали отпечатки пальцев, а про обходы квартир с целью выявления свидетелей вообще говорить не приходилось. Во всех районах шла активная борьба за раскрываемость преступлений, «глухарей» никто не хотел иметь, поэтому прятали заявления кто как мог. Возбуждали дела только тогда, когда деваться было некуда или когда ловили преступников на месте преступления. Зато когда ловили, то тут уж «крутили» на все преступления, про какие только знали.
Получив уголовные дела, Лариса Тимофеевна начала знакомиться с тем, по которому обвиняемые Ефремов и Ефимова были задержаны. 10 июля 1975 года Ефремов через незакрытую форточку проник в квартиру Рыбаковых по адресу улица Рижская улица, дом 4. Ефимова, согласно договоренности между ними, сторожила у окна. Ефремов нашел в квартире чемодан, портфель и туда сложил похищенное имущество. Брал все, что под руку попало: два золотых кольца общей стоимостью 120 рублей (цены удивляют, но это был социализм, средняя зарплата была как раз 120 рублей), костюм кримпленовый – 80 рублей, пиджак – 20 рублей, 10 грампластинок – 13 рублей, 2 кофты – 65 рублей, 3 платья – 41 рубль, 2 пары сапог – 66 рублей, фотоаппарат «ФЭД» – 40 рублей, духи, пудреницу, бутылку бальзама и бутылку спирта, даже игральные карты, записную книжку и кухонный нож. Ничем не брезговал наш «герой». Всего стоимость похищенного составила 814 рублей 10 копеек. Понятно, что этим Ефремов причинил значительный материальный ущерб семье Рыбаковых. Портфель и чемодан он передал через окно своей подельнице Ефимовой – и оба они скрылись. Привезли все вещи на квартиру к некой Поляковой, которая обещала им помощь в сбыте краденого, на улицу Восстания, дом 3/5. Этот адрес давно был на контроле у участкового инспектора Николая Васильевича Трофимова, который заглянул к ним в тот вечер. Похищенные вещи так и лежали посредине комнаты, только на столе оставались пустые бутылки из-под бальзама и спирта. Доказательств оказалось вполне достаточно, тут и «пальчики» Ефремова обнаружили, и свидетелей нашли, которые видели под окном Ефимову, да и сами задержанные особо не сопротивлялись. Да и куда сопротивляться, если все факты налицо.
С этим делом было вроде бы все ясно. В кражах из других квартир, совершенных таким же способом, обвиняемые не признавались. Предстояла длительная и упорная работа по доказыванию. Прежде всего Лариса Тимофеевна назначила дактилоскопическую экспертизу по изъятым с места происшествия отпечаткам. В то время компьютеров не было, поэтому для того чтобы провести проверку по имеющимся отпечаткам, необходимо было иметь конкретных подозреваемых. Иначе надо на проверку посадить сотни экспертов, чтобы выявить по картотеке всех ранее судимых. А это было просто невозможно. Вот если было конкретное лицо, тогда, пожалуйста…
Затем Лариса Тимофеевна составила схему: где и когда было совершено преступление. Сразу же стало видно, какие преступления, возможно, совершены данной группой. И тут она обратила внимание, что имелись дела, когда обвиняемые уже были задержаны, а кражи таким же способом продолжались. У Соколовой возникла мысль о том, что поймана не вся команда. Надо было проверить все их связи. Тут уж без оперативников было не обойтись.
Лариса Тимофеевна сняла трубку телефона и набрала номер, который помнила наизусть. С Николаем Петровичем Синицыным она была знакома давно, он работал в отделе по квартирным кражам Главка и часто помогал ей в раскрытии. На звонок ответил сам Синицын:
– Слушаю.
– Не узнаешь? – спросила Лариса Тимофеевна.
– Тебя не узнаешь. Опять с какой-нибудь гадостью связалась и меня втянуть хочешь, – ответил Синицын.
– Ты угадал. Когда приедешь?
– Сейчас и приеду, все равно не отстанешь.
Через 15 минут оперативник был у нее в кабинете. Лариса Тимофеевна ознакомила Николая Синицына с уголовными делами и поставила конкретную задачу: узнать все, что можно и нельзя, про Ефремова и Ефимову. Угостила чаем, и Николай побежал. Ведь не зря говорят, что опера, как и волка, ноги кормят.
Прошло несколько дней, и Николай Синицын появился в кабинете у Ларисы Тимофеевны. По его лицу было видно, что пришел он не с пустыми руками.
Николай вытащил все записи и, сверяясь с ними, доложил вот что. Ефремов оказался ранее дважды судимым за совершение краж личного имущества. В мае 1975 года был условно освобожден и направлен на стройку народного хозяйства в Саратовскую область. (Было тогда такое наказание, чтобы люди зря хлеб не ели и приносили пользу государству. Осужденных освобождали из мест лишения свободы с направлением на какие-либо стройки, например, комбината. Там освобожденный проживал в общежитии и работал. Если не было замечаний, то освобождался полностью, если совершал преступление или плохо себя зарекомендовывал, то решением суда его возвращали в места отбытия наказания.) Но не всех это устраивало, и, выходит, Ефремова тоже не устроило. Он сразу скрылся со стройки и приехал в Ленинград, где находился без определенного места жительства и занятий, одним словом БОМЖ и З. Крутился он в районе Лиговки и Московского вокзала, среди друзей у него были Суворов, Поплавский, Бабкин, все ранее неоднократно судимые, некоторые не имели прописки и не работали. Публика подбиралась еще та, за которой глаз да глаз нужен. Но, что интересно, в период, когда Ефремова задержали, Суворова и Поплавского в городе не было. Они уезжали куда-то в область.
Обдумав имеющуюся информацию, Соколова и Синицын приняли решение поднять по картотеке отпечатки пальцев Суворова, Поплавского и Бабкина и проверить их на причастность к имевшим место кражам. А заодно и установить оперативное наблюдение за всей этой командой.
Через две недели Ларисе Тимофеевне позвонила эксперт Людмила Сысоева и сообщила, что по четырем из семнадцати уголовных дел отпечатки пальцев, оставленных на месте преступления, принадлежат Ефремову, однако по Ефимовой ничего не было. Да и Лариса Тимофеевна не ждала в отношении этой дамы положительных результатов, так как было ясно, что в квартиры обычно проникал кто-то из мужчин. Все кражи были совершены одинаковым способом: преступник влезал в открытую форточку или окно квартир, которые были расположены на первом или втором этажах.
Теперь были все основания поговорить с Ефремовым, но для этого предстояло тщательно подготовиться. Поскольку Ефремов был ранее неоднократно судим, так просто он не «расколется». Обдумывая стоящую перед ней задачу, Лариса Тимофеевна вспомнила пример из практики, который, когда она училась в университете, не раз приводил знаменитый профессор Лукашевич. И решила им воспользоваться.
Получила все экспертизы по делам, сделала необходимые выписки и направилась в тюрьму «Кресты». Пока ждала, когда приведут в кабинет Ефремова, сложила все листы с записями и спрятала под уголовным делом. Ефремов явился довольный, видно, тюрьма была для него что дом родной. Явно в тюрьме он не бедствовал. Разместился напротив следователя и поинтересовался, как идут дела, скоро ли Лариса Тимофеевна собирается заканчивать дело и направлять его в суд.
– Не все так просто, – ответила Лариса Тимофеевна, – ты ведь не хочешь все рассказать о своей преступной деятельности, сколько и где совершил краж, так что мы сами вынуждены все собирать.
– Ну что вы, Лариса Тимофеевна, я больше никаких преступлений не совершал, – наивно захлопал глазами Ефремов.
– Ты уже дважды судим за совершение краж личного имущества, и теперь тебе светит признание особо опасным рецидивистом, а следовательно, максимально возможная мера наказания, раз ты не хочешь признать свою вину и помогать следствию.
Ефремов картинно воскликнул:
– Да я со всей радостью это бы сделал, если бы за мной что-то было, разве я не понимаю!
– Ну, раз понимаешь, – кивнул Лариса Тимофеевна, – тогда объясни вот это, – и выложила перед Ефремовым акт почерковедческой экспертизы по одному из дел. В акте было сказано, что на месте преступления имеются его отпечатки пальцев.
Ефремов прочитал, задумался и заявил:
– Да совсем забыл, там я действительно был…
И рассказал, как в мае этого года он проник через форточку в одну из квартир дома 52 по Литейному проспекту, откуда похитил две куртки и различную посуду. Готов показать квартиру и помочь следствию.
– Это все, что ты можешь сказать? – спросила Лариса Тимофеевна.
– Да, – ответил Ефремов.
Тогда Лариса Тимофеевна вытащила второй акт экспертизы, где было сказано, что на месте преступления в той же квартире обнаружены отпечатки пальцев Суворова.
Ефремов растерялся и явно не знал, что и сказать. Лариса Тимофеевна тут же выложила перед ним протокол допроса Ефимовой, где женщина призналась, что хорошо знает Суворова и Ефремова и что они вместе проводили время и совершали квартирные кражи. Делать было нечего, и Ефремов признал, что вместе с ним на краже был и Суворов, а заодно и Поплавского сдал, так как не знал, что еще известно следствию.
– Ну а про остальные кражи что скажешь? – ободренная успехом, спросила Лариса Тимофеевна.
Тут Ефремов и признал, что в этом же мае месяце он вместе с Суворовым совершил кражу подбором ключа из квартиры, расположенной в доме 39 по улице Чайковской, откуда они похитили транзисторный приемник. Об этой краже Лариса Тимофеевна ничего не знала, да и дела у нее такого не было, поскольку в данный момент они подбирали только те дела, где было проникновение в квартиру через окно или форточку. Но вида она не подала, только опять спросила, все ли Ефремов рассказал. И когда он клятвенно стал заверять, что все рассказал, Лариса Тимофеевна опять предъявила новый акт экспертизы, где были обнаружены его отпечатки. Таким образом, допрос шел порядка 8 часов. Ефремов сопротивлялся упорно, но, в конце концов, признался в совершении 10 квартирных краж и рассказал об участии в них Суворова, Поплавского, неизвестных следствию Ерова, а также о сбытчиках краденого Поляковой, Першиной и Балашовой. Из его показаний вытекало, что в городе действовала устойчивая преступная группировка, которая совершала квартирные кражи не только в Ленинграде, но и в его пригородах.
Теперь следовало все закрепить, добыть еще доказательства, так как Ефремов в любой момент мог отказаться от своих показаний – и следствие тогда окажется ни с чем.
Приехав из «Крестов», Лариса Тимофеевна поспешила доложить все Аркадию Григорьевичу Крамареву. Они приняли решение созвать совещание совместно с уголовным розыском и создать оперативно-следственную группу. На совещании было запланировано отработать показания Ефремова и закрепить их следственным экспериментом, чтобы он показал, где именно совершал кражи и что воровал. А остальных – Суворова, Поплавского и тех, кто с ними будет, – задержать прямо на месте совершения преступления.
24 июля 1975 года днем Суворов вместе с Поплавским и Балашовой, находясь под наблюдением оперативников, подошли в дому 21 по улице Петра Лаврова и стали осматривать окна. Заметив, что в одном из них открыта форточка, Суворов с Поплавским это окно открыли и проникли в квартиру. Балашова осталась у окна сторожить. Она же должна была предупредить находящихся в квартире подельников на случай их обнаружения.
Как впоследствии стало известно следственной группе, Поплавский и Суворов взяли из квартиры приемник «Отдых» стоимостью 30 рублей, в хозяйственную сумку сложили различную посуду: фужеры, рюмки, стопки, всего на общую сумму 30 рублей. Передали через окно все похищенное, выпрыгнули на улицу и тут же были задержаны работниками милиции.
Операция по задержанию была проведена успешно, преступники были деморализованы, поскольку не знали, с какого периода за ними велось наблюдение. Каждый старался сдать другого первым, чтобы не идти «паровозом» – то есть лицом, с кого все началось, организатором преступлений.
В результате кропотливой работы следователей и оперативников была изобличена преступная группа, занимающаяся квартирными кражами, состоящая аж из 10 человек. Всего ими было совершено 17 преступлений в течение мая – июля 1975 года. Среди них четверо были привлечены к уголовной ответственности за оказание помощи в сбыте похищенного имущества.
При рассмотрении уголовного дела в суде Суворов, Ефремов и Поплавский отказались от своих признательных показаний, но это уже никак не повлияло на имеющиеся доказательства. Они были признаны судом особо опасными рецидивистами и осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Уголовное дело №15720: Интеллектуалы
Николай Васильевич Семенов работал в третьем отделе УБХСС – Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности. Это была организация, которая страшила многих любителей поживиться за чужой счет, особенно за счет государства. «Николай Васильевич» звучало немного странно, потому что на тот момент Семенову было всего 26 лет, он только недавно окончил экономический факультет финансово-экономического института и был приглашен в Управление на столь ответственную работу. Николай Васильевич очень гордился этим – и пусть ничего героического совершить он еще не успел, но он очень-очень хотел разоблачить какого-нибудь расхитителя социалистической собственности. Однако ему поручали все какие-то мелкие, незначительные дела, от одного вида которых становилось скучно.
Вот и сегодня он получил в канцелярии бумагу, которую ему расписал начальник. Анонимка, которую и проверять-то, по большому счету, не надо было, а ему дали. В ней говорилось, что через магазины «Ленкнига» сбывают похищенные из библиотеки книги. И приводилось фамилии нескольких людей, у которых были приняты книги на продажу. На документе начальник отдела Вениамин Петрович Никитов написал Николаю: «Выйти в магазин и проверить».
Происходило это все в октябре 1977 года. В то время публика в Советском Союзе была читающей и даже очень. Люди могли всю ночь простоять на улице, чтобы в «Подписных изданиях», был такой магазин на Литейном проспекте, подписаться на издание «Всемирной библиотеки для детей» или «Всемирной библиотеки для взрослых». Макулатуру собирали все – чтобы ее сдать и получить несколько томов Джека Лондона, Валентина Пикуля или Александра Дюма. И магазины «Ленкниги» пользовались большим уважением, через его работников можно было достать любую книгу. Как говорил Аркадий Райкин, все они являлись «особо уважаемыми людьми». Магазины были расположены в центральном районе города. Вот и направился Николай Семенов в магазин по адресу, о котором шла речь в анонимке, на Большом проспекте Петроградской стороны, в доме 29.
Директор магазина Семен Михайлович Митрохин встретил Николая без особой радости. Но по первому же требованию предоставил корешки квитанций о приобретенных у населения книгах. Николай быстро нашел нужную квитанцию. В ней шла речь о приобретении магазином у гражданина Лебедева «Сборника учебно-литературного общества при императорском Юрьевском университете» за 1901 год. Николай поинтересовался у Митрохина, находится ли еще данная книга в магазине. Через некоторое время Семен Михайлович принес эту книгу. Визуальный осмотр показал, что на первой и 17 страницах, где обычно стоят штампы библиотеки, имеются следы, указывающие на то, что эти штампы пытались вывести с помощью кислоты. Николай указал на это Семену Михайловичу, и тот заверил, что разберется с сотрудницей, которая приняла эту книгу. Естественно, сам Митрохин об этом ничего не знал и даже не догадывался. Николай составил акт об изъятии книги и направился на экспертизу. Необходимо было установить, из какой библиотеки была похищена данная книга.
Через несколько дней эксперт позвонил Семенову и сказал, что удалось восстановить печать, хотя не полностью. Однако, по ней видно, что книга принадлежит библиотеке Педагогического института имени Герцена.
Подготовив соответствующий запрос, Николай Васильевич отправился в институт, который располагался на Мойке, и сразу же направился к проректору по хозяйственной части. Тот вызвал к себе заведующую библиотекой, и стали разбираться, как книга могла оказаться в магазине.
Педагогический институт имени Герцена располагался в зданиях, разбросанных по всему городу. В некоторых из них, для нужд факультетов, имелись библиотеки. Поэтому сразу же ответить, откуда была похищена данная книга, заведующая не могла. Договорились, что через несколько дней Николай придет к ней, и к его визиту заведующая постарается во всем разобраться.
Чтобы не терять даром время, Николай стал выяснять, кто такой Лебедев, сдавший книгу в магазин, и какое он имеет отношение к педагогическому институту. Выяснил быстро. Алексей Владимирович Лебедев, 25 лет от роду, часто менял места работы, прогуливал, любил выпивать, стоял на учете как употребляющий наркотики. Каким образом у него очутилась такая книга, объяснить пока не удавалось.
Когда Николай вновь появился в институте, заведующая была готова ответить на его вопросы. Выяснилось, что книга «Сборник учебно-литературного общества при императорском Юрьевском университете» за 1901 год находилась на балансе в филиале института, расположенном на улице Братьев Васильевых, дом 26. В связи с проведением капитального ремонта здание было закрыто, часть фонда библиотеки вывезена, а около 4,5 тысячи книг остались законсервированными в бывшем помещении библиотеки. Книги были сняты со стеллажей, связаны в пачки и закрыты в кабинетах на замки. Ключи от всех кабинетов находились у вахтеров. Теперь, чтобы представить всю картину, необходимо было установить, единственная ли это похищенная книга или нет. Вместе с заведующей Николай Семенов принял решение под предлогом проведения ремонта вывезти все оставшиеся книги, провести ревизию и выявить недостачу. При этом постараться не разглашать причину проведения ревизии. Работа предстояла большая, поэтому заведующая попросила на это время, не менее месяца.
За этот период Николаю предстояло выяснить, каким образом Лебедев имел доступ к библиотеке института. В качестве вахтеров в данном филиале работали три пенсионерки: Серафима Степановна Багаутдинова, Татьяна Михайловна Мельниченко и Светлана Петровна Перова. Все трое проживали в коммунальных квартирах, и выяснить их образ жизни не представило особого труда. Мельниченко и Перова были замужем, имели семьи, характеризовались положительно. Посторонние их не навещали, и в продаже книг ни одна из них никогда не замечалась. Внимание Николая привлекла Серафима Багаутдинова. Проживала одна, в квартире книг не держала, но с тех пор, как стала работать в институте, у нее появилось много книг. Посещали ее знакомые, по сравнению с ней, молодые ребята и женщины, среди них оказались Алексей Лебедев, Виктор Смирнов, Инна Скобелева. И не было понятно, что их связывало.
Пока шла инвентаризация, Николай решил запросить все ближайшие магазины «Ленкнига» на предмет сдачи Лебедевым, Смирновым, Скобелевой и Багаутдиновой книг за последние полгода. Таких магазинов он насчитал семь: два – на Большом проспекте Петроградской стороны и Васильевском острове, один – на Московском проспекте, один – на улице Герцена, один – на Литейном, один – на Невском проспекте и один – на проспекте Огородникова. Направил соответствующие запросы и стал ждать. Забросил, так сказать, сеть, и теперь предстояло выловить рыбку. Николай весь горел от нетерпения, но его звонки, чтобы ускорить проверки, только мешали.
Приблизительно через месяц стали подходить результаты: выяснилось, что во всех магазинах несколько раз в месяц за последние полгода Лебедев, Смирнов и Скобелева сдавали различные книги, не было только Багаутдиновой.
Список книг поражал воображение: «Зоологическая хрестоматия», сочинения Пушкина издания 1887 года, «Записи императорского русского географического общества», литература XIX и начала XX века – и так далее.
К этому времени инвентаризация библиотеки завершилась и выяснилось, что было похищено всего свыше 700 книг. Похищены книги, представляющие историческую ценность. Так называемый «крепостной фонд» библиотеки. Литература, составляющая «крепостной фонд», сложилась из книг, которые в годы Великой Отечественной войны, в блокадном Ленинграде, свозили для хранения в Петропавловскую крепость. Это книги «Архивы графа Воронцова», «Архивы графа Мордвинова», «Род Шереметьевых», «Жизнь Сперанского». Книги – памятники древней письменности, такие как «Жития святых», «Костромские церковные древности». Книги по географии, истории, праву. Список похищенных книг явно превышал тот, который Николай получил из магазинов, но этого уже было достаточно, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Он доложил материалы начальнику отдела и, получив от него согласие, понес их в ГСУ. Материал поручили старшему следователю третьего отдела Ларисе Тимофеевне Соколовой. Обсудив всю возникшую ситуацию, они решили возбудить уголовное дело и одновременно провести обыски в квартирах всех подозреваемых: Багаутдиновой, Лебедева, Смирнова и Скобелевой. Была создана оперативно-следственная группа, привлечены дополнительные силы – и появление оперов на квартирах было полной неожиданностью для преступников. Свыше 240 книг, похищенных из библиотеки института, было изъято у Багаутдиновой, 46 книг – у Лебедева, проживающего совместно со Скобелевой, 20 книг – у Смирнова. При обыске на квартире у Лебедева была обнаружена и изъята анаша весом 2,52 грамма. В связи с этим было решен вопрос об его аресте, всем остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Несмотря на внешнюю простоту дела, работа Ларисе Тимофеевне Соколовой предстояла сложная. Обвиняемые Багаутдинова, Лебедев и Скобелева вели себя непоследовательно. В содеянном полностью не раскаивались, пытались возложить вину друг на друга и отрицали явные факты. Только Смирнов полностью признал свою вину, раскаялся и дал развернутые показания по всем известным ему фактам хищения книг.
В процессе расследования выяснилось, что еще в 1974 году Серафима Багаутдинова поступила работать вахтером в здание филиала педагогического института имени Герцена. Имея ключи от всех помещений, во время дежурства она стала систематически совершать кражи книг из библиотеки. Несколько книг сдала самостоятельно в магазин «Ленкнига», однако быстро поняла опасность разоблачения и привлекла для этого Лебедева, а затем и Скобелеву. Вырученные от продажи деньги они делили между собой. Лебедев и Скобелева длительные периоды времени не работали и существовали на деньги, полученные от продажи книг. Инвентарные номера в похищенных книгах они вытравливали или смывали, а в ряде случаев просто вырывали листы, где имелись штампы. Позднее, Багаутдинова стала давать ключи от библиотеки Лебедеву и Скобелевой во время своего дежурства, и те стали постепенно ориентироваться в книгах, которые пользуются повышенным спросом, отбирали те, которые стоят подороже. Единовременно, на одну квитанцию, Лебедев, Скобелева (а позднее к ним подключился и Смирнов) сдавали книги на сумму от 120 рублей (средняя зарплата инженера на заводе). Возможность таким образом получить шальные деньги толкала их на совершение новых краж. Так продолжалось на протяжении всего 1976 и 1977 года, пока библиотека не была вывезена из здания института. Причиненный ущерб институту четверкой этих «интеллектуалов» составил 4315 рублей 25 копеек, не говоря уже о том, что большинство книг, имеющих историческую ценность, были безвозвратно утрачены.
Уголовное дело рассматривалось в Петроградском народном суде Ленинграда: Багаутдинова была осуждена к 8 годам лишения свободы, Лебедев – к 7 годам лишения свободы, Скобелева – к 5 годам лишения свободы и Смирнов – на 3 года лишения свободы условно.
Уголовное дело №14200: Мародеры в порту
Расследование данного уголовного дела началось с того, что 14 июля 1976 года начальник цеха №2 Прижелезнодорожного почтамта при Московском вокзале Пискунов выехал в Ленморторгпорт для растарки[3 - Растарка – выгрузка товара из тары.] контейнеров с международной почтой. Совместно с ним были работники почтамта Федоров, Генкин, Соломина и Константинов. Ими были растарены контейнеры №310224, 311354, 301728, 303326. При этом было обнаружено, что во всех контейнерах мешки с посылками были вскрыты, пломбы сорваны, часть вещей разбросана по контейнерам. О происшествии составлен акт. Позднее при досмотре в цехе №7 почтамта были установлены кражи из 37 посылок, направленных международной почтой через порт.
С этого времени работники Главпочтамта и таможни стали периодически устанавливать отсутствие вещей в контейнерах. При этом на самом контейнере печать была не тронута, а кража имела место. Перед сотрудниками милиции возник вопрос, где совершались кражи: в порту отправления, на судне или уже у нас?
В связи с возникшей ситуацией начальник уголовного розыска водной милиции Иван Николаевич Тимофеев оказался в весьма затруднительном положении. Если возбудить уголовное дело – это явно «глухарь». Раскроется это дело или нет, еще вопрос, а отвечать за него придется немедленно.
Скинул он все эти акты о недостачах на молодого опера Петра Селина – пусть все собирает, а там видно будет. В случае чего, можно будет перед прокуратурой хоть оправдаться неопытностью молодого сотрудника.
Стал Селин складывать все эти акты. И вот что стало выясняться:
– 23 июля 1976 года обнаружена кража в контейнере №2013046, похищены 4 пары женских босоножек бельгийского производства, стоимость одной пары – 32 рубля;
– 9 августа 1976 года из контейнера №2004567 пропали 3 юбки общей стоимостью 90 рублей;
– 2 августа 1976 года из контейнера №1278282 пропали 4 пары полуботинок португальского производства общей стоимостью 160 рублей;
– 27 сентября 1976 года из контейнера №1278305 пропала 1 пара полуботинок португальского производства стоимостью 40 рублей.
С каждым днем обстановка в порту стала все больше накаляться. Начальник уголовного розыска водной милиции Тимофеев понимал, что свалить невозможность раскрыть мелкие, но вопиющие факты воровства на молодого специалиста не получится, а значит, необходимо было принимать какие-то меры. Проведя анализ всех случаев краж, он понял, что именно здесь, в порту, действует преступная группа мародеров. Было принято решение внедрить в число работников порта своего сотрудника. Для этого Тимофеев обратился за помощью в Главк, где ему выделили молодого опера Константина Челышева. Подобрали его тщательно. Ростом Константин был под 180 см, плотный, мускулистый, занимался борьбой, и таскать мешки ему было не впервой: в институтские времена он подрабатывал докером. Разработали легенду, согласно которой Константин только что вернулся из армии, профессии не было, а здоровье очень даже позволяло. Вот и обратился он по поводу работы в порт. Тимофееву пришлось походатайствовать о приеме Челышева в док перед сотрудником КГБ Петровым, иначе не взяли бы.
В первый выход на работу Константин попал в бригаду к Ивану Петровичу Забардаеву. Бригада состояла из восьми человек, все докеры-механизаторы, и обслуживали они 35-й склад, где больше всего совершались кражи. Для перевозки грузов в бригаде были автопогрузчики, на которых большинство и работало.
Встретили Константина в бригаде без особого энтузиазма, первое время сторонились и пытались отправить работать куда подальше. Но Костя по характеру был общительный, от работы не отказывался, старался всем помогать, возле начальства не крутился. Несколько совместных гулянок, где проставлялся Константин, значительно уменьшили недоверие. Константин довольно быстро сориентировался в условиях работы. И обратил внимание, что в бригаде командует не бригадир, а Иван Осипов, который занимался расстановкой контейнеров при выгрузке и погрузке на теплоходы. Осипов его же сторонился и особых симпатий, видно, не испытывал. Проверка показала, что Осипов был ранее судим за грабеж и хулиганство, освобожден из мест лишения свободы в ноябре 1975 года условно досрочно и сразу же поступил на работу в порт. Подступиться к нему Челышеву никак не удавалось, но помог случай. В этот день бригада выгружала контейнеры около теплохода, и Осипов, как всегда, принялся расставлять рабочих на складе. Дело было осенью, шел дождь, контейнеры были мокрыми. Когда автопогрузчик подъехал к месту выгрузки, неожиданно контейнер стал сползать – еще мгновение, и Осипова придавило бы! Чем все это закончилось, неизвестно, но, скорее всего, Осипов серьезно пострадал бы. Именно в этот момент к контейнеру подскочил Константин и уперся в него плечом. Всего лишь на мгновение он задержал сползание, но в это время подоспели и остальные, удержали контейнер на автопогрузчике. Осипов как второй раз родился…
Придя в себя, он заявил, что это дело надо отметить, и после смены вся бригада направилась в столовую. Тогда кафе и ресторанов в таком количестве не было. Собирались обычно в столовой или на свежем воздухе – и распивали втихаря, чтобы милиция не поймала. Иначе штраф за распитие спиртных напитков в неположенном месте и сообщение на место работы. А это хуже всего: лишение премий, обсуждение на собрании, в общем, клеймили позором, хотя было ясно, что все выпивают, но попадаться нельзя все равно.
Посидели, выпили, и в конце вечера Осипов подошел к Константину и протянул ему сверток. На вопрос, что это, он ответил:
– Небольшой сувенир, за помощь, дома посмотришь.
Константин пришел домой, развернул, а там мужская куртка производства ГДР. Такую в городе достать можно было только по блату. (Выражение уже незнакомое для нынешнего поколения. Но тогда, в советское время, в пору дефицита товаров, это означало, что вещь достать – не купить! – можно было только по знакомству, у работников торговли или складов.) Константин быстро связался с начальником уголовного розыска водной милиции Тимофеевым и передал куртку. Через некоторое время выяснилось, что эта куртка, в числе других аналогичных курток, была похищена из иностранного контейнера. Стало ясно, что именно эта бригада занималась кражами на территории порта.
Теперь предстояло разработать операцию по задержанию – и так, чтобы не подставить своего агента Челышева. Именно он должен был выяснить обстоятельства и сообщить о краже.
В конце октября 1976 года в порт для отправки поступил контейнер с водкой «Столичная» в экспортном исполнении. Увидев это, Осипов похлопал и сказал:
– Ну, что, мужики, нам ведь не помешает!
Вытащил из кармана гаечный ключ и принялся откручивать гайки на контейнере.
Портовые грузчики Макурин и Мартынов разошлись по сторонам и стали осматриваться, чтобы в случае чего предупредить своего руководителя. Только теперь Челышеву стало ясно, каким образом здесь совершались кражи. Открутив полностью боковину, докеры сняли ее и вытащили из контейнера пару коробок с водкой. Затем быстро все опять закрутили и поставили контейнер на место. Коробки с водкой погрузили на автопогрузчик и поехали к себе в бытовку. Время было уже обеденное, и потому Осипов с членами бригады решили угоститься. Открыли одну бутылку, на пробу. Водка – чистая слеза, всем очень понравилась. Теперь уже парням стало не до работы, так что они приговорили еще 5 бутылок. Воспользовавшись этим состоянием, Челышев вышел во двор и успел предупредить находящегося неподалеку оперативника Петра Селина. Разобрав оставшуюся водку и, засунув ее за пояс брюк, рабочие дока Осипов, Мартынов, Макурин и Прусаков направились к проходной. Костя Челышев притворился пьяным и изобразил, что уснул. С ним на территории оставались еще двое: Мацук и Крылов, которые еще допивали.
Осипов и те, что двинулись с ним, прошли проходную без всяких проблем, но, когда вышли на улицу, были задержаны работниками милиции. На них были составлены акты, и всех этих мародеров направили в отдел милиции. Теперь уже были основания для возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемых.
Как только в Главке стало известно о задержании, руководство операцией там сразу же взяли на себя. Грудь под ордена всегда есть кому подставить… Вызвали следователя из Главного следственного управления, и для расследования направили все ту же Ларису Тимофеевну Соколову. К ее приезду был вскрыт контейнер, установлен факт хищения 24 бутылок водки «Столичная» на сумму 163 рубля 20 копеек.
Ознакомившись с материалами предварительной проверки, Лариса Тимофеевна возбудила уголовное дело по ст. 89 ч. 3 УК РСФСР – хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Речь, понятно, шла не только о 24 бутылках водки. К материалам проверки были приобщены все акты о выявленных кражах за последние полгода. Теперь предстояло разобраться и доказать, какие именно кражи были совершены данной бригадой, а какие нет. Сразу же были вынесены постановления на проведение обысков у всех членов бригады, а таковых оказалось восемь человек. Одновременно оперативники разъехались по адресам, чтобы информация не просочилась и никто никого не сумел предупредить. Результаты обысков превзошли ожидания. На квартирах у всех членов бригады была обнаружена часть похищенного имущества: куртки, полуботинки, свитера и юбки. Все шло в цвет и совпадало с тем, что было похищено из контейнеров.
В процессе расследования, с учетом наличия похищенных вещей, Осипов свою вину признал полностью и дал правдивые показания как по выявленным, так и по не выявленным ранее преступлениям, тем самым способствовав их раскрытию. Большинство других докеров также признали вину, но часть из них пытались переложить свою вину на других.
Было установлено, что после освобождения из мест лишения свободы Осипов, до осуждения за совершенное преступление работавший в бригаде докеров в порту, вновь туда устроился. В бригаде он стал пользоваться авторитетом и организовал преступную группу из числа грузчиков своей бригады, с целью совершения краж государственного имущества из контейнеров на территории 35-го склада Ленинградского морского торгового порта. В состав группы вошли Макурин, Прусаков, Истомин, Забардаев, Мартынов, Мацюк и Крылов. С применением технических средств – ключа и автопогрузчика – они проникали в контейнеры с международной почтой, вскрывали посылки и похищали вещи, вывозили на автопогрузчике в помещение механизации, откуда выносили похищенное с территории порта. Всего за указанный период времени ими было похищено государственное имущество на общую сумму 5837 рублей 10 копеек. Хищение было расценено как кража государственного имущества, поскольку ответственность за сохранность вещей несло Ленинградское производственное управление почтовой связи.
По результатам рассмотрения уголовного дела в суде Осипов и его подельники были осуждены к различным срокам лишения свободы.
Уголовное дело №20793: Угонщики
Полевод совхоза «Коммунар», шестнадцатилетний Сергей Абрашов, возвращался домой с танцев в городе Чудово около двух часов ночи. Дело было в августе, погода стояла чудесная: тепло, светло, яркая луна освещала полеводу путь. Проходя по улице Гагарина, Сережа обратил внимание, что возле одного из домов стоит мотоцикл и на его ручке висит шлем. У него в деревне имелся такой же, марки «Восход-3М», но тот был сломан, а этот вроде ничего, да и со шлемом. В окнах дома было темно, на улице никого, и Сережа решил потихоньку увести мотоцикл. Взялся за руль и покатил его. Задами, задами и на околицу, а там и лес близко. Спрятал мотоцикл в лесу, а сам побежал домой и лег спать как ни в чем не бывало.
День прошел, второй. Тишина, никто мотоцикл не ищет. Пошел Сергей в лес полюбоваться приобретенной находкой, завел мотоцикл – работает. Опять спрятал. Так несколько дней ходил. Прятать мотоцикл и осторожничать Сереже в конце концов надоело, и он решил покрасоваться. Завел мотоцикл и поехал в деревню. Тут сразу же встретил своего приятеля Сашу Иванова. У того прямо челюсть отвисла, когда он увидел Сергея на мотоцикле. Сережа пригласил его покататься. Саша с радостью согласился, уселся сзади – и приятели покатили в соседнюю деревню Панковку. Только въехали, а тут как назло стоит участковый инспектор милиции Николай Иванович Миронов. Увидел их и машет, мол, давай ко мне. Делать нечего, бежать бесполезно, участковый их знает. Подъехали, а он и спрашивает: «Сергей, а откуда у тебя мотоцикл, покажи мне документы». Ну вот и приехали. Мотоцикл забрали, уголовное дело возбудили по краже личного имущества с причинением значительного ущерба, но оставили полевода на подписке о невыезде, несовершеннолетний еще. Мотоцикл потерпевший оценил в 536 рублей 50 копеек, а шлем в 12 рублей 80 копеек.