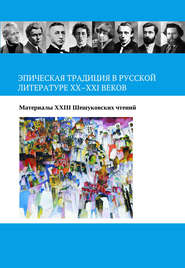 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
Далекая Сибирь, «Золотые горы», соединяющие Европу и Азию, непочатый край природных богатств и возможностей, полна для героев романа М.М. Пришвина, крестьян-переселенцев, различных искушений / испытаний. «Як бы трошки землицы в Полтаве, так на щоб я в ту бисову землю поихала» [7, с. 113], – сетовала крестьянка из Малороссии. Для нее и для многих других переселенцев по неволе Сибирь – «бисова земля». Но, коли «голова на плечах, в Сибири все можно» [7, с. 104], – говорил сибирский купец и пароходчик, дядя Курымушки Иван Астахов, который сам рискнул однажды, «забрал в долг у своих сколько-то денег, уехал в Сибирь и через какое-то, даже не очень и долгое время обратился в сибирского знатного пароходчика» [7, с. 108]. Изгнанного из гимназии с «волчьим билетом» Курымушку, в детстве пытавшегося сбежать от рутины гимназической жизни в таинственную Азию, Иван Алпатов зовет с собой: «у нас там есть своя гимназия, кончит, будет у меня капитаном»; «в Сибири все с волчьими билетами, сам директор вышел из ссыльных» [7, с. 107].
Большое впечатление на Михаила Алпатова произвело преодоление географического рубежа, разделявшего и вместе соединявшего Европу и Азию: «И как же вдруг сердце запрыгало: вот наконец-то она, желанная Азия… куда хотел давно убежать, открыть забытые страны» [7, с. 114]. С отрочества приобщившийся к странствиям в буквально-физическом и духовно-метафизическом смысле, М.М. Пришвин до конца своих дней исповедовал евразийскую по своей сути философию гармоничного синтеза в русском национальном миропонимании и жизне-отношении восточно-азиатского и западно-европейского культурных начал. Творчески переплавившись, они найдут отражение в повестях «Черный Араб», «Жень-Шень», в которых художник представил органичный образ России как великой Евразии. «Я счастливый», – думал Алпатов, впервые осознавший себя сеятелем, посеявшем зерно своего труда в благодатную почву родины, – «хотя и поздно, а у меня вырастает, но почему же вот эти настоящие сеятели бродят по всей нашей земле, и все нет им земли, чтобы посеять свое зерно, и как тут быть» [7, с. 114]. Евангельская притча о сеятеле в романе «Кащеева цепь» становится философским камертоном, с которым измеряет автобиографический герой М.М. Пришвина смысл своего бытия.
Еще в Сибири заинтересовавшись социалистическими идеями, христианскими по своей сути, вступив в «школу народных вождей», Михаил Алпатов после возвращения на родину под влиянием Ефима Несговорова штудирует марксистскую литературу, проходит череду мировоззренческих искушений, главное из которых было искушение землей, о которой спорили люди самых разных политических убеждений, уверенные, что только они знают истину и являются настоящими спасителями отечества. «Сколько затрачивается золотого времени на пустые споры с народниками и между собой! Явно спорят потому, что каждому хочется быть умнее другого, а со стороны кажется, будто они никак не могут поделить чужого добра. Это искушение Алпатов сразу устранил от себя твердым решением считать себя не вождем, а рядовым, в этом, думал он, и есть отличие пролетарского вождя от феодального и буржуазного» [7, с. 205]. Каждый честный человек, полагал он, должен своим трудом по мере сил изменять мир в лучшую сторону, приближать заветный коммунизм. «У Маркса наше дело точно определено: мы должны облегчить роды истории. Разве это маленькое дело?» [7, с. 206]. Но такая позиция интеллигента, сторонника «малых дел», как показали последовавшие за октябрьской революцией события, была не просто весьма уязвимой, а чреватой трагедией.
Свое видение этой трагедии представил А.И. Солженицын не только в эпопее «Красное колесо», где дается широкомасштабная эпическая картина русской истории начала ХХ века, но и в одном из двучастных рассказов «Эго» (1995). Его главный герой, тамбовский интеллигент-демократ Павел Васильевич Эктов, еще до германской войны решивший «быть “культурным работником” на поприще “малых дел”» [10, с. 12], развивая сельскую кредитную кооперацию, был убежден в том, что «мелкая личная помощь человека человеку» «может оказаться путем куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью» [10, с. 12], которое обещают представители «пролетарской власти, никогда не поделившейся с крестьянами ни солью, ни мылом, ни железом» [10, с. 13]. Декрет о земле, принятый на Втором съезде советов, оказался для крестьян, поддержавших революцию 1917 года, величайшим искушением и обманом. Большевики повсеместно стали организовывать заградотряды и продотряды, «отбиравшие у крестьян зерно и продукты» [10, с. 13], проливавшие ни в чем не повинную кровь простых тружеников. «Отначала крестьяне поверить не могли: что ж это такое вершится? Солдаты, вернувшиеся с германского фронта, из запасных полков и из плена (там их сильно обделывали большевицкой пропагандой), приезжали в свои деревни с вестью, что теперь-то и наступит крестьянская власть, революция сделата ради крестьян: крестьяне и есть главные хозяева на земле» [10, с. 13-14]. Но это была иллюзия, сознательная идеологическая диверсия, направленная на искоренение вековых земледельческих идеалов. «Свой хлеб не сеяли – на наше добро позарились?» – возмущались мужики. – «А Ленин говорил: кто не пахал, не сеял – тот пусть и не ест!» [10, с. 14]. Выходит, «произошла измена! Ленина в Кремле подменили!» [10, с. 14].
Мотив подмены в рассказе выступает сюжетообразующим и реализуется во всех возможных семантических вариантах и вариациях, достигая трагической кульминации политико-государственного масштаба: происходит подмена ценностей революционерами-большевиками, изменившими своим демократическим декларациям, подмена классового врага, которым оказываются не буржуазия и дворяне, а стомиллионное крестьянство, пытавшееся под руководством А. Антонова оказать большевикам в черноземной России отпор, но жестоко подавленное и растоптанное. Морально растоптан оказался и Павел Эктов, примкнувший к восставшим крестьянам, арестованный, посаженный в лубянскую тюрьму, но поддавшийся своим частно-человеческо-эгоистическим слабостям (оправдав свое прозвище – Эго), начавший сотрудничать с чекистами и вернувшийся на Тамбвощину вместе с «головорезами»-кавалерийцами Г. Котовского, прикинувшимися белыми казаками, чтобы под видом продолжения борьбы с большевиками уничтожить своих товарищей. Не только страх за близких, жену и дочь («И Полину же потом пристрелят. И Маринку не пощадят» [10, с. 24]) толкает Эктова на сговор с большевиками («И уж какую такую пользу он мог сейчас принести красным?» [10, с. 24], но то самое искушение землей, которую коммунисты обещали сделать всеобщим достоянием: «Может быть, и правда: мы, интеллигенты старой закалки, чего-то не понимаем?» [10, с. 24].
Большевистский лозунг обобществления земли и всего хозяйства сам по себе вызывал одобрение у евразийцев. П.Н. Савицкий в статье «Идеи и пути евразийской литературы», обобщая документы первого съезда евразийской организации (Прага, 1932), цитировал декларацию: «Евразийцы признают, что социальный строй должен быть служебен в отношении интересов трудящихся» [9, с. 530]; в России должна быть национализирована земля и создано «государственное хозяйство». «Однако, оно не совпадает с представлением о нем коммунистов. Евразийское плановое хозяйство “вместо того, чтобы подавлять всеми средствами частную хозяйственную инициативу, будет использовать ее и направлять на служение целому”» [9, с. 531]. Но такой евразийский проект обустройства русской земли так и остался прекрасной мечтой, еще не воплощенной в реальности, наполненной драматическими, а порой и трагическими искушениями, о которых писали Л.Н. Толстой, М.М. Пришвин и А.И. Солженицын.
Литература1. Бердяев Н.А. Евразийцы // Путь. – 1925. – № 1. – С. 134-139.
2. Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – М.: Философское общество СССР, 1990. – 246 с.
3. Борисова Н.В. Лев Толстой в художественном сознании М. Пришвина // Наследие Л.Н. Толстого в гуманитарных парадигмах современной науки: Материалы XXXIV Международных Толстовских чтений. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. – С. 89-94.
4. Ключевский В.О. Русская история. – М.: Эксмо, 2005. – 912 с.
5. Кнорре Е.Ю. Идеал нового «мы» в дневниках и художественных произведениях М. Пришвина 1914-1928-х гг. // Соловьевские исследования. – Иваново, 2015. – №3. – С. 130-142.
6. Мороз А. «От земли уродиться да в землю ложиться…» // Отечественные записки. – 2004. – №1. Электронный ресурс: http://www.strana-oz.ru/2004/1/ot-zemli-uroditsya-da-v-zemlyu-lozhitsya (Дата обращения 11.01.2018)
7. Пришвин М.М. Собр. соч.: В 8 т. – М.: Худож. лит., 1982. – Т. 2. Кащеева цепь; Мирская чаша; Произведения 1914-1923 годов. – 679 с.
8. Пришвин М.М. Дневники. 1928-1929. Кн. шестая. – М.: Русская книга, 2004. – 544 с.
9. Савицкий П.Н. Избранное. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 776 с.
10. Солженицын А.И. Два рассказа // Новый мир. – 1995. – №5. – С. 12-50.
11. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Т. 25. Произведения 1880-х годов. – М.: Худож. лит., 1937. – 914 с.
12. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Т. 83. Письма к С.А. Толстой 1862-1886. – М.: Худож. лит., 1938. – 636 с.
13. Удодов А.Б. Образно-смысловые доминанты «русской картины мира» в романе «Тихий Дон» // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: филология, журналистика. – 2015. – № 1 – С. 64-66.
14. Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. – М.: Наука, 1896. – Т. 10. Сочинения 1898-1903. – 495 с.
The eurasian context of the mythology of temptations earth in prose by L. N. Tolstoy, M. M. Prishvin, A. I. SolzhenitsynAbstract. Through a prism of the cultural and historical and moral and ethical ideas of eurasianism, a social and philosophical current of the Russian thought of a porevolyutsionny era, the prose of writers, genetically and ontologically implanted in the chernozem soil of Russian Podstepya, reflecting in the works on “the fate and the tragedy” of Russia as the original civilization which united the East and the West, Asia and Europe is considered in article. Whether on material of the “national” story of L.N. Tolstoy “It is necessary for the person of the earth much”, the autobiographical novel by M.M. Prishvin “Kashcheeva a chain” and one of “two-private stories” And. I. Solzhenitsyna of “Ego” is investigated the national marked temptation mytheme by the earth, boundless open spaces which for all the centuries-old history were not equipped by the Russian person directed in the spiritual search “for the horizon”, and therefore doomed to overcome tragic tests.
Key words: eurasianism, L.N. Tolstoy, M.M. Prishvin, A.I. Solzhenitsyn, mytheme, earth, temptation, Russian way.
Информация об авторе: Урюпин Игорь Сергеевич, профессор кафедры русской литературы МПГУ, доктор филологических наук.
Information about author: Uryupin Igor. S., professor of Department of Russian literature, Moscow Pedagogical State University, doctor of philological sciences.
Феномен памяти и его художественное воплощение в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»
Е.В. Лупашко /Москва/Аннотация. В настоящей статье представлены результаты исследования феномена памяти в творчестве И.А. Бунина на примере романа «Жизнь Арсеньева». Выявлен и охарактеризован особый тип памяти в романе – прапамять. Исследование показало, что память прошлых существований бессмертной души, проявляющаяся в феномене прапамяти, расширяет пространственно-временные границы текста романа до прошлых воплощений человека.
Ключевые слова: И.А. Бунин, «Жизнь Арсеньева», память, прапамять, вечность, бессмертие, душа.
Особенность прозы И.А. Бунина эмиграционных лет – большая точность и одновременно экономия в отборе средств выражения, в то же время тонкая и осязаема образность, психологическая проницательность, умелое оперирование категориями времени и пространства, разнородность повествовательных перспектив. Писатель показывает человека снаружи с огромной силой выражения, с необычайной точностью передает внешние проявления его инстинктов. Эти доминанты творчества И.А. Бунина с особой силой проявились и в главном произведении писателя – романе «Жизнь Арсеньева», работа над которым длилась с перерывами с 1927 до 1939 года. Это книга, в которой ее главный герой, Алексей Александрович Арсеньев, вспоминает свои детские, отроческие и юношеские годы жизни, свою первую большую любовь (к Лике) как ступени своего личностного развития [1, с.107], является не только авторским опытом художественного постижения «истока дней», но и лирико-философским повествованием о смысле земного бытия, о единстве времени и вечности, концентрированной и овеществленной в человеческой – частной и всеобщей одновременно – памяти. В процессе воспоминания, анализируя свое прошлое, Алексей Арсеньев пытается понять и оценить свои собственные действия и действия людей, с которыми он сталкивается.
«Жизнь Арсеньева», по справедливому замечанию литературоведов, – высшая точка бунинского творчества, постижение которого во всей глубине требует особого, философско-феноменологического подхода. Еще в первых рецензиях на роман эмигрантской критикой (Ю.Айхенвальд, П.Пильский, К.И.Зайцев, Г.Адамович, М.Алданов, З.Гиппиус, Ф.Степун, В.Вейдле, Ю.Мандельштам, И.Демидов, А.Савельев) был поставлен вопрос о жанровом статусе «Жизни Арсеньева» и возможности позиционирования его как автобиографического романа.
Буниноведы (Т.А.Бонами, И.П.Вантенков, Л.А.Смирнова, В.Н.Афанасьев, А.И.Волков, О.Н.Михайлов, Ю.А.Мальцев, И.П.Карпов, М.С.Штерн, Л.А.Колобаева, Н.В. Яблоновская, О.В.Сливицкая и др.) определяют жанр романа комплексно, синтетично: художественная биография, лирико-философский роман, философская поэма, мемуары, повесть о любви, лирический дневник… Таким образом, первая проблема, возникающая в связи с изучением романа, – проблема определения жанровой принадлежности «Жизни Арсеньева», исходящей не из внеположных ей систем, а из внутренних законов самого текста.
Главенствующим элементом в организации подобного сложного целого является память как архетипическая, так и историческая. Архетипическая память является изначальной и неизменной, непостижимой разумом духовной и чувственной связью всего сущего в прошлом, настоящем и будущем [3, с.366]. Не принимая категорию будущего, связанную со смертью, автор организует целостность художественного времени-пространства прошлым, изначальным, реализованным в архетипической памяти, этом уникальном знании об общих законах мироустройства, с которым рождается человек.
Формами существования вечности как временной структуры в «Жизни Арсеньева» являются душа человека и такая разновидность его памяти, как прапамять. О феномене прапамяти Бунин писал на протяжении всего творчества, начиная с ранней лирики, рассказов, путевых поэм «Тень птицы» и заканчивая этапными произведениями позднего творчества: «Жизнь Арсеньева», «Освобождение Толстого».
Прапамять – это способность человека «вспоминать» опыт своих прежних жизней, прежних существований; это то непостижимое в человеке, что не умирает, тот опыт души, который не подвергается изменению не только в течение земного бытия, но и в течение тысячелетий; это те «отпечатки», которые передаются человеку его предками и связывают его с единым, всеобщим, где нет времени и пространства [4, с.35].
Прапамять, таким образом, есть некий эквивалент вечности, бесконечности и всеединства, разрушающий узкие временные рамки земного существования человека. Феномен прапамяти проявляется у Бунина и его героев мгновенными вспышками «узнаваний», озарениями, ощущением, что нечто (знание, человек, место, переживание, картина природы и т.п.) уже давно знакомо, пережито когда-то.
Арсеньев неоднократно говорит о моментах таких «вспоминаний, «узнаваний» [5, с.601]. Слушая в детстве рассказы домашнего учителя о рыцарских временах, маленький Алеша необыкновенно остро ощущал, что когда-то принадлежал рыцарскому миру: видел средневековые замки, рыцарские турниры, чувствовал на себе рыцарские доспехи. По Бунину, знания о самом главном и существенном приобретаются нами не в течение нашей короткой земной жизни, а во время прохождения длинной цепи предшествовавших существований, когда душа человека накапливает огромный духовный опыт. Душа человека, в представлении Бунина, является хранительницей самого важного знания человека. Веря в бессмертие души, существующей вне времени и пространства, Арсеньев постоянно говорит о феномене прапамяти, о памяти-знании, о своих прежних существованиях, об ощущении того, что он уже жил когда-то и будет жить вечно: «У нас чувство своего начала и конца» [2, c. 7]. «Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что бог дал» – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше» [2, c. 19].
Феномен прапамяти в контексте романа Бунина «Жизнь Арсеньева» в силу существования бессмертной души расширяет пространственно-временные границы человеческого существования до времени прежних воплощений человека, до вечности как качественно иного модуса бытия человека, что характерно для христианского новозаветного времени, в которое актуализировалась древнейшая идея бессмертия души человека.
И.А. Бунин находит наиболее точный, отвечающий замыслу принцип повествования: не хронология жизни героя, а процесс пробуждения памяти.
«Жизнь Арсеньева» – это роман-воспоминание. А потому и неудивительно, что главным предметом повествования является не детство и юность Алеши Арсеньева, а воспоминание о них.
Литература1. Бабореко А.К. Бунин: Жизнеописание. – М., 2004.
2. Бунин И.А. Собрание сочинений. В 6-ти томах. – М., 1988. Т. 5.
3. Ковалева Т.Н. Типы художественного времени и их роль в романе И.А. Бунина Жизнь Арсеньева. Проблемы исторической поэтики.– Петрозаводск, 2016. Т. 14. С. 361-383.
4. Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870-1953. – М., 1994.
5. Топоров В.Н. О «поэтическом» комплексе моря и его психофизических основах. // В.Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. – М., 1995.
The phenomenon of the memory and its artistic presentation in the novel by I. A. Bunin “The Life of Arseniev”Abstract. The article presents the results of the research of phenomenon of memory in creation of Ivan Bunin, as exemplified by the novel «The life of Arseniev». Special type of the memory named the greatmemory was educed and described in this article. Research approves that the memory of previous existences of immortal soul, exerted as the phenomenon of greatmemory, enlarges spatiotemporal lines of the novel’s text to previous human beings.
Keywords: I. A. Bunin, «The life of Arsenieve», memory, greatmemory, eternity, immortality, soul.
Информация об авторе: Лупашко Екатерина Вячеславовна, магистрант МПГУ.
Information about author: Lupashko Ekaterina Vyacheslavovna, graduate student, Moscow Pedagogical State University.
Солнце как «деятельное существо» в малой прозе Леонида Андреева
Ж.А. Вартазарова /Москва/Аннотация. Статья посвящена изучению образа солнца в рассказах и повестях Леонида Андреева. Мы постараемся ответить на вопрос, почему солнце так часто предстаёт в произведениях Андреева спутником сумасшествия и смерти, но в то же время оно может оберегать героев от опасности или предупреждать их. Благодаря проведённому исследованию, мы увидим, что традиция, заложенная ещё в древности, продолжает свою жизнь на страницах произведений Леонида Андреева, но в уникальном, присущем только этому писателю, варианте.
Ключевые слова: Солнце, Андреев, миф, мифология, смерть, свет, высшие силы, источник, спутник.
Образ солнца с глубокой древности волнует сердца людей. Не случайно в «Поэтических воззрениях славян на природу» А.Н. Афанасьева этому природному явлению и всему, что с ним связано (свет, лучи, весна, Ярило), отдано больше места, нежели другим. Афанасьев писал, что народ любил природу и боялся её с детским простодушием, оттого и впадал в ужас при затмениях солнца, потому что потерять солнце из виду означало потерять всякий горизонт, ясность, хоть какую-то уверенность: «И когда, наконец, восходило солнце, изумленный зритель задавал себе вопросы: “каким образом, едва родившись, оно является столь могучим, что, подобно Геркулесу, еще в колыбели одерживает победу над чудовищами ночи? как идет оно по небу? отчего нет пыли на его дороге? отчего не скатится вниз с своего небесного пути?” Но все эти вопросы понятны и трогательны по своей искренности в устах народа, еще незнакомого с мировыми законами. Длинный ряд последовательной смены дня и ночи должен был успокоить взволнованное чувство, и взоры человека привыкли встречать восход солнца поутру и провожать его закат вечером» [2]. Люди боялись затмений и думали после каждого из них, что светило больше никогда не взойдёт, отсутствие солнца означало для них апокалипсис. Афанасьев писал: «Обожание солнца славянами засвидетельствовано многими преданиями и памятниками. В словацкой песне солнцу присвоен эпитет божье: “то боже слнечко по неби си бега”; в малорусской песне оно прямо называется богом: “и к сонечку промовляе: помож, боже, чоловику!ˮ».
Сам того не зная, народ был первым поэтом, воспевающим солнце. В восемнадцатом веке М.В. Ломоносов пишет духовную оду «Утреннее Размышление о Божием Величестве», в которой рассматривает солнце то ли как учёный, то ли как поэт, но скорее всего, соединяет в себе две эти ипостаси и восхищается, и страшится, и не может осознать, что именно перед ним. Образ солнца предстаёт то «прекрасным светилом», то «горящим вечно Океаном», то «ужасной громадой», «то пресветлой лампадой» и в конце «дневным светилом». Однако нам важен здесь итог – две последние строки произведения, которыми Ломоносов выражает своё окончательное мнение после долгих размышлений: «От светлости твоих очей // Лиется радость твари всей» [4, с. 204-205]. Традиция, зарождавшаяся у древних славян, продолжает свою жизнь, солнце – это радость и у Ломоносова.
Спустя годы уже в девятнадцатом веке появились русские поэты, которым было близко подобное восприятие мира, поэты, которые воспевали в своих строках природу, поэты эти хоть и имеют «искусственное образование» (понятие, введённое Афанасьевым в книге «Славянская мифология»), но душой и внутренним миром мало чем отличаются от древних славян. Ведь это огромный дар – чувствовать природу так, как это делали тысячи лет назад до тебя.
Ф.И. Тютчев был как раз одним из таких творцов, для него стало характерным создавать в своих произведениях мир, где внешнее было показателем внутреннего, где очень тесно связан внутренний мир героя с окружающей его действительностью. Стихотворение «Сияет солнце, воды блещут» Тютчева наполнено солнечным светом и радостью, лирический герой видит жизнь во всём, что его окружает, пантеистическое восприятие мира позволяет автору отожествлять природу и человека, а любовь к Е. А. Денисьевой, которой посвящено это стихотворение, делает героя ещё счастливее.
После золотого девятнадцатого века наступил серебряный двадцатый, и многое стало кардинально меняться ещё на рубеже этих столетий. Леонид Андреев пришёл в литературу как последователь идей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, а ушёл смелым новатором в области театра, сформировал модель драматургии будущего, его зачастую называют первым русским экспрессионистом. Леонид Андреев погасил солнце на страницах своих книг, но когда оно всё-таки всходило, то сжигало своими лучами жизни, счастье, разум и надежды героев этих страниц.
И. Г. Минералова в книге «Анализ художественного произведения. Стиль и внутренняя форма» подробно разбирала образ солнца в рассказе Леонида Андреева «Красный смех». Исследователь указывает на схожесть картин зноя в рассказе с картинами Апокалипсиса и отмечает, что миф о брачном союзе Неба и Земли воспроизводится у Андреева с точностью наоборот: «Первое чувство героя – «зной», а вслед за чувством возникает и «картина» зноя: «Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне», память подскажет «мистический источник» зноя, воспроизводя картины Апокалипсиса. Но еще один не менее «навязчивый» мистический источник содержится во множестве мифов у разных народов, в мифе о брачном союзе Неба и Земли, однако у Андреева этот миф воспроизводится с точностью до наоборот. Брачный союз Неба и Земли – источник жизни на земле во множестве мифов, в том числе и в славянских, в повести оборачивается “началомˮ смерти» [5, с. 44].



