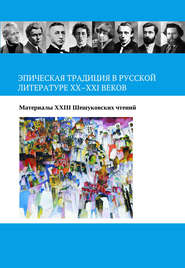 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
Ефимов, ставя в центр своих исторических произведений персонажа-мыслителя, частично проводника мыслей и идей автора в текст, часто сталкивает его с бытовой стороной жизни, выразителем которой является женский персонаж. Так, в «Ясной Поляне» Ефимов противопоставляет образы Л. Н. Толстого и его жены С. А. Толстой. В романе «Джефферсон» эти роли играют главный герой Томас Джефферсон и его жена Марта Скелтон. В этом противопоставлении скрывается и оппозиция веденья и неведенья. Толстой и Джефферсон как ведающие персонажи, становятся перед выбором между своими моральными, нравственными и философскими убеждениями и счастьем своих близких. Оба персонажа выбирают первый аспект, вследствие чего бытовая реальность разрушается: происходит разлад в семье Толстых, Марта Скелтон умирает. Подобный мотив выбора между моральным долгом и семейным счастьем встречается также и в исторических романах «Свергнуть всякое иго», «Невеста императора» и «Новгородский толмач».
Несмотря на разные жанры (повесть, роман, пьеса), исторические произведения Ефимова многое объединяет, например, общее понимание исторического процесса и отдельных социальных явлений, таких, как равенство и неравенство, использование в сюжете произведения персонажа-мыслителя, чьи философские концепции играют существенную роль в его развитии, описание определенного исторического периода, характеризующегося неустойчивостью, переходностью и кризисом, особая роль личности в историческом процессе. Все это позволяет нам говорить о единой философской системе, в которой историософские трактаты становятся изложением теории, а художественные произведения – конкретными историческими примерами.
Тесная связь исторических произведений Ефимова с его историка-философскими трактатами характеризует и стиль Ефимова. Эпическое повествование, характерное для исторической прозы, у писателя приобретает личностный вид: на передний план выходят чувства и эмоции героев, а исторические события даны через субъективную точку зрения персонажей. Сюжет «Ясной Поляны» строится не вокруг событий биографии Толстого, а взаимоотношений персонажей. Романы «Свергнуть всякое иго», «Невеста императора», «Новгородский толмач» и «Джефферсон» основываются на масштабных исторических событиях, влияющих на все человечество, однако переданы они с подчеркнутым невниманием к их масштабу через призму личности персонажей.
«Ясная поляна» является предпоследним историческим произведением Ефимова и встраивается в общую систему его исторических и историко-философских произведений. Образ Л. Н. Толстого выбран автором неслучайно – Ефимов использует его, чтобы встроить в свою историософскую концепцию в качестве конкретного исторического аргумента. Другие исторические романы Ефимова также являются иллюстрациями, примерами к философии писателя. Этой связью историософских трактатов и исторических произведений определяются и особенности исторической прозы И. М. Ефимова, среди которых назовем внимание к отдельному персонажу и его философской системе, стремление передать историю через переживания персонажей и личностных подход и изображению эпического сюжета.
Литература1. Брюсов В. Я. На похоронах Толстого. Впечатления и наблюдения [Электронный ресурс] URL: http://www.tolstoj.pushkinskijdom.ru/ Default.aspx?tabid=10514 (дата обращения: 12.04.2018).
2. Горький М. Лев Толстой: Заметки. [Электронный ресурс] URL: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/vospominaniya/lev-tolstoj.htm (дата обращения: 12.04.2018)
3. Ефимов И. М. Джефферсон. Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 2015. 320 с.
4. Ефимов И. М. Невеста императора. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. 416.
5. Ефимов И. М. Метаполитика [Электронный ресурс] URL: http://lit. lib.ru/e/efimow_i_m/text_0040.shtml (дата обращения: 29.11.2017).
6. Ефимов И. М. Новгородский толмач. СПб.: Азбука, 2004. 317 с.
7. Ефимов И. М. Связь времен. Записки благодарного. В Новом Свете. М.: Захаров, 2012. 480 с.
8. Ефимов И. М. Связь времен. Записки благодарного. В Старом Свете. М.: Захаров, 2011. 464 с.
9. Ефимов И. М. Стыдная тайна неравенства. М.: Захаров, 2006. 188 с.
10. Ефимов И. М. Ясная поляна. Роман в диалогах. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2015. 336 с.
Life and work of Leo Tolstoy in the formation of the historiosophical concept of I. EfimovAbstract. The article deals with the principles of reception of biography and philosophical ideas of Leo Tolstoy in the work of Yefimov’s «Yasnaya Polyana». I. Efimov creates his own historiosophical system and verifies it through concrete historical examples, including the biographies of L. Tolstoy. Features of the image method in the epic prose of I. Efimov consist in this verification, correlation of the historiosophy of the writer with historical works.
Key words: L. Tolstoy, I. Efimov, historiosophical concepts, historical prose, epistolary prose, philosophical system.
Информация об авторе: Самарова Екатерина Андреевна, аспирант МПГУ.
Information about the author: Samarova Ekaterina A., post-graduate student of Moscow Pedagogical State University.
Роман Б. Л. Васильева «Вещий Олег» в русле эпической традиции
Е.В. Иванова /Москва/Аннотация. Статья посвящена роману Б.Васильева «Вещий Олег». Произведение рассматривается в русле эпической традиции. Сделана попытка выявить особенности индивидуального стиля писателя.
Ключевые сова: Вещий Олег, неразумные хазары, конь, змея.
Задача любого исторического романа – воплощение национального характера в сильной исторической личности. Эта задача мастерски реализовывается в серии исторических романов зрелого периода творчества писателя: «Вещий Олег», «Ольга, королева русов», «Святослав», «Владимир Красное Солнышко» и других.
Стиль исторического повествования во всех романах выдержан в едином ключе: исторические факты перемежаются с поэтичными картинами природы, суждениями эссеистического характера. Важную роль в романах играют символы. Роман «Вещий Олег» открывается картиной зимней природы, безмолвия и вечных сумерек. И словно через эти сумерки мы проникаем сквозь призму веков в историю нашего древнего государства.
Символична в начале романа сцена охоты, которая привносит в произведение мотив жестокости и порабощения. Окровавленная туша убитого медведя словно предвещает описанные в романе кровавые события. Примечательно, что в берлоге герои находят медвежонка-сосунка. Этот сюжет словно проецируется на судьбы главных действующих лиц романа: Рюрика и маленького Игоря. Рюрик в романе умирает, а Игорь остается без поддержки в лапах чужих людей. Рюрик в одной из сцен романа изображен в деревянном кресле. Сигурд накрывает старика медвежьей шкурой. Маленький Игорь же будет у читателя на протяжении романа ассоциироваться с медвежонком.
Зверь живет у Нежданы. Именно его Сигурд хочет подарить Игорю. Рюрик по-язычески отождествляет себя с медведем: собирается съесть печень, чтобы медведь вошел в него.
Через весь роман проходит мотив клятвы. Рюрик видит в ней великую энергетическую силу. В романе важен мотив родовой тайны: о позорной смерти Рюрика никто не должен знать. Б.Васильев подчеркивает, как для исторического деятеля важен образ наследника. В романе это маленький княжич Игорь, сын Рюрика. Образ рода, родового гнезда сопрягается в заключение романа с образом наследника. Взяв Киев, Олег поднимает княжича Игоря на руки и заявляет, что Киев будет матерью городов русских. И в этой афористичной фразе также подчеркивается родовое начало. В тексте романа варяжские имена сопрягаются с русскими. Примечательно, что семантика княжеского имени сохраняется за многими именами героев Б.Васильева до сих пор. Все это подчеркивает неразрывные связи русских имен с варяжскими в русской истории.
Упомянутый в «Повести временных лет» путь из варяг в греки – название водного торгового пути в Киевской Руси, связывавшего Северную Русь с Южной, Прибалтику и Скандинавию. Это выражение можно понимать и шире: здесь заложены родовые, но только торговые связи и основы мирного сосуществования разных народов, но и родственные, едва ощутимые в современном мире, а в средние века – более глубокие и важные, ведь защиты и помощи в обороне земель древний человек ждал именно от родни, потому и крепил соседские связи брачными союзами.
Роман Б.Васильева «Вещий Олег» – это фактически произведение о том, как путь из варяг в греки, проходящий по древней славянской земле, сложился и отразился в русской истории.
Тема эта нашла отражение в романе А.Гусарова «Из варяг в греки»(М., 2016) с эпиграфом в предисловии из К.Бальмонта: «Славянские души – как степи, Славяне, вам светлая слава!» («К славянам»). В романе А.Гусарова также исследуются нравы древних славян, имеются общие с романом Б.Васильева герои. Как и Б.Васильеву, А.Гусарову хотелось показать в своих героях лучшие качества славян: отвагу и верность, жизнестойкость и миролюбие. Особое внимание уделено философии древних славян: борьбе между миром явным и миром духовным. В романе подчеркнуто, что славянская система жизненных ценностей не признавала рабства.
Примечателен язык героев в романе А.Гусарова. Здесь он новаторски преображает находки Б.Васильева. Если Б.Васильев выстраивает фразы согласно ментальности человека того времени, то А.Гусаров использует для изображения скандинавов их древний язык. Как и Б.Васильев, А.Гусаров подчеркивает на Руси радушные приемы с домашней снедью. Примечательно, что Рюрик на них сдерживает себя, а Аскольд и Олег рвут мясо руками и челюстями. Так создается при помощи описания трапезы символическая картина нашествия варваров на Русь. Романы сближает топонимика (Ладога, Белоозеро, Новгород). Символической и исторически достоверной в романе А.Гусарова выглядит сцена торговли. В описании судов пришельцев подчеркивается, что они были приспособлены скорее всего не для перевозки товаров, а для разбойничьих набегов. Эта деталь привносит в повествование четкое понимание захватнической сущности приезда варяжских племен.
Исторические романы о жизни русских князей – одна из наиболее значительных традиций в современной русской литературной прозе. Если рассматривать роман Б.Васильева «Вещий Олег» в контексте этой традиции, то хотелось бы отметить, что его произведение выгодно отличается глубиной художественного мастерства: художественное и документальное начала удачно сосуществуют в поле художественного пространства, пейзажные зарисовки отличаются особой поэтичностью, а фигуры действующих лиц прописаны рельефно и колоритно.
Литература1. Асоян А.А. Культурологическая публицистика Б. Л. Васильева // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 72-78.
2. Болотова С. А.Борис Васильев в нашей памяти // Воспитание школьников. – 2014. – № 9. – С. 36-38.
3. Борис Львович Васильев 1924-2013. Гражданское мужество // Библиополе. – 2014. – № 4. – С. 8.
4. Булдакова Н. В.Книга, которую нужно прочесть каждому: Борис Васильев. “Вы чьё, старичьё?”. VI класс // Литература в школе. – 2015. – № 9. – С. 47-50.
5. Ермолин А.А.Б. Л. Васильев – подвижник чести и достоинства // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 24-25.
6. Есть такая профессия…писатель: биобиблиография // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 170-175.
7. Запесоцкий А. С. Борис Васильев: творчество, одухотворенное совестью // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 11-14.
8. Лагутин С. В.Глухомань Бориса Васильева // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 136-138.
9. Марков А. П.Борис Васильев: миссия слова и масштаба личности // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 57-62.
10. Скалон Н. Р. Творчество Бориса Васильева в контексте русской прозы 60-70-х годов XX века // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 141-143.
11. Ткачев Е. А. Сценарное наследие Б. Васильева в контексте развития военно-патриотической темы в современном российском кинематографе // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 95-97.
12. Триодин В. Е. Момент истины писателя Б. Л. Васильева // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 35-38.
13. Успенская А. В. Б. Васильев о судьбах интеллигенции // Литературная учеба. – 2014. – № 5. – С. 49-54.
14. Черников А. П.Нравственная сила доброты: повесть Б. Васильева “Не стреляйте в белых лебедей”. Материалы для учителя // Литература в школе. – 2014. – № 5. – С. 12-14.
15. Шаповалова И. А.”Война в моей памяти”: урок по творчеству писателя-фронтовика Бориса Васильева. IX класс // Литература в школе. – 2016. – № 5. – С. 37-39.
Roman B. L. Vasilyeva “The Prophetic Oleg” in line with the epic traditionAbstract. The article is devoted to B.Vasiliev’s novel “The Prophetic Oleg”. The work is viewed along the lines of the epic tradition. An attemps is made to reveal the peculiarities of the individual style of the writer.
Key words: Prophetic Oleg, unreasonable khazars, horse, snake.
Информация об авторе: Иванова Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, МПГУ.
Information about author: Ivanova Elena V., candidate of philological sciences, docent of Moscow Pedagogical State University.
Раздел II. Мифопоэтика русской литературы XX–XXI вв.: от категорий мифа и образа к дискурсу и контексту
Евразийский контекст мифологемы искушения землёй в прозе Л. Н. Толстого, М. М. Пришвина, А. И. Солженицына
И.С. Урюпин /Москва/Аннотация. Сквозь призму культурно-исторических и нравственно-этических идей евразийства, социально-философского течения русской мысли пореволюционной эпохи, рассматривается в статье проза писателей, генетически и онтологически укорененных в черноземной почве русского Подстепья, размышлявших в своих произведениях о «судьбе и трагедии» России как самобытной цивилизации, соединившей в себе Восток и Запад, Азию и Европу. На материале «народного» рассказа Л.Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно», автобиографического романа М.М. Пришвина «Кащеева цепь» и одного из «двучастных рассказов» А.И. Солженицына «Эго» исследуется национально-маркированная мифологема искушения землей, бескрайними просторами, которые за всю свою многовековую историю так и не обустроил русский человек, устремленный в своем духовном поиске «за горизонт», а потому обреченный преодолевать трагические испытания.
Ключевые слова: евразийство, Л.Н. Толстой, М.М. Пришвин, А.И. Солженицын, мифологема, земля, искушение, русский путь.
В своей критике евразийства как духовно-интеллектуального течения русской мысли первого пореволюционного десятилетия Н.А. Бердяев признавал влияние пространственного фактора на ход национальной истории и характер народа, «ввергнутого в мировой круговорот и в мировую ширь», в которой происходит «взаимопроникновение культурных типов Востока и Запада» [1, с. 135]. Сама «судьба России», считал философ, действительно оказалась предопределена ее географическим положением: «на русских равнинах должен был образоваться великий Востоко-Запад» [2, с. 62], в недрах которого сформировалась впоследствии уникальная субконтинентальная цивилизация, переплавившая различные этносы в особое национальное единство с совершенно неповторимой ментальностью и миропониманием. «Необъятные пространства России тяжелым гнетом легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность русского государства и безграничность русских полей», «русский человек, человек земли, чувствует себя беспомощным овладеть этими пространствами и организовать их» [2, с. 63], а потому, не обустроив их должным образом, устремляется все дальше и дальше «за горизонт». «Русская душа, – констатировал Н.А. Бердяев, – ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безгранность не освобождает, а порабощает ее» [2, с. 63].
Неудовлетворенность русского человека «тремя аршинами земли», его стремление охватить «весь земной шар, всю природу» [14, с. 58], была абсолютизирована евразийцами, усмотревшими в самой экстенсивности освоения огромных пространств России, обусловленной историческими и культурно-экономическими обстоятельствами, корень русской национальной самобытности. Экстенсивность, утверждал П.Н. Савицкий в статье «Степь и оседлость» (1922), «есть некоторое средство к сохранению в земледельческом населении своеобразного “чувства степи”» [9, с. 175], оказавшегося весьма органичным для восточных славян, заселивших бескрайнюю Русскую равнину. «Степное начало, привитое русской стихии, как одно из составляющих ее начал, со стороны», полагал идеолог евразийства, «становится неотъемлемой ее принадлежностью» [9, с. 175]. С глубокой древности утвердилось в сознании русского человека стойкое убеждение, что «вся земля – наша», а значит – путь к «таинственным далям» и есть единственный ориентир и вектор развития самодостаточного российского общества и государства. Не случайно уже в конце ХIХ века В. О. Ключевский, с идеями которого активно полемизировали евразийцы, прямо называл «колонизацию <…> основным фактом русской истории» [4, с. 5], ведь само освоение славянскими племенами обширных территорий к востоку от Карпат происходило стихийно, «не постепенно путем нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелетами из края в край» (курсив В.О. Ключевского. – И.У.) [4, с. 5]. Потребность в «новой земле» стала онтологической потребностью русского человека, в котором, по утверждению П.Н. Савицкого, «сочетаются одновременно историческая “оседлая” и “степная” стихии» [9, с. 173]. «Распространение русской народности на степь, политическое и этнографическое освоение степи» [9, с. 173] евразийцы считали «важнейшим историческим фактом» [9, с. 173], приобретающим сверхисторический, духовно-метафизический смысл.
Не случайно нравственно-философское измерение получает в литературе конца ХIХ – первой трети ХХ века само понятие «”русская равнина” как некий образ-концепт национального самосознания» [13, с. 66], реализующийся в различных сюжетных вариациях через систему оппозиций степь (стихийно-дикое начало) / поле (культурно-возделанное начало), объединенных архетипом земля. Этот интегральный мифо-суггестивный сверх-образ является одним из ключевых в русской национальной картине мира, амбивалентной по своей сути. Так, извечная тяга к земле русского человека, его неудовлетворенность насущным и устремленность к недостижимому идеалу порождает мифологему искушения землей, которую художественно воплотили в своих произведениях Л. Н. Толстой и М. М. Пришвин.
Оба писателя, стремившиеся в своих произведениях воссоздать подлинную «правду, которая “глаза колет”» [8, с. 215], были убеждены в том, что для русских людей, в каких бы условиях они ни жили, такой правдой является «правда о земле»: «все жалуются с испокон веков на недостаток земли» [8, с. 262]. А «много ли человеку земли нужно?» Этот вопрос, вынесенный Л.Н. Толстым в название одного из своих «народных рассказов», приобретает статус вечных. Для М.М. Пришвина, пристально вглядывавшегося в Л.Н. Толстого «как в зеркало собственного самосознания» [3, с. 89], вопрос о земле – это вопрос о смысле бытия. Нравственно-философские искания автобиографического героя романа М. М. Пришвина «Кащеева цепь» (1923) Михаила Алпатова, совпадающие по духу с евразийским комплексом русской мысли, все время поверяются толстовским авторитетом, рожденным «моей родной, любимой землей» («вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой») [7, с. 6].
Земля и для Л.Н. Толстого, и для М.М. Пришвина – не просто источник существования, а сама основа жизни, ее физическое и духовное первоначало, сакральная природа которого хорошо осознается человеком, чувствующим неодолимую «власть земли». В русском народном сознании еще со времен язычества утвердилось двойственное представление о земле и как о подательнице всяких благ (земля-кормилица), и как о необоримой силе, порабощающей человека, парализующей его волю, крепко сжимающей в объятьях и затягивающей в свои недра (земля-поглотительница). Отсюда в русском народе сформировалось «специфическое отношение к земле, которое можно было бы определить одновременно и как почти религиозное, исполненное страха и трепета, преклонения, и как сугубо прагматическое, основанное на стремлении получить от нее максимум материальной выгоды» [6]. Так в фольклоре, а потом и в литературе появляется и становится весьма распространенным мотив испытания русского крестьянина землей, получающий художественное воплощение в творчестве многих русских писателей народнического направления (И.С. Никитин, Г.И. Успенский, А.И. Эртель, А.И. Левитов, Ф.М. Решетников и др.).
Философско-этический ракурс в осмыслении этого мотива представил и Л.Н. Толстой в рассказе «Много ли человеку земли нужно» (1886), в котором известный еще со времен Геродота сюжет о стяжателе, ставшем жертвой собственной алчности, приобретает особый «евразийский» колорит. По свидетельству В.И. Срезневского, «тема этого рассказа связана» «с жизнью Толстого в Самарских степях, которая естественно вела к знакомству с нравами и обычаями башкир» [11, с. 696]. Бескрайние степи, по которым кочуют вольные и полудикие башкиры, поразили Л.Н. Толстого и невольно вызвали ассоциации с Азией, показавшейся писателю настолько органичной его ощущению жизненного пространства, что он не преминул заметить С. А. Толстой в письме от 20 июля 1871 года: «понятие твое о степи ложное <…> и воздух, и травы, и сухость, и тепло делают то, что полюбишь степь» [12, с. 203]. В степи и разворачивается главное искушение для героя рассказа Л.Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно» крестьянина Пахома, который, «с измальства» работая на земле-матушке, однажды посетовал («Одно горе – земли мало! А будь земли вволю, так я никого, и самого чорта не боюсь!» [11, с. 68]) и оказался посрамлен за свою самонадеянность. «Ладно», – думает черт, – «поспорим мы с тобой: я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму» [11, с. 68]. Так «и стал Пахом с землей» [11, с. 69]: сначала выкупил у барыньки 15 десятин с лесочком, потом, накопив небольшой капитал своим усердным крестьянским трудом, разузнал, что в низовьях Волги «в вечную, сколько хочешь, по три рубля самой первой земли» «купить можно», «продал землю с барышом, продал двор свой, продал скотину всю, выписался из общества, дождался весны и поехал с семьей на новые места» [11, с. 70].
И чем дальше удалялся Пахом от родного клочка земли, на которой появился на свет, тем больший открывался простор, тем заманчивее представлялись перспективы возделать непаханую целину, получить невиданный урожай и продать его с большой выгодой. «Года вышли хорошие, и пшеница хороша рожалась, и деньги залежные завелись. Жить бы да жить, да скучно показалось Пахому каждый год в людях землю покупать, из-за земли воловодиться» [11, с. 71]. «Стал Пахом разузнавать, где купить земли в вечность» [11, с. 71], и лукавый дух, искушая крестьянина, заманивает его в бескрайние степи, по которым кочуют вольные башкирцы («сами не пашут и хлеба не едят» [11, с. 72]). «У нас», – говорит им Пахом, – «в земле теснота, да и земля выпаханная, а у вас земли много и земля хороша. Я такой и не видывал» [11, с. 73]. «Сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню 1000 рублей» [11, с. 74], – заметил башкирский старшина. – «Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги» [11, с. 74]. И не столько жадность охватила Пахома, сколько извечное русское пренебрежение всякой мерой, ограничивающей бессознательные порывы к беспредельности, роковая переоценка собственных сил и возможностей. Однако не привык сдаваться русский человек, готовый пожертвовать собой, но во что бы то ни стало воплотить в жизнь свои самые смелые и на первый взгляд неосуществимые проекты. Так и Пахом, превозмогая себя, обошел всю отмеренную им землю и коснулся руками до заветной шапки, замкнув вожделенный круг. «Ай, молодец! – закричал старшина. – Много земли завладел» [11, с. 78], только, видимо, не суждено было Пахому этой землей воспользоваться. «Да приведет ли Бог на ней жить. Ох, погубил я себя» [11, с. 78], – думал он, но не отступился и довел свое дело до конца. «Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит» [11, с. 78].
Так Л.Н. Толстой, переосмысливая античный сюжет о самонадеянности человека, лишенного чувства меры, вовсе не абсолютизирует мораль «умеренности и аккуратности», а показывает трагедию русского крестьянина, жаждущего «земли и воли».
Народнический идеал земли и воли, вдохновлявший интеллигенцию на борьбу с самодержавием и беззаветно-благородное служение крестьянству как хранителю русской духовно-культурной идентичности, стал величайшим национальным соблазном, повергшим страну в пучину революционного террора. Это очень хорошо осознавал М.М. Пришвин, сам в полной мере переживший искушения марксистской философии о возможности воплощения рая на земле, испытавший «экзистенциальное ощущение одиночества в страшном мире разбушевавшейся стихии революции» и, по верному замечанию Е.Ю. Кнорре, удалившийся «в “светлые открытые далекие горы” от воюющего на земле человечества» «из мира горя-несчастья в невидимый град, закрытый туманами» [5, с. 137]. Устремленность к «иной» земле, томление и тоска по бесконечным жизненным горизонтам отличают не только автобиографического героя романа М. М. Пришвина «Кащеева цепь», мечтающего о всеобщем благоденствии, но и крестьян, которым после отмены крепостного права «волю объявили, а земли не дали»: «Их много, они одного хотят – земли и своего добьются» [7, с. 16]. «Землицы!» – непрестанно требует от матери Алпатова крестьянин по прозвищу Гусёк. «…Нет у меня для тебя земли! Откуда я тебе землю возьму?» [7, с. 20]. Слишком тесно даже на просторах черноземной России русскому крестьянину, его влекут неведомые «новые места». «А где новые места?» – вопрошал Курымушка. – «Известно, в Сибири», «Надо бы и нам подаваться туда» [7, с. 28].



