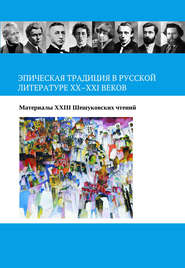 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
На первый взгляд, Леонардо Мережковского представляет собой воплощение диониссийского начала. В народе он слывет еретиком и грешником, его опыты с трупами людей ужасают воображение «респектабельных» христиан, определяя свое отношение к мастеру, ученики Леонардо нередко оценивают его как богоотступника. Тем не менее, все искания художника устремлены к поиску вечной Красоты, а не деструктивного начала философии Ницше. Показательно, что, пытаясь продемонстрировать вечную борьбу аполлонической и диониссийской ипостасей в Леонардо, Мережковский, невольно, позволяет возобладать аполлонической. Дело не только в том, что образ Леонардо получается максимально эстетичным, художник в большей степени выглядит богоискателем, нежели богоборцем. Показательны в этом смысле и его размышления в дневниках («О, дивная справедливость Твоя, Первый Двигатель!» [3, с.315]), и сам образ жизни, который, в чем-то, напоминает житийный канон: ощущение особого предназначения в детстве и раннее проявление уникальных способностей, чувство отверженности и, одновременно, вечное смирение, почти аскетический образ жизни, неприятие всего плотского. Даже его удивительная физическая сила находит мирное, бытовое применение. Юный Леонардо воспользуется ей, лишь спасая невинного крота, замученного детьми («Если уже в детстве тебя сажали в тюрьму, когда ты поступал, как следует, – что же сделают с тобой теперь, взрослым?» [3, с.386]). Показательно, что эпизод спасения животных, а также общения с детьми, с которыми у Леонардо особый контакт, как с невинными существами (Марко д`Оджоне, Майя), открытыми для творчества, так же напоминают житийный канон.
В этом смысле, Мережковский созвучен интенции Достоевского, в повествовании которого человеческое, телесное никогда не берется в разрыве с духовным началом. Как и у Достоевского, герои Мережковского должны вывести общество к истине, иногда они берут на себя роль катализаторов в стремлении к целостности. Однако если герои Достоевского находят выход в конкретном пути – религии, то путь героя Мережковского синтетичен – Третий Завет, примирение земного и небесного.
Вопрос отношения утопизма и религии весьма сложен, однако сама концепция Мережковского и его сподвижников, стремление открыть новую форму отношений человека и мира конгениально устремлениям утопистов XIX–XX вв. На мировоззрение символистов огромное влияние оказала философия В. С. Соловьева. Идеи Соловьева стали одним из векторов формирования историософской мысли Мережковского на этапе разочарования в философии позитивизма, признававшем лишь категорию мира чувственного и, таким образом, лишавшего человека перспектив духовного развития. Согласно Соловьеву, значимость человеческого существования оценивается степенью активности его внутреннего мира на всех уровнях (духовном, социальном, культурном, интеллектуальном). Лишь обеспечив контакт этих ипостасей бытия человек может быть по-настоящему свободным.
Мережковскому близко представление Соловьева о «безотносительном достоинстве человека». Согласно Соловьеву, рефлексия и прогностический потенциал человеческого сознания делают человека неким венцом творения («и потому никакие высшие роды существ на смену ему не нужны и невозможны» [4, с.30]). Но существование отдельной личности не является самоцелью. Согласно мысли Соловьева, человек есть часть Божественного Промысла, к подобной позиции постепенно подходил и Д. С. Мережковский на этапе работы над «Воскресшими богами…». Личность, составляющая единого духовного начала, стремится к восстановлению целостности.
Занятие искусством для В. Соловьева, при этом, не вполне соответствует высшей духовной деятельности («осуществить истинную человеческую индивидуальность на основе этой экстенсивной любви невозможно. Здесь в реальном центре все-таки остается свое старое эгоистическое я» [4, с.37]). В этом видится их расхождение с Д. С. Мережковским, так как для автора «Воскресших богов…» деятельность художника выходит далеко за рамки сублимации. Формируя образ Леонардо, Мережковский стремится доказать именно периферийность этого эгоистического я в настоящем искусстве.
Последовательно описывая образ Леонардо как универсального гения в первых XV книгах, Мережковский, к финалу произведения, создает фигуру, уникальную и в ряде титанов Ренессанса. В нем нет ни агрессивного противопоставления себя миру, характерного для Микеланджело, ни спокойной уверенности в собственном превосходстве (Рафаэль). Представляется, что и «тайна» мастерства Леонардо (стремление описать процесс художественного творчества и, одновременно, вера в священное вдохновение), в некоторой степени, относится к его «универсальности» и потребности в максимальной самореализации. Леонардо не отдает предпочтения ни науке, ни искусству, не посвящает всю свою жизнь чему-либо определенному (что тоже проистекает из его максимализма, обращенности к идеалу с одновременным пониманием невозможности его достижения). Его стремление к совершенству в художественных произведениях и великому открытию в науке является, своего рода, провозглашением Мережковским пути синтетичной гармонии будущего – соединения религии Разума с религией Сердца. В Леонардо Мережковский видит художника, способного воплотить высшие истины в произведениях искусства и, таким образом донести до людей идею всеединства.
Концепция Мережковского, осмысляя отношение личности к религии и социуму, апеллирует позициями, изложенными в трактате В. Соловьева «Смысл любви», в котором философ попытался разрешить противоречие между духовным смыслом любви как причастного к божественному триединству (Истина, Добро и Красота) и как источника физического влечения (понимаемого как земное, преходящее и не способствующее воскрешению). Совпадение с размышлениями Мережковского можно отметить и в идее воскрешения Соловьева. Философ не считает перспективным для духа физическое продолжение рода, хотя и не отрицает важности деторождения. В этом сходство, как и с образом жизни супругов Мережковских, пропагандировавших подобные «белые» браки, так и с выражением любви у Леонардо да Винчи.
Окончательное воплощение индивидуальности, согласно Соловьеву, происходит в момент соединения с «всеединым целым», высшим духовным началом, что, в свою очередь, возможно лишь посредством преодоления эгоцентризма, органически присущего любому человеческому существу. Истинное чувство влюбленности (философ отмечает при этом примат духовной связи над физическим влечением), притяжение к одному определенному человеку, Соловьев объясняет тем, что в образе возлюбленного для человека воплощается некая модель Всеединства, частью которой он должен стать. В некоторой степени, смысл любви видится в очищении от эгоизма перед мировым духовным слиянием: «мы тем самым проявляем и осуществляем свою собственную истину, свое безусловное значение, которое именно и состоит в способности переходить за границы своего фактического феноменального бытия, в способности жить не только в себе, но и в другом» [4, с.34].
Весьма показателен образ героя Д. С. Мережковского: рефреном через весь роман проходит антипрокреативная позиция Леонардо (отвращение к виду половых органов и половому акту); акцентируется внимание на роли андрогинного начала – у Леонардо, как внешне, так и внутренне, сильна связь с его женской ипостасью, что нередко становилось предметом многочисленных выпадов недоброжелателей (несомненно влияние «Пира» Платона, важного для понимания философии В. Соловьева: «истинный человек <…> не может быть только мужчиной, или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих» [4, с.41]); преодоление эгоцентризма, органически присущего человеку, посредством духовной любви – отказ от физических отношений с мо-ной Джокондой).
Особенно ярко влияние философии В. С. Соловьева раскрывается в книге XIV. Как отмечалось, смысл любви философ видит в «оправдании и спасении индивидуальности чрез жертву эгоизма» [4, с.32], которое видится в «совершенном и полном взаимодействии и общении <…> двух существ». При этом позиция Соловьева не прокреативна. Создание нового человека осуществляется не в продолжении рода, а в достижении всеединства. Говоря о том, что «образ Божий познается в любви» [4, с.44], Соловьев подразумевает признание авторитета за объектом любви с сохранением собственной индивидуальности. Результатом работы над портретом Джоконды, описываемой Мережковским как особый ритуал, становится не просто произведение искусства. В романе упоминается, что мона Джоконда «принимала участие в работе над своим портретом» [3, с.498]. Представляется, что в XIV книге автор описывает именно этот процесс духовного слияния: «как будто всю жизнь, во всех своих созданиях, искал он отражения собственной прелести и наконец нашел в лице Джоконды» [3, с.501].
Таким образом, творение Леонардо не является сублимацией. Портрет Джоконды, формируясь в процессе сотворчества художника и модели, предстает неким символом духовного всеединства, не способным пока на коренное преобразование мира, однако, безусловно, влияющим на сознание людей.
Леонардо при всей противоречивости его личности является для автора персоналией мировой истории, которая могла бы претендовать на образец совершенной духовной личности будущего. Попытка рассмотреть возможность существования мира людей, объединенной религией Духа по своему характеру утопична. В этом же романе автор недвусмысленно намекает на тщетность стремления построить совершенное государство, избирая не срединный путь синтеза, а одну из крайностей. Ни эпоха Чезаре Борджа, ни «золотой век» Сфорца не способны привести мир в состояние гармоничного всеединства.
В романе «Леонардо да Винчи» также имеют место размышления автора о «золотом веке». Однако прямая отсылка к мифу выражает скептическую позицию автора относительно возможности земного рая в современности, его интенция утопична – устремленность в будущее. «Косметический» «золотой век» Лодовико Сфорца делает противопоставление жизни власти и народа еще более острым. Книга VII начинается с письма Беатриче. Показательно ее отношение к умершему дурачку как к вещи, Лодовико, стремясь утешить супругу, дарит ей «серебряное седалище для облегчения желудка» [3, с.218]. Отдавая должное талантам и достоинству исторических персоналий, Мережковский демонстрирует и их гедонистическую направленность. Автор не дает прямых оценок героям, однако в романе они выступают на стороне замкнутого в себе индивидуализма. Праздник, устраиваемый в честь Беатриче, призван провозгласить эпоху апогеем мировой культуры, а самого Моро – мудрым монархом и покровителем искусств. В противовес этому на балу задает тон лицемер Унико, на фоне торжеств разворачивается религиозная смута, символически венчает это действо гибель Беатриче при родах. Представляется, что авторская позиция выражается в экспозиции к балу: «В этой пестроте, в неуважительном к обычаям предков, порою шутовском и уродливом смешении разноязычных мод один сатирик видел «предзнаменование нашествия иноплеменных – грядущего рабства Италии»» [3, с.227]. Таким образом, «золотой век» Лодовико Сфорца в изображении Мережковского характеризует такую черту утопизма как отсутствие образца гармоничного мироустройства в реальной действительности и это позволяет историософской концепции автора разворачиваться в символических образах романа.
Как отмечалось, в романе Мережковского отсутствует позитивный утопический проект совершенного мироустройства. Представляется, что автор делает ставку на то, что понимается как «утопическое сознание» и осмысляет это через призму идей философов конца XIX в.– внешние изменения должна предварить внутренняя трансформация человека. Воспринимая литературную традицию утопизма, Мережковский демонтирует прототипический образец утопии, согласно которому автор представляет некую новую модель отношений, государства, человека. Мережковский же показывает не столько образец, сколько процесс его формирования, подчеркивая принципиальную таинственность идеала. Возможно поэтому утопическая модель «золотого века» Сфорца, как и любой образ «венца совершенства» (будь то идеал монарха, идеал женщины, идеал государства) выступает карикатурно в противопоставлении с активной работой сознания Леонардо, работой, которая, материализуясь в его произведениях, может способствовать изменению сознания человечества. Одновременно, Мережковский, в переосмыслении идей Достоевского о вседозволенности, изобличает крайности утопического сознания и демонстрирует героя, способного к борьбе (возможно, вечной) с темной ипостасью своего духа. Таким образом, воспринятые автором «Воскресших богов…» традиции утопизма, органично соединяясь с обширным религиозно-философским и мифопоэтическим пластом романа, способствуют изображению его уникальной концепции, которая стала ещё одним этапом эволюции явления утопии в литературе.
Литература1. Белый А. Мережковский // Символизм как миропонимание. – М.: Изд-во «Республика», 1994. – С.375-382.
2. Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России / пер. с англ. Елены Островской. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.
3. Мережковский Д. С. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи. – М.: «Эксмо», 2005.
4. Соловьев В. С. Смысл любви // Русский эрос или философия любви в России, – М.: «Прогресс», 1991. – С.19-77.
5. Черткова Е. М. Утопия как тип сознания // Общественные науки и современность. 1993. N 3. С. 71-81.
Traditions of utopianism in Merezhkovsky’s novel «Resurrection of the Gods. Leonardo da Vinci»Abstract: Creating his own historical novels in a turning-point, D. S. Merezhkovsky was consonant with philosophers of the first half of the XX century. In the article is made an attempt to consider a reflection of the traditions of utopianism in D. S. Merezhkovsky’s novel «Resurrection of the Gods. Leonardo da Vinci».
Keywords: historiosophy, utopia, utopianism, clan tradition, «new person».
Информация об авторе: Ибрагимова Динара Эркиновна – бакалавр 5 курса Института филологии МПГУ.
Information about the author: Ibragimova Dinara Erkinovna – bachelor of 5 course of the institute of philology, Moscow Pedagogical State University.
Жизнь и творчество Л. Н. Толстого в формировании историософской концепции И. М. Ефимова
Е.А. Самарова /Москва/Аннотация. В статье рассматриваются принципы рецепции биографии и философских идей Л. Н. Толстого в произведении И. М. Ефимова «Ясная Поляна». И. М. Ефимов, создавая свою собственную историософскую систему, верифицирует ее посредством конкретных исторических примеров, в том числе биографии Л. Н. Толстого. В этой верификации, соотнесении историософии писателя с историческими произведениями, и заключаются особенности метода изображения в эпической прозе И. М. Ефимова.
Ключевые слова: Л. Н. Толстой, И. М. Ефимов, историософские концепции, историческая проза, эпистолярная проза, философская система.
Образ Л. Н. Толстого – не только как писателя, но, прежде всего, как мыслителя, философа, учителя – является знаковым для русской культуры. Становление самого образа произошло еще среди современников писателя, которые в своих сочинениях и воспоминаниях отмечали особую роль Толстого-мыслителя как некоего нравственного ориентира, человека, обладающего мудростью и знанием жизни. Так, В. Я. Брюсов в статье «На похоронах Толстого. Впечатления и наблюдения» отмечает: «Когда я был студентом, многие из моих сотоварищей «ходили к Толстому», чтобы спросить у него, «как жить», а на деле просто чтобы посмотреть на него». И далее: «Толстой был для всего мира. Его слова раздавались и для англичанина, и для француза, и для японца, и для бурята… Ему было близко все человечество» [1]. Подобным же образом о писателе как о человеке, обладающем тайным знанием, отзывался и М. Горький: «Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек, – человек человечества» [2]. Отзывы и впечатления современников, воспоминания о писателе создавали почву для мифологизации образа Л. Н. Толстого, который стал своеобразным символом русской культуры и литературы.
Биографии, философии Толстого, его произведениям и их анализу посвящено множество трудов, как научных, так и художественных. Одним из многих современных писателей, обратившихся в своем творчестве к образу Л. Н. Толстого, стал И. М. Ефимов.
Игорь Маркович Ефимов – русский и советский писатель, автор многочисленных художественных и историко-документальных произведений, один из представителей Третьей волны русской эмиграции. Однако, в отличие от большинства писателей данного ответвления русской литературы, литературная карьера Ефимова сложилась еще в СССР. Под псевдонимом Андрей Московит Ефимов до эмиграции издал первые свои произведения, среди которых историософские трактаты «Практическая метафизика», «Метаполитика» (опубликованы в самиздате) и исторический роман «Свергнуть всякое иго» (1977). И. М. Ефимов вместе с Б. Б. Вахтиным, В. Р. Марамзиным, В. А. Губиным в 1964 году создали литературную группу «Горожане», к которой позже присоединился С. Д. Довлатов. После распада группы Ефимов вместе с семьей эмигрировал в Америку, где создал издательство «Эрмитаж», в котором публиковал произведения запрещенных советских писателей. Издательство «Эрмитаж» являлось вторым крупным издательством (после «Ардиса» К. и Э. Профферов), помогавшим советским писателям за границей.
Творчество И. М. Ефимова включает в себя произведения различных жанров: повести, рассказы, романы, историко-документальные расследования и т.д. Однако особый пласт текстов составляют исторические произведения: «Свергнуть всякое иго» (1977), «Невеста императора» (1988), «Новгородский толмач» (2004), «Джефферсон» (2015), «Ясная Поляна» (2015), «Дуэли Александра Гамильтона» (2016) – и непосредственно связанные с ними историософские трактаты «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна неравенства» (1999).
Особняком в этом списке стоит недавнее произведение Ефимова «Ясная Поляна», опубликованное в 2015 году и представляющее собой многоактную пьесу, полностью построенную на тексте переписки, дневниковых записей, воспоминаний Л. Н. Толстого и его жены С. А. Толстой, их детей, друзей семьи, знакомых и т. д. В тексте встречаем соответствующие для данного жанра элементы: ремарки, обозначение границ актов и действий, замечания самого автора по построению сцены и т.д.
Задумав написать сценарий о жизни семьи графов Толстых, И. М. Ефимов поставил перед собой трудоемкую задачу – создать художественное произведение на основе других текстов, внешне сведя свою функцию к роли составителя, максимально снизив авторское участие в тексте. В предисловии И. М. Ефимов указывает на минимальный авторский вымысел как характерную особенность произведения: «В этом сценарии практически нет ни одного слова, сочиненного автором. Все монологи, реплики, комментарии и диалоги взяты из писем, дневников, воспоминания супругов Толстых, их детей и родственников, их друзей и знакомых, навещавших Ясную Поляну в годы 1860-1910, изредка – из прозы Толстого» [10. С. 5].
В изображении Толстого Ефимов опирается не на его писательскую деятельность, а на философские взгляды и убеждения. Автор отбирает материал таким образом, чтобы ярче обозначить роль философских убеждений Толстого и их эволюцию как в общественной, так и в личной жизни писателя. Этот аспект является наиболее важным для Ефимова, потому что посредством его автор встраивает образ Толстого в свою собственную философскую систему.
Выбор Ефимовым образа Л. Н. Толстого для своего произведения обусловлен историософской концепцией писателя, представленной в произведениях на историческую тематику. Все исторические произведения Ефимова, куда мы относим и «Ясную Поляну» вследствие одинаковой трактовки автором истории, и историософские трактаты, перечисленные выше, представляют собой одну систему и соотносятся между собой как элементы общей философской теории и примеры, иллюстрации к ней. Так, например, в историософском трактате «Метаполитика» Ефимов раскрывает свое понимание истории, ее развития и движения. Согласно автору, история вершится не народом или нацией, но только выбором отдельного человека. Тем самым, Ефимов, уходя от традиционного для русской литературы понятия соборности, ставит историю развития общества в полную зависимость от воли человека. Таким образом, по мнению писателя, история представляет собой последовательную смену двух ведущих разнонаправленных сил: веденья и неведенья. В указанном трактате Ефимов определяет эти понятия следующим образом: «Дар разумного сознания, присущий каждой человеческой воле, можно уподобить прожектору, созданному для того, чтобы освещать окружающий мир во времени и пространстве. Свобода воли ни в чем не может быть реализована с большей полнотой, нежели в обращении с этим даром. Выбор состоит в том, чтобы направлять луч прожектора осторожно, избирательно, избегая освещать все пугающее, ускоряющее, тягостное, отталкивающее, опасное, – это выбор неведенья; или посылать окрест себя ровный и ясный свет, не ослабляя его и не отводя даже от самых грозных и мучительных картин, – это мужественный выбор веденья» [5]. Для писателя движение истории – это постоянная сменяемость веденья и неведенья, их сливаемость и переход из одного состояния в другое. В исторических романах «Свергнуть всякое иго», «Невеста императора», «Новгородский толмач» и др. автор, описывая различные исторические эпохи, создает историческую модель в соответствии с теорией веденья и неведенья, тем самым возводя ее в статус исторической закономерности.
В «Ясной Поляне» также представлена идея о веденьи и неведеньи. Однако сюжет «Ясной Поляны» не охватывает масштабное историческое событие, как в других исторических произведениях Ефимова, а основывается на биографии Л. Н. Толстого, поэтому данная теория уходит на второй план. В свою очередь, на первом плане остается другая теория, дополняющая главную и представленная в следующем историософском трактате И. М. Ефимова «Стыдная тайна неравенства».
В «Стыдной тайне неравенства» Ефимов рассуждает не только об истоках неравенства в обществе, но и, прежде всего, о философских теориях о неравенстве и равенстве различных эпох. Согласно философской концепции Ефимова, все философские теории, стремящиеся уравнять людей, не учитывают одного важного факта – того, что люди по своей природе не равны друг другу. В этом, в нежелании философов обращать внимание на эту «стыдную тайну», и видит Ефимов неуспех всех философских концепций, проповедующих равенство в обществе. Кроме того, Ефимов делит все философские теории о неравенстве и равенстве на две группы: «состязателей» и «уравнителей». К состязателям Ефимов относит тех мыслителей и те философские концепции, суть которых сводится к наделению всех людей одинаковыми правами. Среди прочих, здесь Ефимов называет, например, Аристотеля, Н. Макиавелли, Ф. Бэкона, Т. Гоббса, А. Смита и др. Уравнители выступают за обеспечение равенства людей извне, то есть, по существу, насильственное. К последним Ефимов относит и философские концепции о равенстве Л. Н. Толстого. Однако, согласно Ефимову, ни те, ни другие теории не ведут к равенству: состязательство приводит к олигархии, а уравнительство – к диктатуре.
Л. Н. Толстой изображен в «Ясной Поляне» как писатель-мыслитель. Через него Ефимов вводит в текст своего произведения философию Толстого, проверяет ее и, тем самым, встраивает ее в свою историософскую концепцию.
Ефимов изображает Толстого не как идеального героя, но как человека метущегося, размышляющего, переходящего от одной идеи к другой и ошибающегося. Писатель, сталкивая Толстого в диалогах с разными оппонентами, проверяет его теорию, находит ее слабые и сильные места. Например, к эпизодам, указывающим на ошибочность философии Толстого, можно отнести разговор Толстого с крестьянином, после которого выясняется, что Толстой не понимает народ и его внутренние, скрытые мотивы; разговоры с его детьми и С. А. Толстой, которые указывают герою на неверное толкование народной жизни и др. Таким образом, через образ Толстого Ефимов доказывает свою теорию о «стыдной тайне неравенства».
Образ Л. Н. Толстого встраивается в общий ряд исторических деятелей, описанных Ефимовым в своем творчестве, среди которых Томас Джефферсон, третий президент США, участник Английской буржуазной революции Джон Лилберн, деятель Первой американской буржуазной революции Александр Гамильтон, ересиарх Пелагий Британец и др. Всех этих героев объединяет наличие различных философских идей и установок, которые И. М. Ефимов использует и структурирует в своих историософских трактатах.



