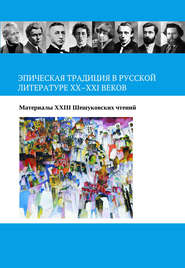 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
Между писателями случались размолвки, хотя были и времена взаимного благотворного влияния. Для нашей же конкретной темы важно отметить, что в период создания рассказов «Смерть» Тургенева и «Три смерти» Толстого отношения двух художников были на той стадии, которую правильнее всего обозначить, как творческий диалог.
Уже названия рассказов указывают на то, что произведения написаны на одну и ту же тему. Это – тема смерти, волновавшая обоих писателей на всем протяжении их творческого пути.
В очерке Тургенева «Смерть», написанном в 1847 году, главным предметом изображения является «процесс принятия» смерти русским человеком. Рассказчик подробно описывает свою поездку в лес, где он нечаянно оказался свидетелем умирания подрядчика Максима, который в грядущей кончине своей не винит никого, кроме себя («Господь…меня наказал…ноги, руки, все перебито…сегодня…воскресенье…а я…а я… вот…ребят-то не распустил.» [8: с.191]). В последние минуты жизни герой просит послать за попом, чтобы причаститься, просит прощения у других мужиков, сообщает о недавней покупке лошади, которая непременно должна достаться его семье. Максим ведет себя таким образом, что нет никакого сомнения в том, что смерть свою он принимает твердо, последовательно озвучив приоритетные для себя просьбы. По словам рассказчика, «Он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто» [8: с. 191]. Столь же смиренно принимают смерть и такие персонажи очерка, как мужик, обгоревший в овине, мельник Василий, студент Авенир Сорокоумов, старушка-помещица. Несмотря на то, что перед читателем предстают совершенно разные люди (разных сословий, рода деятельности и интересов), их объединяет безропотное и совершенно спокойное отношение к собственной смерти. И Максим, и Василий, и Авенир игнорируют возможность медицинской помощи, и этот их выбор является абсолютно сознательным: словно они убеждены в необходимости умереть и главной их целью является сделать это правильно.
Природа необъятна и нерукотворна, в то время как наука, в частности медицина, способная в некоторых случаях спасти человека от смерти, самими людьми и придумана. Герои очерка «Смерть» тесно связаны с природой и Богом, и потому не считают себя в праве идти против «задуманного». Они не сожалеют и не выказывают горечь или печаль, хотя в то же время и не радуются концу своих земных страданий. Русский мужик в изображении Тургенева вообще не дает никаких оценочных суждений факту своей смерти; для него это не плохо и не хорошо, для него это естественно. Вместе с тем было бы неправильно утверждать, что эти люди равнодушны к смерти: для мельника, например, важно было умереть дома, в кругу семьи («Уж умирать, так дома умирать…» [8: с.193], подрядчик был озабочен финансовыми делами и передачей положенных средств жене). Невозмутимость, с которой персонажи тургеневского очерка принимают свою кончину, специально отмечается в письме к рассказчику господина Крупяникова, сообщающего о смерти Сорокоумова: «Скончался ваш друг в совершенной памяти и, можно сказать, с таковою же бесчувственностью, не изъявляя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались»[8: с.197].
Автор подчеркивает массовый характер таких случаев умирания, указывая, что перечисленные герои одни из миллионов подобных. Перед Тургеневым стояла не столько задача объективно рассказать о том, как умирает русский человек, сколько указать на то, что такое отношение к смерти характеризует мировоззрение, присущее многим русским людям.
Рассказ Толстого «Три смерти» был написан в январе 1858 года и опубликован в «Библиотеке для чтения» в 1859 году. Внешний замысел произведения удивительно схож с тургеневским: автор стремится изобразить то, как важно единение человека с природой, которое позволяет достойно уйти из жизни. Рассказ построен на антитезе: образ умирающей барыни и смертельно больного ямщика Федора противопоставлены друг другу – в том отношении, что они совершенно по-разному принимают конец своего земного существования. Контрастно не только отношение героев к смерти, но и их поведение по отношению к окружающим. Федор скромен, щедр, его просьбы к окружающим сводятся к минимуму, в то время как барыня ворчит на мужа, горничную. Женщина беспрестанно ропщет, ищет виновных в своем недуге и строит надежды на выздоровление, отвергая здравый смысл. С завистью и злостью она смотрит на близких. Для нее слово «умереть» – нечто противоестественное и пугающее, в то время как для ямщика это совсем не так. Забирая жизнь у человека, природа не смотрит на сословные или нравственные принципы, ее сила велика и иррациональна, а барыня, не признавая природных законов, предполагает наличие определенной причины своей участи: «Боже мой! за что же?»[7: с.57].
В случае барыни Толстой изображает, скорее, смерть духовную, нежели физическую. Автор демонстрирует лжехристианство, которое не помогает героине и не облегчает ее страданий. С одной стороны, она просит прощения у Бога («Боже, прости меня грешную!»), оценивает происходящее с ней как его волю, с другой – всем своим существом противится умиранию. Очевидно, что страдания барыни, по Толстому, не в том, что она не может принять свою смерть и смириться с неизбежным, как ямщик, а в том, что, в отличие от него, она изначально не находится в гармонии с природой. Бросается в глаза параллель с героями очерка «Смерть»: факт смерти нисколько не противоречит их взглядам и самоощущению, они внутренне убеждены в закономерности и естественности происходящего. Барыня ложно верит в Бога (почему и не примиряется с его «волей»), а Федор и тургеневские герои, подобно дереву, срубленному Серегой, как бы сами ощущают себя частью великого организма природы, внутри которого жизнь и смерть подразумевают и предполагают друг друга и не воспринимаются как что-то мучительное, болезненное и трагическое.
По-разному можно проинтерпретировать тот факт, что над могилой усопшей уже через месяц возвели часовню, а на месте захоронения Федора все еще не было камня, «и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека» [7: с.63]. С одной стороны, это противопоставление указывает на разницу в социальном и материальном положении героев. С другой – оно является знаком того, что ямщик, в отличие от барыни, естественным образом после смерти слился с природой.
В письме к А.А. Толстой автор «Трёх смертей» так определил главную мысль своего рассказа: «Моя мысль была: три существа умерли – барыня, мужик и дерево. – Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжёт перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для неё вопроса жизни и смерти. […] Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которой он жил. […] Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво – потому что не лжёт, не ломается, не боится, не жалеет». [7: с.301].
Интересно, что изначально рассказ был задуман без эпизода смерти дерева и назывался «Смерть». В письме Толстому из Петербурга от 11 февраля 1859 года Тургенев отмечал, что «Три смерти» здесь вообще понравились, но конец находят странным и даже не совсем понимают связь его с двумя предыдущими смертями, а те, которые понимают, недовольны» [9: с.270–271.] Притчевое содержание рассказа было малопонятно читателям. Вполне вероятно, что, дополнив свое произведение третьим «героем», автор хотел подчеркнуть близость ямщика к природе и то, что он, равно как и дерево, погибающее в конце, живет по ее законам. Толстой ставит знак равенства между человеком и деревом по признаку признания обоими природной власти над самими собой. Как отмечает А. К. Гладышев, «вырубка одного дерева не нарушает общей гармонии и спокойствия в лесу…[...] Нечто похожее происходит и среди крестьян. В избе как будто никто не замечает умирающего старика…» [1: с.53-54].
Стоит отметить то, что тургеневский очерк начинается с вырубки леса, хотя автор не акцентирует внимание читателя на данном эпизоде. Однако именно этот фрагмент недаром предшествует последующему повествованию. Толстой, в свою очередь, в один ряд со смертью барыни и мужика «помещает» выруб дерева: оно представлено как отдельный персонаж наравне с людьми. Таким образом, можно предположить, что автор «Трёх смертей» продолжает и развивает мысль Тургенева о том, что достойно умирать – значит, подобно срубленному дереву, не препятствовать задумке природы, не роптать и не противиться этому.
А.К. Гладышев обращает внимание на то, что в случае смерти ямщика раскрыт лишь физиологический аспект смерти (в тексте содержатся описания его физического состояния – боль, недомогание, внешний вид при данном состоянии – «рыжее худое лицо», «широкая, исхудалая и побледневшая рука», «редкие отвисшие усы»), в то время как психоэмоциональный аспект остается не раскрытым. Однако, на наш взгляд, он и не нуждается в большем раскрытии, поскольку Федор, по концепции Толстого, готов к смерти и, подобно героям тургеневского очерка, не имеет по этому поводу никакого другого мнения, кроме того, что это естественно.
В своей работе А.К. Гладышев упоминает также статью Д.И. Писарева «Три смерти. Рассказ графа Л.Н.Толстого», в которой критик объясняет разницу в отношении к собственной смерти барыни и мужика их нахождением в разных социально-бытовых условиях. Исследователь не выражает согласия с данной точкой зрения: «причина смирения мужика, вероятно, заключена в другом. Покорность Федора – это образно воплощенная идея смирения перед силами (природными или сверхъестественными), превосходящими человеческую волю» [1: с.52]. Данную мысль подтверждают вышеупомянутые слова самого Толстого о том, что ямщик – не христианин, и его религия – это сама природа. Для барыни же природа ничего не значит, в гонке за жизнью она игнорирует даже свое материнское, данное ей природой, предназначение: «Дети здоровы, а я – нет» [7: с.57]. В этих почти цинично звучащих словах – зависть барыни по отношению к собственным близким, к их продолжающейся жизни и к отсутствию у них страданий. Необходимо добавить, что подобный тип поведения равным образом далек и от христианства.
Как бы критически ни оценивал поздний Толстой творчество Тургенева, и в частности – цикл «Записки охотника», невозможно закрыть глаза на то, что тему «правильной» смерти русского человека и его близости с природой изначально задал именно автор «Смерти». Развивая тургеневскую идею в своем рассказе «Три смерти», Толстой вводит в сюжет персонаж, контрастный образам идеально умирающих героев, – богатую женщину, лжехристианку, и таким образам выводит свой рассказ к новым философским горизонтам.
Литература1. Гладышев А.К. Эстетика и физиология смерти в рассказе Л.Н. Толстого «Три смерти» /Уральский государственный педагогические университет №1, Екатеринбург, 2012.
2. Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. – М., 1959.
3. Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева. – М., 2000.
4. Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий. – М., 2002.
5. Линков В.Я. Комментарии // Толстой Л.Н.. Собр. соч. в 22 тт. Т.3.
6. Русанов Г.А. Поездка в Ясную Поляну (24–25 августа 1883 г.) // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1960.
7. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений под ред. В.Г. Черткова. М.: Художественная литература, 1935, Т.5.
8. Тургенев И.С. «Записки охотника», повести и рассказы. М.: Художественная литература, 1979.
9. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. III, с. 270–271.
10. Ястребов А.Л. Тургенев и Толстой: двойной портрет на фоне времени и вечности // Религиоведение. Амурский гос.университет, 2012. №3.
Nature and Man in Turgenev’s “Death” (“Notes of a Hunter”) and Tolstoy’s “Three Deaths”Abstract: Two similar works – an essay “Death” (1847) by Ivan Turgenev and a story “Three Deaths” (1858) by Leo Tolstoy – are analysed in this article. The central theme in the essay “Death” is the death of a Russian man: the narrator thinks about people who so quietly and consciously accepted their decease, designating this as one of the characteristic features of the Russian people. Despite the complicated relationships between writers, Tolstoy obviously continued developing the theme of the “correct” death of a man who, like a tree, perceives the coming departure from life as something natural. During the “Three Deaths” creation Tolstoy and Turgenev were not yet separated by worldview discrepancies. Continuing Turgenev’s idea, Tolstoy created the contrast image of a deathly ill lady, a false Christian, who so pitifully and ridiculously opposed to dying. Thus, the writer set to a new level the question of human death and the “correctness” of its very process.
Keywords: Turgenev, Tolstoy, death, tree, nature, forest, man, religion, people.
Информация об авторе: Асланова Виктория Витальевна, магистрант МПГУ
Information about the author: Aslanova Viktoria Vital’evna, graduate student of the Institute of philology, Moscow Pedagogical State University
Мир детства в творчестве Л.Н. Толстого («Детство») и А. И. Куприна («На переломе (Кадеты)»): традиции и новаторство
А.Л. Маханькова /Москва/Аннотация. Статья посвящена изучению мира детства в трилогии («Детство. Отрочество. Юность») Л. Н. Толстого и повести А. И. Куприна «На переломе (Кадеты)». Пора детства играет ключевую роль в формировании личности, ее духовном становлении. Писатели разных эпох по-своему воспроизводили мир детства в своих произведениях, освещая все факторы, способствующие воспитанию детей, развитию в них тех или иных качеств.
Ключевые слова: Л. Н. Толстой, А. И. Куприн, мир детства, формирование личности, «Детство. Отрочество. Юность», «На переломе».
Почти полвека разделяет трилогию Л. Н. Толстого от автобиографической повести «На переломе» Александра Куприна. Реформы Александра II, народовольцы и цареубийство, либеральные и реакционно-охранительные тенденции в общественной жизни – всё это радикально изменило систему воспитания дворянских детей. И если Толстой в своей трилогии подробно описывает первые этапы и факторы взросления – домашнее обучение, любимый учитель Карл Иванович, добрая свояченица Наталья Ильинична, тепло и забота, царившие в семье, то Куприн в своей повести сразу погружает читателя в гимназическую атмосферу – с описания первого дня Миши Буланина в новом и чужом для него месте.
Эмоции, переполнявшие Мишу, его предвкушение о начале увлекательного этапа в его почти «взрослой» жизни (ведь теперь он будет ходить в мундире и отдавать честь офицерам!) показывают чистоту и наивность детской души, жаждущей самостоятельности. На протяжении всей повести Куприн повествуют о негласных законах «старичков», которые калечат души «новеньких», о боли и постоянных унижениях, касающихся каждого воспитанника. При этом подчеркивается абсолютное равнодушие начальства и учителей ко всему происходящему. Если Толстой неоднократно говорил о том, что «воспитание детей есть только самосовершенствование, которому ничто не помогает столько, как дети» [6, с. 212], то Куприн показывает, что понятия чести и нравственности давно уже забыты в военных училищах, а люди, которые должны воспитывать новое поколение – морально опустошены.
Как и у Толстого общество, окружающее главного героя, делится на определенные группы людей. В данном случае – это «форсилы», «заби-валы», «отчаянные», «силачи», «зубрилы», «солидные» и другие. Хуже всего приходится «тихоням и слабеньким». Таким образом, Александр Куприн показывает, что еще в детскую пору общество диктует свои правила и распределяет тебя в ту или иную группу, в которой ты проведешь всю свою дальнейшую офицерскую жизнь. Целью ребенка становится не обрести верных товарищей, получить необходимые знания, воспитать в себе понятие чести, а заслужить авторитет сокурсников или хотя бы быть тем, кого будут бить не каждый день, а через раз.
Оказавшись в такой обстановке, герою Куприна приходится подчиняться этой среде, и только поздно ночью, когда все спят, он будет с горькими слезами думать о своей былой праздной жизни, о своей нежной и любимой матери. Интересно, что новый этап жизни у Николеньки из трилогии Толстого и купринского Миши начинается с лишением их материнского окружения. И это оказывается первым тяжелым потрясением ребенка, привыкшего быть окутанным заботой и любовью матери. С этого момента ребенок начинает чувствовать себя абсолютно никому ненужным и эти горькие впечатления остаются с ним до конца жизни. «Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе» [5, с.32].
Миша Буланин постоянно испытывает чувство приниженности, ощущает свою «второсортность». Такого рода ощущения не чужды и самому Куприну. Описывая переживания Миши Буланина, он опирается на воспоминания из своего детства: «Каждый раз, когда я вспоминаю об этих ранних впечатлениях моего детства, боль и обида оживают во мне с прежней силой. Я опять начинаю недоверчиво относиться к людям, становлюсь обидчивым, раздражительным, и по малейшему поводу готов вспылить» [4, с. 77].
Если детство Толстого – это пора необъятной любви ко всему окружающему, где Николенька перед сном думает «какие все добрые и как я всех люблю» и молится о том, чтобы «бог дал счастье всем, всем», то детство Куприна – это череда насмешек, издевок, «боли и незаслуженной обиды», которая глубоко ранит душу и оставляет в ней «кровавую, долго сочившуюся рану».
И Лев Толстой, и Александр Куприн признавали влияние детства на формирование человека. Л. Н. Толстой стремился показать, что эта чудесная пора играет большую роль в нравственно-этическом воспитании личности. Человек через всю свою жизнь проносит именно эти свои детские впечатления. Вспоминая о написании трилогии, Лев Толстой отмечал: «… когда я писал «Детство», то мне представлялось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства» [2, с.306].
В купринской ситуации – из военной гимназии выходят забитые юноши, души которых искалечены и которым только остается, что калечить других. К примеру, такое сформировавшееся офицерское общество описывает Александр Куприн в «Поединке».
Лев Толстой в своей трилогии описывает детство, проходящее в уютной и теплой усадебной обстановке, показывает «диалектику души ребенка», истоки духовного роста. Как отмечает А. Ф. Цирулев, «автор трилогии всем строем своего повествования учит относиться к детству, отрочеству, юности как к замечательной, прекрасной поре жизни, которой следует удивляться, которой следует восторгаться и которую должно воспринимать как безусловное благо» [7, с.30].
Куприн же обращает внимание читателей на «украденное детство»: ребенок оказывается зависим от окружающей его действительности, он вынужден подчиняться ее «жестоким» законам. Та «восхитительная пора детства», о которой пишет Толстой, сменяется жутким воспоминанием, которое так и не удается забыть ни Куприну («жгучие детские скорби»), ни его героям.
Мир детства всегда привлекал писателей: изучение этого феномена помогало понять, что формирует человека, какие факторы, заложенные в детстве, играют роль в становлении личности и проявлении ее качеств. «Детство – не только славная пора, детство – ядро будущей человеческой личности. Именно в детстве закладывается подлинное знание родной речи, именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, к определенной культуре…» [1, с.2].
Литература1. Айтматов Ч., «Заметки о себе» // «Советские писатели». Автобиографии, т. 4, М. «Художественная литература», 1972; URL: http://docplayer.ru/52294876-Ch-aytmatov-zametki-o-sebe. html.
2. «Интервью и беседы с Львом Толстым», М.: Современник, 1986.
3. Куприн А. И. На переломе. (Кадеты). М.: АСТ, 2005.
4. Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960.
5. Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность. М.: Правда, 1981.
6. Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1989.
7. Цирулев А. Ф. «Поэтическая идея» в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2011. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poeticheskaya-ideya-v-trilogii-l-n-tolstogo-detstvo-otrochestvo-yunost.
The world of childhood in the works of L. N. Tolstoy (“Childhood”) and A. I. Kuprin (“At the Turning (Cadets)”): traditions and innovationAbstract. The article is devoted to the study of childhood in the trilogy (“Childhood. Boyhood. Youth”) L. N. Tolstoy and the novel by A. I. Kuprin “Аt the break (Cadets)”. The time of childhood plays a key role in the formation of personality, its spiritual development. Writers of different eras in their own way reproduced the world of childhood in their works, describing all the factors that contribute to the education of children, the development of certain qualities in them.
Key words: L. N. Tolstoy, A. I. Kuprin, the world of childhood, the formation of personality, “Childhood. Boyhood. Youth”, “At the break”
Информация об авторе: Маханькова Алена Леонидовна, студент Института филологии МПГУ.
Information about the author: Makhankova Alyona L., student of the Institute of philology, Moscow Pedagogical State University.
Традиции утопизма в романе Д. С. Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»
Д.Э. Ибрагимова /Москва/Аннотация: Создавая свои исторические романы в переломную эпоху, Д. С. Мережковский в осмыслении важных проблем современности оказался созвучен представителям радикальной интеллигенции XIX вв. и философам первой половины XX в. В работе предпринимается попытка рассмотреть преломление традиций утопизма в творчестве Д. С. Мережковского на примере романа «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи».
Ключевые слова: историософия, утопия, утопизм, родовая традиция, «новый человек».
Черты утопизма можно проследить и в древности (фольклорных сказаниях, легендах), и в XVIII в., когда на русскую литературную традицию оказывает влияние уже «Утопия» Т. Мора, появляются «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Сон. Счастливое общество» Сумарокова. Размышления об идеальном мироустройстве, как и критика представлений о нем разворачиваются в произведениях авторов XIX в. Роман Чернышевского «Что делать?», представляя во многом утопическую модель мироустройства, стал руководством к построению «новой жизни» для целого поколения. Представления «позитивно» утопические занимают заметное место в творчестве Достоевского: нередко писатель анализирует ситуацию то «целостного» человека в разверзающемся мире («Идиот»), то заблудшую душу, попадающую в «Золотой век» («Сон смешного человека»). Весьма перспективным для русских символистов также становится идеализм В. C. Соловьева, который в трактате «Смысл любви» развивал идеи Платона, дал свою трактовку позиций гностицизма и христианства, рассматривал метафизические категории через призму современного автору социального устройства и предложил собственную утопическую картину будущего.
Исследования, посвященные утопической традиции, относительно немногочисленны, что обусловлено неоднозначностью данного явления. Интересной представляется попытка рассмотреть это явление в статье Е. Чертковой «Утопия как тип сознания» [5]. Размышляя о сущности утопизма, автор разграничивает понятия «утопия» и «утопизм». Последнее трактуется как особая форма мышления, порожденная в результате несоответствия представлений ее носителя об идеальном (или должном) мироустройстве реальности. Е. Черткова отмечает, что одной из важных черт утопического сознания является наличие в произведении героя – личности, неудовлетворенной современным мироустройством. Данная особенность, отмеченная исследователем, есть одно из отличительных свойств романов Д. С. Мережковского.
Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус с их единомышленниками внесли значительный вклад в развитие традиций утопизма. Известно, что философия Мережковского стремилась к осмыслению религии в контексте современного общественного состояния и в результате оформилась в идею “Третьего Завета”. «Религиозно-философские собрания» просуществовали недолго, однако стали своеобразным этапом культуры модерна, не только открывшим многие имена в литературе и изобразительном искусстве, но и целые концепции, развитые в культуре “Серебряного века”. При всем своеобразии их положений, во многом они напоминают размышления утопистов. Исследователи отмечали, что неохристианская идеология Мережковских в некоторых позициях удивительным образом созвучна размышлениям представителей разночинной интеллигенции XIX в. [2, с. 51] Так, в романе Д. С. Мережковского “Воскресшие боги. Леонардо да Винчи” можно проследить и отношение автора к представлению семейного идеала Н. Г. Чернышевским, Л.Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, а также к Ф. Ницше.



