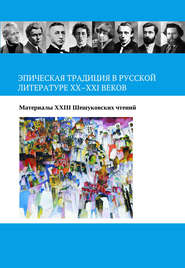 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
Показательны – как примеры противоположной мировоззренческой позиции (на схожем материале) – некоторые произведениях русской словесности, особенно прошлых веков. Аллегорические и метафорические образы «апокалипсиса местного значения», например, Русского Мiра, мы находим в литературных памятниках XIII, XVII веков, в произведениях послереволюционного времени. Многие современники осмысляли эпоху ордынского нашествия, смуты, большевистского погрома именно как наступление последних времён, как пришествие антихриста, как приближение Конца Света попустительством Божиим – «по грехом нашим». Не имея возможности останавливаться подробно на этих произведениях, лишь отметим тенденцию: в большинстве (не во всех!) из этих произведений мы видим попытку авторов поделиться с читателем – вопреки всему – своей потребностью преодолеть (хотя бы в душе) «время зверя», не уподобиться ему, встречая Конец Света, сохранить свет Божий в душе. (См., например, «Зверь из бездны», «Дорожный посох» В.А.Никифорова-Волгина, «Солнце мёртвых» И.С.Шмелёва, «Материнский плач Святой Руси» Кн. Н.В.Урусовой, «Побеждённые» И.Головкиной /Римской-Корсаковой/).
Вернёмся к «антиголдинскому» (в идейном, в пафосном, в духовном отношении) примеру, представленному ранее. Писатель и богослов К.С.Льюис занимает позицию – полностью совпадающую с позицией блаж. Августина, полагающего, что «мировой пожар совершенно уничтожит те свойства тёмных стихий, которые соответствовали нашим тёмным телам, и мир, обновившись к лучшему, получит полное приспособление к людям, обновившимся к лучшему и по плоти» («О граде Бож.» XX, 16). [7, с.604]. Как мы можем убедиться, и величественная, написанные К.Льюисом в пространственной гиперболе, картина обрушения небес, и картина окончательной гибели погрузившейся во тьму Нарнии, несомненно, прекрасны. Прекрасны по той же причине, что и в стихотворении Ф.И.Тютчева: христианское мирочувствие, миро-осмысление, мирооценка русского и английского писателей (несмотря на разность конфессиональной принадлежности) проявляются именно в оптимистичном восприятие Конца Cвета. Оба художника понимают это событие как окончание пути искушений, мучений, страданий, смертей, как уничтожение «царства греха». Не удивительно поэтому, что абсолютно (!) совпадают (в смысле идейного, пафосного, духовного и эстетического наполнения) приведённые выше образы очищающего вселенского Потопа. Конец Света понимается авторами не как гибель в полном смысле слова, но как фаза преобразования и обновления вселенной, что в сущности полностью соответствует концепции главному «Первоисточнику» /курсив мой – О.Щ./: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежняя земля и прежнее небо миновали» /Откр. 21:1-2/. [7, с.608]. Авторы анализируемых нами литературных произведений – как художники – лишь позволяют себе, не изменяя сущности, «дорисовать» картину, эмоционально и в деталях (чего нет в Откровении) раскрыть по-своему все-вмещающее слово «новое», представить зрителям, как будет происходить это преобразование вселенной. В теологическом измерении такие потуги однозначно должны быть «изъяты из предметов нашего любопытства» (св. Григорий Нисский) [7, с.604]. Насколько допустимы подобные попытки в художественном произведении – не претендующем на статус канонического текста, не искажающем идейной сущности Первоисточника, а лишь эстетически его оформляющем – вопрос, требующий профессионального ответа специалистов в области богословия. В любом случае и литературоведу, и теологу следует разбирать, оценивать каждый пример в отдельности и в сравнении.
Итак, Е.А.Баратынский, Ф.И.Тютчев, К.С.Льюис (при всех выявленных отличиях) без ужаса и смятения воспринимают Конец Света не только как неизбежное, справедливое, заслуженное наказание, но прежде всего – как прекращение долгой и мучительной болезни человечества. Кроме того, несмотря на факт гибели (например, всех любимых героев автора сказочной эпопеи), о трагическом образе говорить никак нельзя: «малое стадо», погибшее в последней нарнийской битве и в земной жизни, спасено – для жизни вечной в Царствии Небесном. Завершая «хроники» (последняя глава фактически является эпилогом) К.Льюис «награждает» читателя и спасенные души (уже погибших – романтическая ирония) героев, прошедших Страшный Суд, в том числе и пространством святости – превышающим в своей красоте возможности человеческого представления о Прекрасном и о том, что случилось с «верными», принятыми Творцом. (Очевидная параллель: любимых умерших /погибших/ для жизни земной героев «награждают» именно в прекрасном пространстве, например, Г.Х.Андерсен / «Девочка со спичками», «Русалочка»/, Ф.М.Достоевский /«Мальчик у Христа на ёлке»/, Дж.Р.Р.Толкиен /«Лист работы Нигла /Мелкина/» А.А.Э.Лингрен /«Братья Львиное Сердце»/).
Только здесь внешнее и сущностное, наконец, объединились в полной, ничем не ограниченной гармонии – гармонии святости. Повествователь прямо признаётся в своей неспособности написать о том великом и прекрасном, что случилось потом: «/…/ the things that began to happen after that were so great and beautiful that I cannot write them» (выделено мной – О.Щ.) [6, с.218].
Только здесь, в этом пространстве святости, любимые персонажи «хроник» К.Льюиса, обретает и душевную, и духовную радость в её безграничной полноте: Радость в христианском смысле слова – как Gloria. Именно это, евангелическое понимание «всё превосходящей» радости – «бесконечно» высокой, преисполненной счастья» («preeminently», «infinitely /…/ high and joyous») – становится одним из главных критериев оценки всякой волшебной истории в эпилоге трактата «О волшебных сказках» («On Fairy-stories», 1947) друга К.С.Льюиса, его собрата по перу (но католика) Дж.Р.Р.Толкиена. Без такого чувства Радости невозможно, полагает автор трактата, достичь необходимого эффекта ожидания /воспоминания, переживания, встречи/ «Великой Экатастрофы» (Great Eucatastrophe) (4). Эта всеобъемлющая Радость воплощена и в образе пространства святости – пространства, где произошло воссоединения спасённых «тварей» с Творцом в Его Царстве.
Здесь при создании роскошного изобразительного ряда, представляющего нам прекрасную бесконечность, К.С.Льюис, полностью (что символично) отказывается в гиперболе от масштабных ограничений (которые все-таки были им установлены в образах Нарнии и других миров). Правда, не будем забывать, что эту идеальную во всех отношениях картину английский романтик дарит героям лишь после проигранной ими смертельной битвы, после Конца Света (снова – пресловутая «романтическая ирония»). Следует ли на этом основании заподозрить сказочника /и богослова/ в недостаточном запасе оптимизма? Повторимся: конечно же, нет. Писатель христианин завершает свою книгу поистине пасхальным «поздравлением» (героев и читателя) с отменой смерти, которую надо было пройти и преодолеть – как надо было пройти и преодолеть Конец Света, чтобы каждая последующая глава Великой истории жизни вечной была лучше предыдущей («every chapter is better than the one before» [6, с.219].
Теперь рассмотрим картину, в которой художник, обратившийся к теме Конца Света, занимает совершенно иную позицию – и в духовном, и в эмоциональном, и в идейном, и в эстетическом отношении. Концепция и жанровая природа этого произведения, несомненно, ближе сочинению Е.А.Баратынского и также представляет собой яркий образец поэтической антиутопии:
Встав, прошумят и сгинут города, // Пройдут и в бездну канут поколенья, // Просторы вод иссякнут без следа, // И станут басней вольные растенья, // Заполнив степи, горы, глубь морей, // Весь шар земной, что стал для жизни тесен, // По завоёванной планете всей // Единый год выступит, как плесень. /1906/ [3, с. С.295].
Автором этого футуристического пленэра является мэтр русского символизма тридцатитрёхлетний В.Я Брюсов. Он также пишет пространство планеты Земля в откровенной гиперболе, представляя зрителю результат окончательного вытеснения = уничтожения Мiра сотворённого мiром рукотворным / «второй природой»/. В этом стихотворении, как и у Ф.И.Тютчева, также отсутствует образ человека: представлено лишь материальное свидетельство результатов его деятельности – «единого города», уничтожившего всё живое. Образ плесени становится узнаваемой эмблемой гниения, указывает на полное и окончательное разложение некогда прекрасной планеты, вручённой (? – вопрос к поэту) человечеству. Созданный В.Брюсовым воображаемый урбанистический этюд в этой антиутопии представляет собой ничто иное, как картину «мерзости запустения». Показательно в чисто эстетическом отношении, что художник-декадент, создающий откровенно негативно наполненный образ (а не прекрасный, как в приведённых выше поэтических примерах), отказывается от натуралистических подробностей в изображении гибнущей планеты. Этот эвфемизм, построенный на умолчании, выгодно смягчает восприятие самого объекта разговора («смертельного приговора») и указывает на преемственность автора стихотворения традиции русского искусства – тенденциозно избегавшего в течение долгих веков откровенной натуралистичности.
Каково же это пространство с точки зрения духовного потенциала? Нет сомнения в том, что это пространство не есть пространство святости. Но можно ли назвать его пространством греха? Повествователь-эпик, выбрав амплуа «стойкого» беспристрастного и холодного наблюдателя будущего (в этом сходство с Е.А.Баратынским), лишь констатирует неизбежный факт безобразной грядущей гибели планеты, ничего не говорит о грехе /или о действиях инфернальных сил/ – ни прямо, ни косвенно (в отличие от того же Е.А.Баратынского, К.С.Льюиса). Кроме того, в его картине отсутствует и образ Бога (ещё одно принципиальное отличие от Ф.И.Тютчева и К.С.Льюиса). В этом случае мы имеем все основания писать сочетание слов «конец света» с прописной буквы, а не строчной, поскольку в тексте В.Брюсова нет даже намёка на акт Божественного Творения. Огромное пространство маленькой антиутопии полностью обезличено; духовная оппозиция «святость-грех» вообще вынесено за его пределы. Панораме гибели человечества, гибели изуродованной им некогда прекрасной земли русский декадент ничего не противопоставляет, делясь с читателем лишь твёрдой убеждённостью в закономерности и неизбежности такого трагического завершения жизни цивилизации. На этом примере хорошо видно, как при создании пространственного образа, художник, даже когда полностью уклоняется, абстрагируется от «вертикальной» проблематики, прямо или косвенно раскрывает свой собственный духовный облик, своё мирочувствие (здесь – глубоко пессимистичное). Далеко не всегда, конечно, можно судить о духовных идеалах /или их отсутствии/ по одному произведению (чего нельзя делать и в нашем случае с В.Брюсовым), но вполне корректно говорить о мировоззренческой позиции автора как создателя конкретного художественного образа.
Продолжим контрастное сопоставление в избранном нами ракурсе исследования на примере двух произведений из новейшего периода русской литературы.
В романе Ю.Н.Вознесенской «Паломничество Ланселота» /вторая часть дилогии/ (2003) дети, опережая спасаемое «малое стадо», уже получили способность лететь за Мессией Христом – лететь в прямом смысле, а не метафорическом. Эта, дарованная им в «последние времена» способность, указывает на неотвратимую и очень скорую развязку всей мировой истории (уже после состоявшегося потопа, вызванного ядерной войной). Так в книге появляются сцены обрушения Ново-Вавилонской башни, массовой гибели людей (результата этого обрушения), но написаны эти сцены очень кратко, без натуралистических подробностей (как и у К.С.Льюиса, прямые благожелательные ссылки на которого, кстати, мы встречаем в первой книге дилогии). Возникает естественный вопрос: прочему отсутствуют сцены окончательного гибели Земли? Пожалуй, можно указать на три причины нежелания автора «анти-антиутопии» (5) писать «последний катаклизм» (не берёмся судить о том, какая из них главная). Первая причина: Ю.Вознесенская ограничивает свои притязания как художника при создании образа вселенской катастрофы, потому что испытывает давление авторитета К.С.Льюиса, уже блестяще выполнившего эту задачу. Его положительный опыт делает все попытки в этом направлении (и на этом материале) обреченными на невыгодное сравнение в оценке результатов труда последователей. Создать нечто равнозначное по своим художественным характеристикам (да ещё и в схожих жанровых условиях), по всей вероятности, в ближайшее время не удастся никому. Задача многажды усложняется, если мировоззренческая позиция писателя, его идеалы духовного порядка (как в случае с Ю.Возенсенской) совпадает с позицией и идеалами английского автора сказочной эпопеи. Итак, Ю.Н.Вознесенская весьма осмотрительно лишь заходит на край территории, освоенной в полной мере К.С.Льюисом, и избегает опасного оценочного сравнения.
Другая причина, по которой автор дилогии отказывает себе в попытке живописать «последний катаклизм» (и её, вероятно, нельзя назвать главной) – это обилие визуальных образов, созданных кинематографом. Не будем здесь останавливаться на проблемах, связанных с этим видом искусства (в т.ч. – его колоссального влияния на формирование массового сознания и на литературу), но лишь отметим тенденцию: многие фильмы катастрофы (кстати, не обязательно заряженные негативным зарядом и обычно вызывающие симпатию к главным героям, «спасающим мир») – лишены духовного потенциала в христианском понимании этого слова. Как правило (и это полностью соответствует идеологической стратегии New Age), имеет место подмена духовных идеалов, определяющих систему ценностей христианина: или некими «универсальными общечеловеческими» (т.е. «обезбоженными») ценностями, или эклектическими религиозными моделями в традициях экуменизма. Ю.Вознесенская, будучи православным человеком, противопоставляет этой очевидной тенденции «подмены» своё, традиционное, видение темы. И одним проявлений этого полемического настроя «анти-антиутопии» (возможно, не совсем осознанного) является то, что автор дилогии переносит «центр тяжести» образа последних времён с фазы гибели на фазу спасения.
Третья причина (на которую также можно указать, но с большой оговоркой) отказа Ю.Вознесенской писать в полном объёме образ Конца Света связана с проблемами психологии творчества. В практике искусства наглядно проявляется одна очевидная тенденция, которую (с обязательным комментарием) можно было бы обозначить тезисом, выдвинутым Н.А.Бердяевым совершенно по другому поводу, в связи с иным предметом разговора: «/…/ не только человеческая плоть, но и человеческий дух имеет свой пол» (курсив мой – О.Щ.)[2, с. 16]. Эта мысль, вероятно, представляется весьма сомнительной с теологической точки зрения, о чём грамотно судить могут только профессиональные богословы. Но трудно не согласиться с тем, что тезис Н.Бердяева уместен при обсуждении выбранного им специфического материала, и (что ближе к нашей теме) – при освещении проблем, связанных с практикой художественного творчества. Говоря о дилогии Ю.Вознесенской, допустимо предположить, что автор – как женщина, мать, бабушка (причём имевшая опыт пребывания /за свои убеждения/ в местах заключения) – сознательно или подсознательно более тяготеет к освещению конфликта в его завершающей светлой стадии разрешения, а не в предшествующей фазе – «погружения во тьму». Инстинктивное же стремление женщины-человека (конечно, психически здоровой) к восстановлению, сохранению, а не к уничтожению и крушению, устанавливает здесь некий предел притязаниям женщины-художника – создающего образ Конца Света. Не следует, конечно, абсолютизировать значение этой психологической мотивации творчества, но и вовсе не принимать её в расчёт также нельзя.
Каковой бы ни была главная причина отказа Ю.Н.Вознесенской писать сцены окончательного крушения планеты, этот факт должно воспринимать как знаковый. Вплотную подведя читателя к закономерно ожидаемой гибели Земли, убедив его в близости и неизбежности этого страшного события, автор дилогии, ранее написавший несколько довольно страшных «антиутопических» пространственных образов, всё-таки не даёт нам (отличие от К.С.Льюиса) изображения «последнего катаклизма». История остановлена, и эта остановка, эта «недо-рассказанность» символична: в эвфемизме лишь ярче проявляется отнюдь не пессимистичное мирочувствие православного писателя, не сомневающегося в гибели антихриста, принимающего и гибель Мiра – как необходимое звено в цепи грандиозной «эвкатастрофы». На глазах героев и читателей происходят метаморфозы пространства: и в духовном, и в чисто эстетическом отношении. Завершающие дилогию Ю.Н.Вознесенской на последних страницах этюды (конечно, в гиперболе) наполнены Горним светом, оживляющим и освящающим всё пространство, отданное идущему за Христом «малому стаду верных» (и летящими (!) – детьми). Эти светлые и радостным образы по антитезе сменяют сцены падения Ново-Вавилонской башни: «/…/ Башня с чудовищным грохотом обрушилась. Над городом поднялось и встало огромное чёрное грибовидное облако. // И в тот же миг окончательно расцвело. Но над миром в это утро взошло не солнце – над Елеонской горой, куда бежали паломники, появился огромный сияющий Крест. // И тотчас буря и пожар стихли и наступила тишина. Небо очистилось, и в нём кое-где виднелись последние утренние звёзды. Крест вознёсся и остановился в небе, заливая светом вершину Елеонской горы с квадратной остроконечной колокольней и круглым куполом храма» [4, с. 736].
Затем появляется парадоксальный с точки зрения соотношений внешних размеров и внутреннего объема (как Хлев у К.Льюиса) символический образ – сияющего белого храма: «и было абсолютно непонятно, как в этом небольшом храме помещалось столько людей, и как это так получается, что идущего впереди всех Священника / Самого Христа – О.Щ./ они продолжали видеть, хотя за ним прошли уже, наверное, тысячи людей» [4, с. 760]. Всё видимое пространство – пространство святости – на последних страницах дилогии полностью заполненного идущими за Христом людьми – спасёнными, помолодевшими, исцелёнными, прошедшими через смерть и принятыми в прекрасную Вечность.
Теперь обратимся к весьма показательному и оригинальному примеру художественного освоения темы Конца Света в лиро-эпической миниатюре «Гибель антихриста» /кон. 1990-х-нач. 2000-е гг/ о. Андрея (Кононова).
Если б горы все на свете сколотить в одну гору, //А из ям, что роют дети, вырыть страшную дыру, // А из всех времен оставить утро, полное чудес, // А из всех детей составить дядьку ростом до небес!..
А из тех, кого покуда укрывает темнота, // Сотворить бы Худо-юдо без рогов и без хвоста…. // Вот бы в эту гору света изо всех могучих сил // Этот дядька до рассвета Худо-юдо закатил…// И свершил бы это чудо в это рано поутру, // Сбросив это Худо-юдо в эту страшную дыру…//
То-то славный был бы гром, то-то громкий был бы звон, // То-то праздник был потом! // То-то славный был бы гром, то-то громкий был бы звон, // То-то праздник был потом! (*Текст в печатном варианте найти не удалось, электронные версии содержат искажения – использована аудиозапись).
В этой песне (написанной под конкретного исполнителя – супруги поэта м. Людмилой Кононовой) автор, повествуя / пропевая / о событиях Последних времён – объективно ужасных – совершенно неожиданно выбирает игровую форму стилизации под детскую /или рассказанную детям/ «историю-страшилку». Откровенно наивный (утрированно упрощённый) взгляд на происходящее, сослагательное наклонение повествования о воображаемых действиях (начатого словами «Вот бы…»), нарочитая тавтология, подмена имени главного «героя» тотемным («Худо-юдо»), поминание прочей нечисти лишь в перифразе («тех, кого покуда укрывает темнота») автор (и исполнитель песни) программируют эвфемизированное восприятие этой «эпической» истории. По принципу антитезы воображаемая сцена гибели злодея вселенского масштаба (повторимся, рассказывается всё-таки о грандиозном и страшном событии) наполняется комическим пафосом. Имеет место пародийная (карикатурная) имитация «великого и ужасного» образа антигероя, которого «дядька ростом до небес» безо всякого почтения «зактывает» в «огромную дыру». Комический эффект усиливается манерой вокального исполнения и инструментальными средствами. По антитезе же соотносится образ пространства и сущность происходящего в нём действа. По сравнению с огромными пространственными величинами, в которых происходят вселенского масштаба события, страшная личностная сущность антихриста, характеристика его возможностей (отсутствие оных), преподносятся автором песни в литоте: уничтоженный герой «без рогов и без хвоста» обозначен, но не воспринимается как могущественное мировое зло, его ужасные деяния обойдены молчанием. Но гипербола объединяет образ пространства и сущности происходящих событий в заключительной воображаемой сцене – сцене всеобщего ликования по поводу уничтоженного врага, воплощающего мировое зло. Аналогичные мажорные сцены видим в развязке (эпилоге) в сказочных эпопеях Дж.Р.Р.Толкиена, К.С.Льюиса, дилогии Ю.Н.Вознесенской.
Автор песни программирует смягчённое восприятие катастрофы последних времён слушателями не только созданием комического эффекта, но и исключением из разговора последующих затем драматических событий – собственно Конца Света. Как и у Ю.Н.Вознесенской, история не доводится в песне «Гибель антихриста» до заключительной фазы – разрушения Мира; обрушения небес, гибели Земли (как это было с Нарнией К.С.Льюиса или в стихотворении Ф.И.Тютчева) в текстах песни и романа повествование не доходит. О. Андрей и м. Людмила, как и Ю.Н. Вознесенская, смещает центр разговора о последних временах с Конца Света на эпизод гибели антихриста.
(Учитывая тот факт, что песня была написана автором специально под конкретного исполнителя – собственную супругу, психологическая мотивация этого эвфемизма, на наш взгляд, того же порядка, что и в примере с романом «Паломничество Ланселота». Женщине, матери, жене православного священника «пропеть» победу над тьмой, «счастливый переворот», несомненно, интересней и приятней, чем погрузиться в образ гибели мироздания.)
Показательно, что в произведениях различных жанров, разных авторов появляется образ детей, для которых и открыто Царство Небесное, а завершаются истории «эвкатастрофой», образом Радости /Gloria/ – что, как помним, по мнению Дж. Р. Р. Толкиена, является просто необходимым и неотъемлемым признаком полноценной (во всех отношениях) волшебной истории. О собственно духовном наполнении развязки (и этой истории, и представленных выше) можно говорить не потому лишь, что она вызывает чувство удовлетворения от ощущения восстановленной справедливости и достоверности пережитой истории, но потому, что в ней появляется нечто более возвышенное – далёкий отблеск, или эхо благой вести в реальном мире («а far-off glim or echo of evangelium in the real world»).
Сделанные наблюдения позволяют нам сделать вполне определённый индуктивный вывод. Образ Конца Света не может восприниматься нейтрально с духовной точки зрения: мирочувствие любого автора, его духовные идеалы /или их отсутствие/ воплощается в пространственном образе Конца Света даже тогда, когда в тексте произведения нет прямого указания на присутствие /действие/ Бога или дьявола, на святость и грех. Пространственные образы, будучи отражением «материального мира», наиболее наглядно (зрительно ощутимо) воплощают эту общую тенденцию.
Примечания1. Статья представляет собой параграф более развёрнутого исследования («Пространство святости и греха»), его адаптированную под тематику конференции версию. Вынесем за пределы обсуждения обширный и разнообразный иллюстративный материал из литератур (и фольклора) разных эпох (русской и зарубежной), ограничимся лишь ссылками на некоторые показательные в ракурсе интересующей нас проблемы примеры.
2. Используем термин кн. Е.Н. Трубецкого – см. его работу «Три очерка о русской иконе». (Правильнее было бы писать в русской орфографии: «мiрочувствие», как и «мiръ», через «и десятеричное», как «свѣтъ» – через «ять»).
3. Привлечение художественных произведений Ю.Н.Вознесенской, о. Андрея и м. Людмилы (Кононовых) связан и с тем, что их творчество уже заняло прочное место в достаточно широкой аудитории (в том числе – юношеской), но пока не нашло адекватного этому устойчивому вниманию читателей /слушателей / научного и критического освещения. Попытаемся хотя бы отчасти восполнить существующий пробел.



