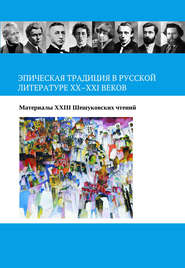 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
В рассказе «Гражданин убегающий» (1978) сталкиваются три главных героя прозы писателя – личность, общество, природа. Герой рассказа Павел Костюков – строитель, взрывник, «пробник», осваивающий просторы Сибири, первопроходец – стал разрушителем. Это – человек «убегающий», «убегающий» от женщин, сыновей, от сотрясаемой взрывами земли, от деревьев, взлетающих в воздух, подброшенных взрывной волной, ставший «перекати-полем». В рассказе проявляются характерные черты стиля писателя, присущая его прозе яркая метафоричность. Через стиль проявляется и авторское отношение к изображаемому. Роль оксюморона в названии произведений – «Гражданин убегающий», как и в названиях «Антилидер», «Человек свиты», – актуализирует нравственные поиски. Вот емкая картина урбанистической цивилизации, привносимой в мир «убегающими разрушителями»: «Павел Алексеевич был в основной группе, с взрывниками… (…) нервы стали сдавать: он не мог видеть, как взлетает елка – небольшая, молоденькая, подброшенная взрывной волной».
В. С. Маканин выступает как мастер «говорящего» портрета. Портрет героя свидетельствует об «убывании» человека, его деградации. Самая частотная лексика в устах «убегающего» Костюкова – «Что ж, давай сматываться», «Убегать веселее». Примечателен ответ Костюкова на вопрос вертолетчика, перевозящего его на новое место, о фамилии: «Фамилия? Запиши: восемьдесят килограммов мяса». Из уст вертолетчика прозвучит фраза, определяющая стиль поведения «разрушителей»: «Смущенный вертолетчик позвал: «Гражданин убегающий».
В литературе о Маканине образ Костюкова будут сравнивать с образами Сизифа и Мидаса из одной из легенд о фригийском царе [2. с. 229]. Герой Маканина, как и герои в античном мифе, осознает оставляемый им разрушающий след. Явной «подсветкой» основных мыслей повести являются слова «умницы», «читавшей книжки»: «В минуту слабости, что ли, Павел Алексеевич рассказал ей как-то о сыновьях, она сначала посмеялась, потом, чуткая, вовремя посерьезнела: «Они тебя преследуют, как в греческой трагедии!» [4. С. 43, 44] Не случайна гибель героя, покинутого сыновьями, в финале повести.
Гуманные мысли рассказа отталкиваются от философии В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере: «В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление» [1, с. 503].
Ставя вопрос об этичности науки, разрыве цивилизации и культуры, Маканин развертывает философему А. Платонова из повести «Эфирный тракт» (1926-1927): «Если ученье со смыслом, да с добросердечностью сложить, то и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые нивы песком закидает» [8, с.192].
Проза Маканина отличается постановкой экзистенциальных вопросов, присущим писателю масштабом обобщений, чувствительностью к кризису, обращением к совести человека. Единство осмысления общественных и личностных процессов – «социальное человековедение» (И.Роднянская) позволяет создать образ человека в стремительно меняющейся действительности.
Центральной метафорой отчуждения личности в прозе Маканина становится выражение «самотечность жизни». Это выражение впервые появится в «Повести о старом поселке» (1974): «Самотечность жизни – это хаотическая логика повседневности, когда человек уже не контролирует свою жизнь, а превращается в щепку в безличном потоке бытовых сцеплений, зависимости..». О таком духовном перекосе идет речь в рассказе «Человек свиты» (1982). Ценой компромисса держится за место в деловой «свите» мелкий служащий, честолюбивый, обидчивый Митя Родионцев. Маканина волнует процесс духовной жизни героя;
зрение, внимательное одновременно и к человеческой социальности, и к «духовному зерну» создает «гуманное место» (И.Роднянская) в рассказе. Авторская мысль о «свободе от свиты» вложена в уста «светлой ликом женщины», встреченной Родионовым на «пустынной улочке», которой он исповедуется. «М-меня л-любили, а теперь н-не любят», – признается он заплетающим языком. «Ну и прекрасно, – говорит женщина – Теперь вы сами по себе. Свободны». «Родионцев улыбается: Свободен от свиты – это же замечательная мысль! Свободен» [4. с. 216].
Безопорность человека, потеря им чувства радости бытия, способность его на конформизм, компромисс с совестью тревожат писателя и в повести «Отдушина» (1977) Герои произведения живут в городе, но усредненный, беспочвенный человек, живущий как бы в невесомости, «перекати-поле» без стойких нравственных ориентиров выступает и здесь на первый план. Уже заглавие повести – «Отдушина» – несет большую семантическую нагрузку, через него проходит жест отшатывания («то, что дает исход чему-нибудь(чувствам, настроениям) – Ожегов С.И и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка») жизненная гонка и «отдушина» в гонке, «в текучем социальном субстрате», в жизненных коллизиях, в крутящейся карусели. И герои «Отдушины» – это образы-эмблемы, люди, фальшиво проявляющие себя или вовсе не проявляющие.
В основе повествования «Отдушины» – жизнь одинокой («Мужа у нее нет. Детей нет. Есть квартира») тридцатилетней поэтессы Алевтины Нестеровой, боготворимого студентами математика Стрепетова, «выбившегося на уровень вуза» и «загнанного, обычного человека» Михайлова, инженера, работающего мебельщиком, выполняющего «доходные заказы потребителей», «изворачивающегося между семьей и любовью». Этот классический треугольник образовался в поисках «отдушины» в гонке. Ирония в тексте многопланова, она соединяется и с лиричностью, передает она и тоску, и боль личности, «раздавленной» в жизненной гонке, духовный дискомфорт «усредненной» личности: Неудовлетворенность – обычное состояние и Стрепетова, вечно издерганного, насмехающегося над студентами, «убегающего» от истинных смыслов и ценностей: « Стрепетов дорожит домом, очень даже дорожит, но возвращаться туда не торопится (…) промежуток меж рабочим днем и домом он старается использовать так, чтобы хорошенько расслабиться… Этот-то временной промежуток он и называет отдушиной». Цепкостью и расчетливостью, которые бы обеспечили ей выживаемость любой ценой, отличается и Алевтина. Алевтина чувствует постоянную тоску («душа ныла») и колебания – «блистательный и красивый, и несколько скучающий математик Юрий Стрепетов» или Михайлов, постоянно поговаривающий о семье («Любовь бывает часто, а семья редко») [4. с. 102–103]. В сознании Алевтины выживаемость выступает на первый план. «Надо решать», – говорит она себе. Оба мужчины – и заморенный левой работой добытчик Михайлов и эстетствующий Дон-Жуан Стрепетов будут «высиживать» вечера у Алевтины, «пересиживать» друг друга, пока «высиживание» не завершится экстраординарной ситуацией – «сговором», обменом Михайловым любовницы на ценную для «основного» семейств», для сыновей возможность поступления в университет. Суть «сговора» расшифровывается через емкий диалог: « – Я хотел бы, чтобы с сыном моим занимался ты сам, – ты, Юрий, это понял? -Конечно. – И чтобы как надо подготовил его в университет (…) Ты, стало быть, уходишь от Алевтины? – Михайлов говорит: -Ухожу» [4. с. 134, 135].
В замечательной статье о феномене В.Маканина с точки зрения классической русской традиции критик И.Роднянская отметит: «Только полностью игнорируя въедливую «микросоциальную» приметливость Маканина, можно вообразить, что он пишет про болезнь, смерть, удачу, невезенье, измены и обмны затем, чтобы в порядке мещанского варианта мировой скорби внушить представление об извечной неприглядности бытия: жизнь, дескать, грязная и мутная река. Нет, пишет он не метафизическую формулу, а человека, меняющегося от поколения к поколению в текучем социальном субстрате. И не все перемены ему нравятся. А меньше всего нравится сама податливость, безопорность человеческого материала» [11, с. 236].
В прозе Маканина выстраивается концепция человека демиурга, созидателя, способного к «самоосуществлению», «смыслоосуществлению» (Франкл Виктор, 1905-1997. Человек в поисках смысла. / В.Франкл М.: Прогресс, 1990, 368 с.). Маканинский «усредненный человек» несводим к усредненному человеческому типу, малоинтересному для художественного сознания, он обнаруживает черты индивидуальной выразительности. Такими предстают герои рассказов «Ключарев и Алимушкин», «Река с быстрым течением», «Голубое и красное» и др.
Герой рассказа «Голубое и красное» – типичный герой маканинских произведений, человек среднего слоя общества из «поселкового барака» Действие происходит в маленькой уральской деревне, куда в голодное послевоенное время приезжает к бабушке девятилетний Ключарев. В основе повествования лежит образ сознания героя-повествователя, он же обеспечивает композиционное и стилистическое единство произведения. Образы бабушек мальчика – и простой деревенской старухи Матрены («в яркой алой косынке»; «красная бабка») и бабки Натальи («дворянка, из бывших»; «голубая бабка»; «с прямой спиной») являют резкий контраст с обезличенными жителями поселкового барака. Старушки не любят друг друга, ведут глухую, «яростную борьбу» за любимого внука. Яркий эпизод из жизни мальчика в деревне, который он будет осмысливать в дальнейшем, и который станет толчком к раздвижению рамок его сознания, это данный через воспоминания героя-рассказчика фрагмент ночной прополки огорода городской бабушкой и ее подругой Мари – потрудиться и заслужить еду, хлеба с картошкой: «В вот в лунную ночь две голодные старухи вышли в огород, подрагивая от холодка, и принялись среди ночи обдергивать грядки. Согнувшиеся, они двигались полшажок за полшажком, медленно, поначалу не столько изымая сорняки, сколько – разглядывая. Согбенные, они смещались по грядке медленно, как старые черепашки. (…) Закончивши шесть грядок они разом иссякли – сели на землю и не вставали, Было слышно, как они дышат. А через минуту они встали и припустили бегом, ибо с желанием поесть, больше бороться не могли» [4. с. 277, 281, 282]. «Лишь с возрастом», он осознает многое. «Ослабевшие, они впихивали в него кусок за куском, не замечая, что обращаются с ним, будто ему годика три (… ), он тем более мог видеть, что старухи сидели около него глотая слюну» [4. с. 277].
Приобщение читателя к изображаемой картине все новых «углов» и лабиринтов социальной вселенной, тревожная «интуиция транзита» характерны для повести «Лаз», цикла рассказов «Сюр в пролетарском районе». Эти произведения можно рассматривать как повести- предупреждения. Повесть «Лаз» (1991) явилась откликом писателя на катастрофические сдвиги в русской жизни на рубеже 80-90-х годов, в ней дана одна из версий человеческой судьбы в условиях духовной апатии, превращения человека в «биологическую массу». В современном литературоведении эта повесть Маканина рассматривается как «художественный код времени», как «не отдельная вещица, (…) а заключительная глава огромного пунктирного эпического романа-хроники, объявшего необъятное быстрое течение русского полувека от дней войны до дней свободы» [7. с. 238]. В повести автор использует условные формы изображения, создает условную, экспериментальную обстановку – две симметричные вселенные, соединенные лишь узким проходом, лазом, (несущим явную метафорическую функцию), секрет которого знает лишь герой – сорокасемилетний «книгочей», интеллигент в «лыжной шапочке». B повести Маканин прибегает к насыщенной символике, интертексту, метафорическим иносказаниям [См.: подробно о языке и символике повести: 12, с. 34-41]. В верхнем мире правит толпа, она подчинена слепому инстинкту, символизирует апокалиптического зверя, внушает страх. Толпа творит произвол, загоняет отдельного человека в стадо («Толпа затоптала парнишку»). Улицы не освещены («вымершие»). Слышен плач ребенка. Смертельная опасность угрожает каждому, кто не с толпой, кто выделяется из массы. Герой повести Ключарев (говорящая фамилия) с риском для жизни сможет вместе с женой Олей похоронить друга Павлова. Обобщающим символом насилия над человеком становится «активный вор, сидящий верхом не жертве и роющийся в ее карманах». В описании жизни наверху господствуют мрачные тона – холод, темень, кончается вода. Люди в страхе; символом зыбкости мира становится мотив «ковчега», строительство интеллектуалами «пещер» под землей» (Ориентация на архетип Апокалипсиса, строительство Ноева Ковчега и Вавилонской башни («Бытие». Гл. 6, 7).
Вторая данность – нижний мир, где много света, пищи, но «маловато кислорода». Здесь тоже невозможно жить; герой с трудом через постоянно суживающийся лаз («Как стиснулась горловина лаза»), проникает сюда, «повторяя тактику переползающих препятствие червей», томимый духовной жаждой, чтобы пообщаться с товарищами по духу, взывающими, подобно лирическому герою А.Блока («Дай нам руку в непогоду!»), к культуре. В текст повести вкрапливаются реминисценции из Ф.М. Достоевского, парафраз Библии, отсылки к произведениям русских писателей 19, 20 века.: «Возобновляется их разговор (о Достоевском, о нежелании счастья, основанного на несчастье других..), и душа Ключарева прикипает к их высоким словам. Они говорят. Сферы духа привычно смыкаются над столиком (…) Ключарев слышит присутствие Слова. (…) Высокие их слова неточны и звучат не убеждая, но с надеждой, что даже приблизительность искренних слов раскроет душу (лаз в нашей душе )». На новом витке русской литературы Маканин актуализирует размышления Андрея Платонова из «Записных книжек»: «Москва – то счастливая душа, то несчастная, то яркая, то печальная, но везде, в каждом человеке есть свой греющий очажок, иначе он, человек, не прожил бы и минуты» [9, с. 121], актуализирует максиму писателя; «Все возможно, и удается все, но главное – сеять души в людях».(выделено нами – В.С.) [10, с. 550].
Маканин создает в повести множество бытовых подробностей, создающих в конкретном единстве образ времени. Это время безжалостно, но отдельные люди, несмотря ни на что, стараются вести себя в соответствии с нормами морали, традиций, нравственности: купают ребенка, хоронят умершего, ищут общения с другими людьми, ищут пути к другому человеку. Герой ищет возможность пробиться к человеческому сознанию, ищет слова, которые разделят толпу на людей, но толпа произносит лишь нечленораздельные звуки: «Звуки, сливающиеся в единый скрежет и шорох: толпа». Тема сознания в повести является доминирующей. Маканинский герой неустанно пытается «пробиться к истине человеческого сознания» (фраза А.Платонова). Символично и то, что сын Ключарева – четырнадцатилетний Дениска, горячо любимый отцом и матерью, сильный физически – отстает в умственном развитии («Они моют сына… Он боится воды»). Мальчик с умственным отставанием от сверстников – важный знак, перебрасывающий мысли к сквозной теме русской литературы ХХ века, к теме сознания, к рассказу Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского», в котором сын священника – «безумный идиот» – олицетворяет драму сознания, не оплодотворенного мыслью. Повесть «Лаз», как и повести «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», «Долог наш путь» (1991), как и «Пирамида» (1994) Леонида Леонова, обладает жанровыми признаками антиутопии. Это – повесть-предупреждение об опасности. Конфликт в «Лазе» возникает там, где герой восстает против власти «толпы», олицетворяющей тотальный контроль над личностью. В творческом порыве Ключарев тщетно ищет слова, которые разделят толпу на людей.
Финал повести – открытый, обнадеживающий. Герой отвергает страшный сон как «недоверие к разуму». Во сне Ключарев, уснувший прямо на улице, шлет информацию через суживающийся лаз о том, что наступает темнота, просит свечи. Библейский образ свечи актуализирует духовные истины (От Матф., Гл.5, п.14,15). Но вместо свеч – «ответа душе» – Ключареву через лаз пересылают «палочки для слепых» («Когда наступит полная тьма, идти и идти, обстукивая палкой тротуары»). «Мотив слепых воспроизведен и в «Лазе» Мотив слепых, мотив «окликания», «беззвучия» и «голосов», появившиеся в повести «Утрата» – важные смыслообразующие в мелодике прозы Маканина [3, с. 558]. «В ритмизованном художественном поле произведений Маканина есть высота и глубина мирового пространства: лейтмотивы – небо, звезды, вода, земля, свет, мрак. Это все пространство работает в едином ритме с миром космоса. Все, что разрушает гармонию, ломает ритм, создает диссонансы, становится объектом эстетического наблюдения писателя…. Диссонансы занимают писателя как строительные элементы хаоса, распада, дисгармонии в мире антиутопий» [3, с. 556, 557].
Герой «Лаза» хочет быть услышанным, понятым, он отвергает вторую версию, вынесенную в проблематике повести. Человек – не «существо, которое дергается туда-сюда в своих поисках» потому только, что не вполне нашло свою «биологическую нишу». Сон в оценке Ключарева, когда он проснется, «ужасный и несправедливый в своем недоверии к разуму». Обобщенным символом утверждения человеческого в человеке является встреча Ключарева с «Добрым человеком в сумерках». («Он и разбудил Ключарева, этот прохожий. Средних лет, с довольно длинными волосами, свободно падающими почти до плеч».
Многозначен диалог Доброго человека с Ключаревым: «– Вставайте, – повторяет он так же утвердительно, со спокойной и терпеливой улыбкой. Ключарев встает. – Да, – говорит он, потягиваясь. – Как стемнело. – Но еще не ночь, – говорит тот человек, опять же с мягкой улыбкой…». Облик «Доброго человека» напоминает облик Иисуса Христа, «белое домино», каким он предстает на страницах романа А.Белого «Петербург» (выделено нами- в.с.).
В романе «Две сестры и Кандинский» (2011) соблюдены все формальные особенности пьесы – единство места (в андеграудном полуподвале дома, в художественной студии сорокалетней красавицы Ольги с картинами Кандинского, и в соседнем со студией кафе. Во внешне похожем на пьесу повествовании осмысливается больная для русской литературы тема – феномен доносительства, стукачества, – пришедшая от М.Горького (рассказ «Карамора», незавершенный роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина), и также от повести Г.Владимова «Верный Руслан». «Две сестры и Кандинский» – открытая рифма к «Трем сестрам» А.П.Чехова, только действие происходит не в Перми, как в чеховской пьесе, а в Москве, и сестры Ольга и Инна не дочери генерала, а дочери диссидента-шестидесятника, умершего после освобождения из лагеря, младшая из сестер Инна, слегка «томящаяся натура», с «вузом за плечами» и «востребованный компьютерщик», в отличие от чеховских сестер все время кличет «Хочу в Питер». Действие в маканинском романе вставлено в чеховскую раму – в пьесу «Три сестры» (1900), но у А.П.Чехова темы стукачества нет в пьесе. Явно усматриваются в маканинском романе отсылки и к «Братьям Карамазовым» (1879-1880) Ф.М.Достоевского. Вечные библейские вопросы, поставленные автором «Братьев Карамазовых», и чеховская тональность помогают оценить пограничную тему и разнобой нравственных полутонов в маканинском романе. Действие в романе происходит на грани 90-х в галерее, носящей имя еще вчера полузапретного Кандинского. Большую часть текста в романе Маканина составляют диалоги, разговоры – в помещении или по телефону. Как и чеховские героини Ирина, Маша, Оля, сестры маканинского романа ведут разговоры о счастье, о замужестве, об искусстве, о возвышенном. Для сестер романа Маканина: «Счастье – это как редкое блюдо!». «Я и впрямь влюблена без меры… Я могла бы слушать его хрипотцу до бесконечности» [6, c. 16] – внутренний монолог Оли, оберегающей сон любимого Артема Константы, живущей им и картинами Кандинского. Повторяющийся монолог Оли: «Кандинский – это моя жизнь. Это мое все. Кандинский – вот где философия» [6, с. 17]. Сестры Тульцевы – Ольга (старшая) и Инна (младшая), – дочери диссидента-шестидесятника, уже умершего, но отсидевшего свой срок по доносу – постоянные действующие лица, проходящие через все повествование. Как выявляется из диалогов, телефонных разговоров судьбы всех героев романа, в том числе и подростка Коли, связаны с доносительством. Роман поднимает множество проблем: и вопросы образования, нравственного компромисса, и духовной любви и секса, и проблемы интеллигенции, и расплодившихся частных школ, и молодого поколения, приспосабливающегося к падению нравственных устоев и ищущего свою «нишу». В этом плане представляет интерес авторское видение проблемы и образ Коли Угрюмцева, бесприютного, всегда голодного, «как блоха, прыгающего из школы в школу», устраивающегося в нее своими ловкими путями, показывая припасенный на случай «пейзажик», подобранный где-то на помойке, который выдавал за свой … И мальца принимали в школу.. [6. C. 36]. Одна из школ, где учился Коля, и сыграет роковую роль в судьбе будущего политика, претендующего на депутатское место. Это школа КГБ с майором Семибратовым во главе. Именно Коля, которого по-чеховски пожалел Артем, донесет на Артема, расскажет о доносе-“объяснении, ”который сам Артем принес в КГБ: «– Я Артем К-к-константинович, и в-ваше донесение помню…» [6, с . 91].
Последний роман В.С.Маканина мы оцениваем также как роман-предупреждение от «компрачикосов» в воспитании «кастрированных граждан» (фраза Максимилиана Волошина из поэмы «Государство» 1922 года). Коля помнит уроки майора КГБ: «Майор Семибратов нам лекцию ч-читал. Майор все з-знает… Из ГБ, из этих куч, человеку уже ничего не забрать. Не переиначить. Это на века(… )Это в ГБ рукописи не горят» [6, с. 129, 130]. В финале автор в уста Артема Константы вложит констатирующую константу: «Самодонос болезнь нашей интеллигенции. Самодонос не прекращается. Когда устраиваются на работу. Когда пишут письма…А самое интересное, что и днем и ночью наш интеллигент оправдывает и себя – и своего мысленного следователя, который с нами хорош… Который добр…Который нас поймет…» [6, с. 293, 294].
Отметим своеобразие языка писателя с писателя с психологически убедительными тропами, меткими сравнениями, создающими зримую, художественно достоверную картину, как, например, описание выставки подпольных художников, которых пожарники поливают из шлангов.
Оценивая вклад Маканина в современную литературу, профессор С.И.Тимина отметит влияние его прозы на формирование принципиально значимых особенностей литературной эволюции: «В.Маканин не оказывается в плену формальной новизны как таковой. Интертекстуальность, мотивность и другие главные «герои» постмодернизма в поэтике Маканина всего лишь опорные точки, осуществляющие ритм движения внутри глобального метафорического пространства» [13, с. 250].
Подводя итоги, отметим: Поэтика В.С.Маканина направлена на символику предупреждения. Она не порывает с конкретным измерением человеческой судьбы в поисках смыла жизни, ответственности личности за свой выбор. Она является жизнеутверждающей.
Литература:1. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.
2. Генис А. Прикосновение Мидаса: Владимир Маканин. //Звезда, 1997, №4. – С. 228–230.
3. Дмитриченко Е.В. Ритм прозы Маканина // Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой работы / Под ред. С.И.Тиминой – М., 2002. – 586 с.
4. Маканин В.С. Избранное. – 1987. – 544 с. (Ссылка на отдельные рассказы будет дана по этому изданию с указанием названия.
5. Маканин В.С. Отставший// В.С.Маканин. Долог наш путь. Повести. – М., 1995.
6. Маканин В.С. Две сестры и Кандинский / Владимир Маканин. – М.: Эксмо, 2011. – 319 с.
7. Марченко А. М. Гексагональная решетка для мистера Букера // Новый мир. 1993, №9. – С. 230 – 238.
8. Платонов А.П. Эфирный тракт // А.П.Платонов. Собрание сочинений в трех томах. 1921- 1934 / Сост., вступ. Ст. и примеч. В.А. Чалмаева. – М.: Сов. Россия, 1984- 464 с., 1л. Портр.
9. Платонов А.П. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ. Материалы к биографии. Публикация М.А. Платоновой. Составление, подготовка текста, предисловие и примечания Н.В.Корниенко. 2-е издание. – М..: ИМЛИ РАН, 2006. – 424 с. ISBN 5-0208-0002-X.;
10. Платонов А.П. Из Писем и Записных книжек. «Труд есть совесть» Из Записных книжек разных лет. 1941-1950. // Платонов. Собр. соч: В 3-х т. Т.3. Рассказы 1941-1951; Драматические произведения; волшебное кольцо; Сказки; Из ранних сочинений; Из писем и записных книжек / Сост. и примеч. В.А.Чалмаева. – М: Сов.Россия, 1985. 576 с.; – С. 550.
11. Роднянская М. Незнакомые знакомцы. К спорам о героях Владимира Маканина // Новый мир, 1986, №8. С. 230 -247.



