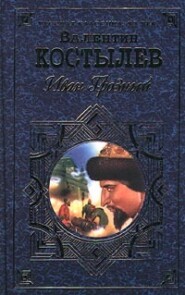скачать книгу бесплатно
Иван Васильевич объявил приставам и посольским дьякам, чтобы литовские послы и их люди дорогою ни с кем посторонним ничего не говорили и к ним бы тоже никто не подходил. Если же будет замечено, что к ним кто-то хочет подойти и завести с ними разговор, тех людей хватать для сыска, сдавать Малюте Скуратову.
Корм и иное довольствие послам, их людям и коням приказано давать щедро, без скупости.
В пояс кланялись пристава и дьяки, слушая слова государя.
Иван Васильевич подозвал к себе пристава Григория Нагого, наказал ему торжественно встретить послов при въезде их в Дорогомилово.
Царь учил приставов и дьяков, как им держаться с послами при встречах и повседневно, что говорить, как спрашивать о здоровье короля, о здоровье самих послов, в какие подворья поместить польских гостей, кого с кем, какую охрану поставить. И еще и еще раз Иван Васильевич повторил, чтоб «с пословыми людьми на улицах и на подворьях не говорил никто: следить за тем накрепко», а потому пословым людям поить коней своих из колодцев около подворьев, а на реку коней не водить. Сказать им, что «колодезная вода лучше речной».
И вообще чтобы посольские люди от своих подворий не удалялись, среди многолюдства не шатались бы.
На дорогах, по которым проезжали послы, было, однако, не так уж безлюдно, как думали пристава и стрельцы.
Правда, тихо, недвижно стояли высокие, в белоснежных космах, прямехонькие сосны, ели и кустарники, украшенные жемчугом льдинок. В голову не могло никому прийти, что за кустарниками и деревьями прячутся люди: выжидают удобного случая приблизиться к польско-литовским послам, обменяться с ними хотя бы несколькими словами, узнать, как там, в Литве, живется отъехавшим московским приказным, – честит ли их король, жалует ли их казною и землями и нет ли тайных пересылок из Польши от тех служилых людей к боярам и дворянам московским.
На дорогу, около Можайска, выскочили из леса четверо, подкрались к важному, усатому заиндевелому пану, ехавшему в возке, прицепились с расспросами, а тот не понял, в чем дело, да и навел на них пистолет. Думал: разбойники!
А какие же это разбойники?! Обыкновенные дьяки: двое Колыметов, Кайсаров да Нефедов. Любопытство мучило, покоя людям не давало: как, мол, там живут перебежчики-то в Польше?! Нет ли каких пересылок?
Слух о приезде в Москву польско-литовского посольства нарушил душевный покой не у одних этих дьяков, но и у князей и бояр и у всякого иного звания служилых людей. Кто повыше, познатнее, того мучила мысль: выдаст король или нет отъехавших от царя в Литву московских князей и бояр? Спаси Бог, если выдаст! Тогда Ивану Васильевичу станет известно многое, чего он и знать не должен. А коли узнает, не сносить тогда головы кое-кому из ближних бояр. Эти мысли нагоняли уныние, заставляли задумываться о судьбе семей, делать тайные распоряжения домашним на случай, «если»... Кто помельче, раскидывал умом, какие выгоды могут быть от измены. Что может она сулить малому чину? Колыметы, Кайсаров, Нефедов и другие, им подобные, дьяческого и подьяческого чина, из кожи лезли, горя желанием узнать обо всем этом поподробнее... Им очень хотелось, чтобы между царем и польским королем никакого мира не было, но чтобы раздор между Москвою и Польшею продолжался. Они рассуждали: «Пускай Польша и Литва побьют царские войска. Пускай они отнимут у царя Ливонию. Сигизмунд Август не признает его царем, и не надо! Бог с ним! Пускай остается „великим князем“. Кому нужен его царский титул? Честолюбец! Хорошо, что хоть нашлась сила, которая может унизить его. В Московском государстве ползают перед ним на коленях, превозносят его до небес, а в Литве смеются над ним. Так и надо! Хоть бы краем уха послушать, как его там честят! Кажись, все бы отдал за это».
Злые, полные ненависти к царю, мысли и чувства одолевали этих людей. Особенно тех, кто возвысился при Сильвестре и Адашеве и унизился после них и кого тайно и явно поддерживал двоюродный брат царя, князь Владимир Андреевич Старицкий. Недобрые мысли роились и в головах людей, обиженных службою, местническими счетами.
Так и не удалось в лесу Колыметам, Кайсарову и Нефедову пристроиться к посольским людям и поговорить с ними. Пристава бдительно выполняли царский наказ. До самой Москвы ползали дьяки по сугробам, хоронились за кустарниками, четырех коней попусту уходили в гоньбе за послами в объезд.
А в Доромилове уже поздно!..
Нагой да еще четверо царских приставов, а с ними Василий и Григорий Грязные, обскакали все кругом, вплотную оцепили стрелецкою стражею посольских обоз. Заяц – и тот не проскочил бы.
Неудачливые четыре дьяка видели, как послы выходили из саней и слышали речь к ним Нагого:
– Божией милостью, великий государь, царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич велел вам поклониться и велел вас о здоровье спросить: здоровы ли дорогою ехали? Великий государь и великий князь всея Руси Иван Васильевич велел нам у вас быть и подворье указать!
Каждое слово было на счету у Нагого. Произнес эту речь, а дальше будто воды в рот набрал. Молча, деловито повел послов на подворья, не ожидая ответа их на свое приветствие.
– Погожий ясный день шестого декабря обрадовал пристава Григория Нагого. Москва показалась ему краше яблочка наливного. Пускай полюбуются польские гости русскою столицей!
Красное лучистое солнце покрыло густым румянцем Кремль; просветлели самые глухие проулки между узорчатыми хоромами дворцов и храмами, оживляя глянцевые следы полозьев на крепком белоснежном насте. Купола и кресты церквей горели алым цветом, словно приветствуя наступление высокознаменательного дня переговоров о мире. Война утомила народ. Все радовались приезду польских послов.
Нагой с приставом Олферьевым готовили им пышную встречу.
Оба они удостоились великой чести находиться при послах и обо всем докладывать лично самому государю. Они всегда думали, что для верного царского слуги добрая слава дороже богатства, ибо хорошую, заслуженную славу ничто не поколеблет. Несмотря на морозный день, у обоих приставов исподние рубахи были мокры от пота – хлопот не оберешься, а главное – глаза да глаза! Лиходеи не спят, чуть зазевался – что-нибудь и предадут литовским людям, а тех ведь вон сколько! Говорили – триста шестьдесят, а прибыло триста девяносто четыре, да, кроме того, немалое число купцов и мещан; другой и гроша не стоит, а глядит рублем. И за всеми ухаживай, всех оберегай, всех ублажай. Царев приказ. Чужого-де не хай, своего не хвали. Кто больше царя-то должен ненавидеть Сигизмунда? Но все знают, как скрытен, непроницаем царь. Государь ни одним словом не выдаст себя, даже перед своими людьми. Желает доброго мира с Польшею и Литвою, вот и все!
Пристава держат ухо востро, ухаживая за польскими людьми, следя за каждым своим словом, ибо «от искры пожар бывает». Да не только польских, но и своих приказных людей и кремлевских обывателей не лишне было остерегаться. Лезут, болтуны, с расспросами: кто и што? А какое им дело? Ради чего спрос? Царский слуга Григорий Лукьяныч Малюта Скуратов велел записывать выспрашивателей, беречься их болтливости – дело государево! Иной боярин либо дьяк смирен-смирен, а палец в рот не клади. Так уж, видно, Богом положено: дружи, да камень за пазухой держи, чтобы впросак не попасть, особенно после того, как неверные царские слуги утекать за рубеж стали.
Пристав Нагой попросил Василия Грязного пошире расчистить от народа площадь перед дворцом и церковью Михаила Архангела. Конные и пешие стрельцы в новеньких красных теплых охабнях с секирами в руках начали теснить кремлевских обывателей, не обращая внимания на их ропот и ругань, сам Грязной так и напирает конем на людей.
Но вот наступила тишина.
Послышался отдаленный топот множества конских копыт. То послы со своею свитою двинулись к царскому дворцу.
Впереди всех на громадных, стройных аргамаках, в золотой сбруе, гарцевали одетые в нарядные теплые кафтаны, с позументом и меховой опушкой, царские пристава Нагой и Олферьев, грозным взглядом окидывая толпу кремлевских зевак.
За ними в один ряд стройно следовали королевские послы: Юрий Хоткевич, Григорий Волович и Михаил Гарабурда. У всех одинаковые белые кони, обряженные в богатую сбрую. Красиво развевались на конских головах султаны из разноцветных перьев.
Хоткевич, ловко сидевший в седле осанистый пан, с улыбкой кланялся направо и налево толпе жителей. Все три посла были одеты в серые венгерки с черными поперечными шнурами на груди. Через одно плечо наискось ниспадали опушенные белым мехом накидки из малинового бархата. Большие серебряные шпоры блестели на каблуках. Оружия при послах не было.
Вслед за послами, немного поодаль, нестройною толпою двигались верхами посольские люди всех возрастов и званий, одетые пестро, богато...
Иван Васильевич, окруженный ближними боярами, дожидался послов на троне в Брусяной избе[5 - Брусяной дворец.].
Навстречу послам вышли ясельничий[6 - Управляющий Конюшенным приказом.] Петр Зайцев, строгий, богатырского сложения седовласый старец; глава Посольского приказа и «печатник»[7 - Хранитель государственной печати.], грузный волосатый толстяк Иван Михайлович Висковатый да дьяк Посольского приказа Яков Григорьев. В сопровождении их послы, почтительно склонив головы, вошли в Брусяную избу, а за ними последовали и королевские дворяне.
К трону подвел их обладатель самого почетного придворного звания – окольничьего – высокий, статный, Афанасий Андреевич Бутурлин.
Низко поклонились послы царю.
Юрий Хоткевич громким голосом в глубокой тишине прокричал государю поклон короля Сигизмунда Августа.
Царь неторопливо приподнялся, держа в одной руке скипетр, в другой – державу, как-то сразу вытянулся во весь свой громадный рост и замер на месте, сверкнув широко раскрытыми глазами.
– Брат мой Жигимонд Август здоров ли? – спросил он, глядя сверху вниз на послов.
Хоткевич ответил по-русски:
– Божиею милостью, мы поехали от своего государя, а он был здоров.
Иван Васильевич приветливо кивнул головой, допустив послов к своей руке. Послы подали ему королевскую грамоту. Царь тут же передал ее своему самому приближенному дьяку Андрею Васильеву.
Хоткевич, Волович и Гарабурда по очереди доложили царю то, о чем им было наказано их королем. Иван Васильевич, внимательно выслушав, спросил, все ли они сказали. Тогда Хоткевич подал царю письменный посольский доклад. Не читая, царь передал и его тому же дьяку Васильеву, стоявшему около трона.
Послов усадили на приготовленные для них места.
Один из дьяков принялся громко выкрикивать по списку имена посольских дворян, удостоенных лобызания царской руки.
Когда церемония окончилась, царь сказал:
– Юрий, Григорий, Михайла, будьте при нас, у стола!
Послы встали и низко поклонились.
Дьяк прокричал имена польско-литовских дворян, приглашенных к царскому столу.
Обед состоялся в Набережной избе, в простой обстановке.
Во время трапезы царь тихо, как бы между прочим, сказал Хоткевичу:
– Лифляндская земля – извечная вотчина князей русских и ни в которых перемирных грамотах за братом нашим не писана... а Нарва – старинный русский город Ругодив... Берем свое, а не чужое.
Дьяк Висковатый в то же время нашептывал в ухо охмелевшему Гарабурде:
– Лифляндская земля – вотчина нашего государя, ибо в лето шесть тысяч пятьсот тридцать восьмое прародитель его, великий государь Юрий Владимирович[8 - Князь Ярославич Владимиров (Ярослав Мудрый) имел христианское имя Юрий (Георгий).], самодержец Киевской и всея Руси и многим землям государь, ходил на тоё землю ратью и пленил ее, и в свое имя град Юрьев поставил, и тоё землю взял на себя, и от тех мест и до сих пор та земля русскому царству принадлежит.
Хоткевич слушал царя с растерянной улыбкой, молча.
Гарабурда тоже не противоречил Висковатому.
А поодаль от царева места гудел в ухо пану Воловичу преданнейший царю слуга Бутурлин:
– Государь будет требовать, чтобы выдал король изменников-перебежчиков... без того не может быть и перемирной грамоты... Изменники всяких стран – враги мира и дружбы между государями.
Пенилось вино. Играли гусельники. Хмелели паны и их слуги, а слово «Нарва» то тут, то там вдруг проскальзывало в хмельных речах ближних к царю бояр и воевод и звучало оно грозно, каленым острием касаясь слуха польских панов.
...Много дней совещались польско-литовские послы с московскими посольскими людьми и ни к чему не пришли. Для передачи королю Сигизмунду была вручена грамота, в которой царь требовал «не вмешиваться Польше в государевы прибалтийские дела»; далее он требовал признания польско-литовским королем за Иваном Васильевичем царского титула, затем выдачи ему перебежчиков-изменников, чтобы совершить им строгий допрос и наказать их. Царь требовал также запрещения польским пиратам нападать на торговые суда, уходившие в море из Нарвы, и иноземные корабли, шедшие в Нарву.
По окончании бесед с послами Иван Васильевич с грустью сказал своим посольским дьякам:
– Надежи немного на короля. Коль он из рук панов власть получил и умом их живет да императора немецкого слушает, какой же он есть владыка в своем государстве? Государю надлежит быть независимым... Никаким королям он верить, а тем паче унижаться перед ними не должен. Своя страна ему ближе жены и детей его...
Послухи Малюты Скуратова вызнали тайно у посольских слуг, будто Сигизмунд хитрит – на тайном совете с немецкими князьями в Вильне будто бы он поклялся положить конец «нарвскому плаванию» и пиратов он не только не сократит, а умножит.
Однако государь после отъезда послов сказал боярам:
– А все же Нарва была и будет нашей. Так предуказано нам самим Богом и завещано предками! Не в наши-то времена, так в иные, но... будет!
III
В сводчатом овале горницы, именуемой «угловой», сумрачно.
Вокруг лампады колышется сотканное из зеленоватых нитей воздушное кружево; серебряные цепи ниспадают с потолка струйками изумрудной капели.
Минута сурового молчанья, того молчанья, когда мысли значительнее, крупнее слов.
Два мужественных, неподвижных лица освещены отблеском лампады. То царь Иван Васильевич и только что прибывший из Пскова князь Андрей Михайлович Курбский.
– Уставать я стал, князь, уставать! – тихо говорил царь. – Литовские послы утомили. Много дней сходились мы, но, когда правды нет в сердце, слова пусты... Король лукавит. Пошто держит он у себя моих холопов, изменников? На что ему Тимоха Тетерин, Телятьев, Павшин? Чего ради держит он подлых иуд?! Выходит, они ему друзья, а царь нет?! Стало быть, на языке у него мир, а в сердце война. Требовал я выдачи изменников не ради казни, но чтоб испытать дружбу Жигимонда... Кабы он был мне друг и брат, не променял бы он меня на моих неверных слуг! Ныне мне открылось его коварство... И я знаю, куда наши кони ступят.
Курбский недоверчиво покачал головою.
– Так ли? Молва идет, что-де Жигимонд томит в железах, в подземелье, тех твоих неверных слуг и обиды им чинит великие, пытки лютые...
– От кого слыхал ты? – тихо спросил, разглядывая перстень на своем пальце, Иван Васильевич.
– Странник один, чернец, побывал у нас во Пскове.
– Схватить бы надобно такого!.. Лжет он!.. Взяли вы его?
– Архипастыри псковские его приютили. В Новгород будто бы ушел...
Иван Васильевич промолчал.
– Я пытался его схватить, да святые отца не дали... – немного помолчав, как бы оправдываясь, произнес Курбский.
– Святые отцы живут небесами... А воевода повинен жить землею. Митрополит Даниил писал о жизни: «Вся – паутина, вся дым, и трава, и цвет травный, и сень, и сон...» Бывают дни, князь, поддаюсь и я той скорби... Поп Сильвестр внушал мне: «Житие-де сие прелестное, яко сон, мимо грядет...» Но царю ли быть слабым? Нет, князь, жизнь – не сон! Проспать жизнь медведю и тому не дано... А царю и его воеводам – и вовсе... «Яко сон», «Яко сон»... Пустошные слова!..
Царь с усмешкой махнул рукой.
– Великий государь! Сильвестру недаром жизнь чудилась сном. Незнатный, малый человек, он стал первым вельможею у царя. Это ли не сон?! Столь чудесная перемена, государь, казалась ему сном. Не будем судить его! Не будем поминать ни Сильвестра, ни Адашева. Скажу нелицеприятно: твоя государева мудрость, твоя царская прозорливость не без пользы приблизили к тебе обоих; честно послужили они тебе, государь, в иные времена... Боюсь греха осуждать их в угождение тебе, как то делают льстецы!
– Ты говоришь: не будем поминать... А я говорю: помянем усопшего Алексея... Бог ему судья! – громко, с сердцем, произнес Иван Васильевич и быстро поднялся с своего места, а за ним и Курбский. Царь прочитал вслух молитву. Оба усердно помолились об умершем в дерптской тюрьме бывшем царском советнике Алексее Адашеве.
– Глупый да малый могут думать, будто хотел я зла Алексею! Я не хотел того, но иного исхода Господь не указал мне.
Царь нахмурился, молча сел в кресло.
Курбский тоже сел в кресло, хмурый, задумчивый.
– Ну, что же ты приуныл, Андрей Михайлович?
– Дозволь, государь, молвить слово.
– Говори.
– У каждого правителя, у военачальника и даже у холопа – свои пути в жизни. Не суждено, батюшка Иван Васильевич, всем людям быть по едину образу. Можно ли за то их осуждать и казнить? Звезды блестящие, небесные светила, и те разным движением обращаются, и не сам ли творец мира определил им так?
Внимательно вслушивался царь в каждое слово князя Курбского. После недолгой разлуки с князем теперь царю были не только не под душе суждения его, Курбского, но и показались они ему какими-то устарелыми, нудными. Да разве он – царь всея Руси – судит и казнит своих слуг за то, что они инако мыслят? Курбский лучше кого-либо должен знать, что нет. Нет! Не за это царь положил опалу и на Сильвестра и на Адашева. Князь Курбский, опытный воевода, знает, что ливонский город Ринген был взят немцами на глазах у стоявших сложа руки воевод-князей Михаила Репнина и Дмитрия Курлятева. Защитники города были истреблены немцами на глазах у царских воевод. Как это назвать?! Курбский понимал, что повинны в падении Рингена Репнин и Курлятев, а когда он, царь, положил на них опалу, тот же Курбский заступился за них. Царь внял его голосу и простил неверных воевод. Так было! И после того князь учит царя, что не надо-де казнить инакомыслящих?
Курбский умеет говорить умно и красиво. Царь это знает. Он речист, любит, чтобы его слушали и восхваляли. Друзья, товарищи славословят его за красноречие. Но можно ли тешиться царю красноречием своего слуги, когда говорят пушки и звенят мечи! Сам он, царь, любит говорить, любит и слушать, но не того ждет от воевод государь ныне, когда царству угрожают четыре державы. Вот и теперь: «разные пути небесных блещущих светил...» Что это? У московского царя один путь – путь к морю! И все его воеводы, и холопы, и весь народ должны идти этим же путем.
– Звезды блестящие не всуе блестят. Они радуют взор не токмо царя, но и черносошника-бедняка, и злосчастного бродяги, и всякой твари... – закончил свою речь Курбский.
– Знаю, князь, словоохотлив ты, однако не всех радуют блестящие звезды, не радуют они ночного татя. Вору небесные светила не нужны... И скипетродержатели не по сердцу худым людям. Не всем во здравие моя власть... Ворам и предателям она в тягость, а царству на пользу. Не так ли? – стряхнув сбившиеся на лоб волосы, тихо рассмеялся царь.
– Истинно, государь-батюшка Иван Васильевич!.. Воры света боятся... а царство твое единою властью крепко!
– Изменники тоже света боятся... Не так ли?
– Да. Изменники тоже... – добавил Курбский. – Нет худшего греха, нежели измена своему государю и своей отчизне!
– Коли так, слушай, князь! Лифляндия – моя, и скорее государь ваш в гроб сойдет, нежели отдаст литовскому либо свейскому королю ту приморскую землю. Ставлю я тебя воеводою над нашим прадедовским городом, славным Юрьевом. Он – сердце земель лифляндских. Токмо я да ты достойны быть воеводами в том граде. Кому доверю его, кроме тебя? Одному тебе, князь. Из Юрьева мы будем грозить всем врагам на западе. Ты видишь, как верю я тебе, ради твоей прямоты.
Курбский приподнялся и низко поклонился.
– Спасибо, великий государь! Мудростью увиты все дела твои. Крест целую тебе, отец наш, клянусь до гроба служить тебе верою и правдой!
Иван Васильевич в раздумье тихо сказал:
– Эх, князь, как мы с тобой славно Казань воевали! Помню тебя... бесстрашного. Спасибо! Да наградит твое потомство Господь вечною славою за твою верность царю и за службу. С такими воеводами, как ты, Бог поможет нам одолеть врагов. Царство без преданных царю слуг, как чаша без вина. Никогда не гневался я на твои смелые речи и никогда я не возносился гордынею, будто я один, без добрых слуг, обойдусь.