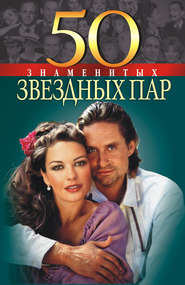скачать книгу бесплатно
Одним из самых интересных телепроектов Андрейченко и Шелла был 11-часовой фильм, в котором Наталья хотела наглядно показать всему миру русские корни Голливуда. Однако из-за проблем с финансированием ему не суждено было состояться: «Почему-то никто не хочет знать, что Голливуд основали выходцы из России, одесситы, и место они выбрали, похожее на Одессу, – в 150 километрах от Лос-Анджелеса, где солнечно даже зимой и где размах, широта и масштаб кино – русский. С мамой Спилберга я разговариваю по-русски. Разве не смешно?»
Андрейченко в реальной жизни никогда не стремилась быть идеальной женщиной: «Ты можешь обмануть всех вокруг – и детей, и сослуживцев. Но рано или поздно все равно станешь самой собой. И вот здесь ложь неприемлема. Себя не обманешь. Подобное я уже прошла в США, когда мне пытались внушить, что надо меняться – говорить без акцента, играть американские роли. Но тогда я стану другой! Не американкой – “сломанной Наташей”. И вдруг меня осенило, что делать этого не стоит. Я – Наташа, русская. Нравится – хорошо, не нравится – извините. Решила, что остаюсь самой собой».
Благодаря титаническому труду актриса стала востребованной и там, порой даже диктуя свои условия и отказываясь от очень выгодных съемок (например в голливудском сериале «Вавилон-5»). Ее бойцовские качества оценили, дав ей прозвище «принцесса-солдат», после того как Наталья сыграла принцессу Низамову в популярном американском сериале «Доктор Куин – женщина-врач». В последнее время Андрейченко успешно снималась и в России. На экран вышли фильмы с ее участием: «Леди Макбет Мценского уезда», «8,5 доллара», «Формула счастья», «Подари мне лунный свет».
К сожалению, не все сыгранные ею в кино роли дошли до зрителя. Еще в конце 1980-х гг. С. Бондарчук задумал поставить «Тихий Дон», трактовка которого очень отличалась от традиционной. В течение трех лет он так и не смог «пробить» этот фильм дома, поэтому пришлось искать спонсоров за рубежом. Был создан американо-итальянский сценарий, итальянцы нашли огромные деньги, организовали съемки. На роль Аксиньи режиссер пригласил свою любимую «иностранную» ученицу Андрейченко. Правда, вскоре продюсеры фильма пересмотрели распределение ролей, и Наталье, к ее огромной радости, досталась другая героиня, Дарья, очень близкая ей по темпераменту и мироощущению. Многосерийный фильм был снят, но с 1993 г. так и не появился на мировом экране. По коммерческим соображениям он лег на полки какого-то банка. Супруга режиссера, И. Скобцева, прилагала множество усилий, чтобы разыскать и купить картину, но пока они не увенчались успехом.
Дети Андрейченко, как и их родители, решили связать свою жизнь с искусством – собираются работать на телевидении. Сын Митя учится в колледже в Санта-Монике на звукорежиссера. А дочь Настя занималась в театральной школе и скоро будет сниматься в российском фильме вместе с мамой.
В отличие от Шелла, который постоянно повторяет: «Я не знаю, кто я, что я и где мой дом», дети не последовали его примеру и знают, где их родина. Митя считает себя русским, а Настя долго просила друга семьи Сергея Гагарина отвести ее в православную церковь и стать ее крестным отцом. Она сказала Сергею: «Запомни, человеку нельзя отказывать в Боге». Позже Максимилиан, католик, спросил у нее: «Настя, почему именно русская ортодоксальная церковь?» Она на него внимательно посмотрела и ответила: «Там теплее».
И все же, мятежник и революционер по натуре, Шелл пытался в том же духе воспитывать и детей. Из-за этого в семье возникали постоянные конфликты. Максимилиан все время обвинял Наталью в том, что она русская, что у нее «пятилетний план» и что она пытается держать детей в узде: «Он же абсолютно дикий и считает, что дети тоже должны быть дикими – расти, как деревья, большие и сильные, с огромными крепкими корнями и со свободными ветвями, которые желательно не причесывать и не подрезать».
Митя действительно вырос необыкновенно свободолюбивым. По словам матери, он «удивительный, умный, добрый и талантливый»: «Его выгоняют из школ при полном обожании его учителями. Я пытаюсь узнать: “Когда ты собираешься в школу, что для тебя самое главное?” Честно признаюсь ему, что сама, будучи школьницей, в классе рассматривала симпатичных мальчишек. Если бы не они, ноги бы моей в школе не было. А у него что? Отвечает мне: “У меня другое. Прежде чем войти в класс, я захлопываю все дыры на прием информации, чтобы никакое зомбирование в мою голову не вошло”. Я ему: “Мить, а зачем ты тогда вообще в школу ходишь?” Он: “Потому что для вашего мира нужна бумажка”. Вот я и говорю мужу: “Макс, ведь это последствия твоей свободы. И что теперь с ней делать? Как управлять?”»
А когда Наталье бывает тяжело, за советом она обращается к дочери, хотя в последнее время они не всегда бывают вместе. Однажды на вопрос мамы, «как быть счастливой», 12-летняя Настя посоветовала ей «делать только то, что хочешь, и никогда не делать того, что не хочешь».
С мая по июнь 2002 г. слухи о разводе Натальи Андрейченко и Максимилиана Шелла моментально распространились по Москве. Сначала в немецких и австрийских газетах, днем позже – в России, Англии и США журналисты увлеклись изложением подробностей дутого развода двух звезд. Для пущей убедительности это событие «подтверждали» такие люди, как первый муж Натальи – Дунаевский, ассистентка Макса – Маргит Шухра, его брат Карл и сестра – немецкая актриса Мария Шелл. «Виновницей» развода выбрали подругу режиссера – историка-искусствоведа Элизабет Михич. Для полного комплекта появился и «кандидат в мужья» – 50-летний российский шоумен Стас Намин. Супруга Намина Галина, на которой Стас женат около 20 лет, расхохоталась, услышав, что якобы муж собирается ее бросить и жениться на ее давней подруге Наталье.
Самые бурные обсуждения «утки» происходили на «Мосфильме». Коллеги со странным удовольствием перемывали кости Андрейченко, склоняя каждый на свой лад ее сложный характер. Все сделали однозначный вывод: русская кинозвезда замучила бедного миллионера своей стервозностью и стремлением к мировой славе. Тут же всплыли прошлогодние скандалы, возникавшие во время съемок сериалов «Доктор Куин» и «Вавилон», где Наталья требовала изменить сценарий, отказывалась от уродующего ее грима или хотела использовать собственные костюмы. Некоторых беспокоило многомиллионное состояние престарелого режиссера. Вспомнили о брачном контракте, в результате чего одна журналистка «с фантазией» додумалась до существования закона, по которому при доказательстве измены супруги Шелл имел право лишить ее полагающейся при разводе доли имущества.
Спустя некоторое время те же журналисты стали писать, что, мол, шум вокруг их бракоразводного процесса в газетах – это хитрая пиаровская кампания… Андрейченко взорвалась: «Бред! Кому нужен такой пиар. Да еще когда вам на задницу лепят бирку “30 млн долларов”, оценивая общее состояние. Все это так отвратительно. И потом, что мы должны были якобы поделить? Я ничего не боюсь говорить. У нас нет таких денег! И никогда не было! Конечно, у нас есть счета, но я всю жизнь жила самостоятельно. И то, что у меня есть, заработала своим трудом. Имеется и несколько общих счетов. Но ведь дело не в этом. Все эти цифры разрушают образ человека. Да, Макс сделал большие деньги на том, что знал, какую картину сегодня нужно купить за 3 тыс. долларов, чтобы продать за 600 тыс. в другое время. Так ведь он же коллекционер. Но не это в нем главное. Прежде всего он художник, философ, человек, который всю жизнь любит искусство. Он профессор искусствоведения. Макс божественный…»
Год назад, на дне рождения Натальи последним ее поздравлял муж. Тост звучал кратко: «За русскую женщину, которая полностью изменила мою жизнь!»
Сегодня Андрейченко продолжает свои творческие поиски. И не только актерские, но и режиссерские, возглавляет интернациональный музыкальный коллектив (наполовину русский и американский), записывает свои песни, в качестве продюсера выпустила альбом «Наташа и гуси». Она основала русский благотворительный фонд исследования СПИДа, пытаясь объединить усилия в борьбе с общей бедой, в желании послужить добру. Актриса всегда в работе, в движении, полна идей и планов. Зрители ждут новых проявлений ее таланта, чтобы при очередной встрече порадоваться за нее и, как ее любимой героине Мэри Поппинс, сказать: «Наталья, возвращайся!»
Когда ее недавно спросили, где она собирается жить, Андрейченко ответила: «Там, где будет работа. Мне важно быть там, где чувствуешь, что способен что-то изменить. И понимать: то, что ты делаешь, в отличие от хороших американских боевиков, содержание которых забываешь через секунду после увиденного, учит и даже меняет человеческие жизни и судьбы. Когда мы с картиной «Подари мне лунный свет» ездили в Киев, Минск и Петербург, всюду были не просто забитые залы. Ко мне подходили мужчины и просили: “Позвони моей жене, а?” И я звонила Верам, Катям, Глашам, Наташам… Они и их мужья сначала не верили, а потом говорили, что начинают новую жизнь… Ну и где мне жить?»
МАРИЯ АРБАТОВА И ОЛЕГ ВИТЕ
В жизни самой женственной российской «феминистки» было немало мужчин. Но она всегда переигрывала в семейных отношениях всех своих партнеров. Не стал исключением и ее последний брак с ведущим политическим экспертом, депутатом Государственной Думы РФ Олегом Вите. И хотя сейчас на горизонте у нее вырисовывался новый возлюбленный, Арбатова считает, что главными мужчинами ее жизни пока остаются сыновья-близнецы – Петр и Павел.
«Я всегда была феминисткой, просто не знала об этом, как мольеровский Жорж Данден не знал, что всю жизнь говорил прозой. Я просто не могла не прийти к феминизму, когда познакомилась с активными деятельницами этого движения и поняла, что вот эту самую идеологию я и исповедую. Вся моя биография – это борьба за восстановление чувства собственного достоинства. Причем борьба не на жизнь, а на смерть».
Все замечательно, только идеи, которые проповедует Арбатова, сложно назвать феминизмом. Феминизм – это борьба женщин за равные права с мужчинами, а в России эти права были даны представительницам прекрасного пола еще в 1917 г. Что же касается чувства собственного достоинства… Вот с этим как раз и происходит некоторая «напряженка», причем вне зависимости от половой принадлежности. К тому же феминистки еще и отказываются от знаков мужского внимания, не кокетничают, не признают проявлений слабости в виде модной одежды, прически или макияжа. В таких крайностях Арбатова никогда замечена не была, скорее наоборот. При этом эксперт «по женским душам», получившая столь громкое звание в ток-шоу «Я сама», всегда была всего лишь… виртуозом эпатажа общества.
На самом деле она «отличилась» не только на телевизионном поприще. Монополизировав право представлять российский феминизм, Арбатова возглавила общественно-политическую организацию «Клуб женщин, вмешивающихся в политику» и получила уже четвертую «Золотую львицу» в светских итогах годах. Она – автор 14 пьес, идущих в серьезных российских театрах, и 13 книг, зачитанных до дыр соотечественницами, пытающимися найти в них рецепт, «как стать счастливой». Многие российские феминистки злятся на Арбатову, которая упорно путает феминизм с феминизацией, женскость с женственностью, гендер с полом, а пол – с потолком. Зря злятся. Маша Арбатова, в конце концов, всего лишь «лицо российского феминизма».
Мария Арбатова появилась на свет в 1957 г. в городе Муроме Владимирской области в семье военнослужащего Ивана Гаврилина, но с годовалого возраста жила в Москве. Она была очень поздним ребенком: «Когда я родилась, маме было 35 лет, а отцу – 47. У него было два сына, я была первая девочка, которая ему обломилась. И все детство он смотрел на меня, как на чудо природы. Я вообще считаю, что успешную женщину делают восхищенные глаза отца. Мой отец умер, оставив меня в 10-летнем возрасте, но, видимо, запаса его любви мне хватило на всю оставшуюся жизнь».
Когда девочке исполнился год, она заболела полиомиелитом. В то время прививки детям практически не делали, и Маша могла остаться прикованной к постели, но «отделалась» хромотой. До пяти лет она жила по больницам и санаториям, где не лечили, а ломали психику: «Это были хирургические опыты на детях в попытке догнать мировую ортопедию. При всем этом я считаю, что полиомиелит меня спас: если бы я осталась дома, то моя активная мама просто задавила бы меня. Она очень одаренная женщина, не давшая себе реализоваться социально».
Мать Маши бросила научную работу и поехала за мужем в провинцию, когда в 1950 г. он, преподаватель марксистско-ленинской философии, «попал в историю» и был переведен из столицы во Владимирскую область. Свою биографию Мария строила на том, чтобы не делать, как мама: «Весь мой феминизм, видимо, отсюда: я видела, как дорого стоит женщине отказаться от самой себя и от своих задатков, как страдают от этого ее близкие, как быстро она перестает понимать подросших детей, как болезненно переносит чужую успешность».
Когда Маша училась в четвертом классе, родители отправили девочку в лечебный специнтернат. В первый же год она прошла там «прописку», как в тюрьме. Дети в интернате были из неблагополучных семей, а она – такая «вундеркиндская», не по годам начитанная девочка, и возил ее папа-красавец в стиле Марчелло Мастроянни. Ее пообещали избить всем классом и назначили время в беседке в лесу. Она пришла туда с гордо поднятой головой: «До последней секунды не представляла, что это может так быть. Я была из другого социального слоя, родители меня никогда пальцем не трогали. И хоть прошло тридцать лет, я отчетливо помню, как меня бьют ногами и костылями, возят лицом по земляному полу беседки. Помню, как захожу в метро, закрывая разбитое лицо шарфом, приезжаю домой, объясняю, что больше никогда не вернусь в интернат. И родители, посовещавшись, говорят, что коллектив не может быть не прав. Этого я не смогла им простить до сих пор».
«Главная проблема нашего поколения в том, – говорила Арбатова много лет спустя, – что мы дети родителей, сформировавшихся при Сталине. У них патологический страх, чтобы кто-то не высунулся из серой массы, они помнят, что с такими бывало. Отстригая наши таланты и яркие перья, они совершенно искренне желали нас спасти». Когда Маша вернулась в свою школу, здоровые дети удивили ее степенью своей инфантильности: «Я пришла из мира, где лилась кровь и пылали комплексы, а здесь, как в детском саду, кто-то плакал из-за потерянной заколки с зайчиком, а кто-то – из-за того, что мальчик не ей написал записку». С мальчиками же у красивой девочки проблем не было, их, по ее словам, «всегда было намного больше, чем организм мог усвоить». К тому же она быстро стала лидером в классе. И с подругами все складывалось отлично.
Когда Маша собралась переходить из «класса девственниц» в «класс недевственниц», она перелистала свою толстую записную книжку и не нашла там никого, подходящего под это мероприятие. А так хотелось героя… Однажды она стояла на Кропоткинской, ждала подругу, как вдруг к ней подошел художник и попросил попозировать для портрета. Мария мгновенно поняла – это тот, кого она искала: «Бедняга еле успел грифели достать, как оказался втянутым в мою задачу. Я устроила такое индийское кино… Роман был недолгий, но пышный. Вспоминаю о нем с веселой нежностью. Ему было 30 лет, мне – 15, но я врала, что 18. Мы встретились через 20 лет, он оказался не худшим продуктом своей эпохи, но если бы я продолжила отношения с ним в юности, то не стала бы ничем, кроме как приложением к нему».
В старших классах во время каникул Маша работала в поликлинической регистратуре, училась в Школе юного журналиста, писала статейки и стихи в многотиражки, в комсомол не вступала по принципиальным соображениям, как ни заставляли, «активно хипповала» и собиралась со временем стать крупной русской поэтессой. При поступлении на философский факультет МГУ Маша недобрала полбалла и страшно переживала. Идя по проспекту, она стала заходить во все учреждения подряд. В полном отчаянии девушка зашла в Литературный музей, и неожиданно ее взяли расклеивать афиши и подавать чай выступающим писателям.
Потом она все же поступила на философский факультет, но вскоре его бросила и стала посещать многочисленные семинары и курсы по психологии. В то время Марии обещали большое и светлое литературное будущее. А когда готовился к публикации ее первый сборник стихов, встал вопрос, как его подписать. Простая русская фамилия Гаврилина показалась ей неподходящей для поэта. Тогда и вспомнилось прозвище, которым наделили ее, живущую на Арбате, друзья – московские хиппи: Маша с Арбата. Так родилась писательница Мария Арбатова.
Затем она написала свою первую пьесу и подала документы в Литературный институт имени А. М. Горького на отделение драматургии. Тогда-то 18-летняя Маша встретила в модном московском кафе «Аромат», где собирались хиппи, артисты и музыканты, 23-летнего студента Гнесинки Александра Мирошенко. На третий день знакомства молодые люди подали заявление в загс. Накануне свадебной церемонии невеста сдавала последний вступительный экзамен в Литературный институт, а жених в это время бегал покупать ей туфли. Не зная, какая у нее нога, он взял на два размера больше…
В 1977 г. в семье родились сыновья-близнецы – Петр и Павел. Воспитывая детей, молодая мама-домохозяйка практически не зарабатывала денег. Именно тогда в ней и проснулась женская социальная активность: «Чтобы никого не убить от сидения дома, я стала писать пьесы и бурно занялась литературно-театральной светской жизнью. Мой муж был типичным мачо и идеальным партнером в быту, из тех, кто все тащит в дом, круглые сутки мастерит. Он имел только один недостаток: гастроли по полгода».
Еще будучи студенткой Литинститута, Мария «грубо отшила» пожилого профессора, с которым, по ее словам, «спали все». И в результате, уже после государственных экзаменов, не могла получить диплом. Тогдашний проректор Евгений Сидоров не знал, что и посоветовать, а потому сказал: «Вы же драматург, придумайте что-нибудь». Арбатова придумала: явилась в деканат и заявила: «Завтра я иду в Комитет советских женщин на прием к Валентине Терешковой». Вечером Марии позвонили из института и велели принести зачетку, в которой появился недостающий «зачет».
Тогда же Мария стала разделять идеи феминизма, как продолжение идей уважения прав человека: «Если бы я сейчас вошла в роддом и со мной попробовали разговаривать так, как говорили, когда я рожала своих сыновей… я бы его на кусочки разнесла! Женщина рожает человека, и с ней нельзя обращаться как с пьяным скотом у пивного ларька: “Ну, ты… ну пошла… полежишь – не сдохнешь!” Нельзя так! А наши женщины не только терпят, но и считают все это само собой разумеющимся. Взять хотя бы наше исконно российское: “Бьет – значит любит”. Это ведь ни на один иностранный язык невозможно перевести. Никто не поймет, потому что там либо – бьет, либо – любит». Для нее эта идеология «вытекла» из необходимости с детства не жить, а выживать, постоянно принимать самостоятельные решения и ни на кого не надеяться. «Самое интересное, – считала Арбатова, – что в таком положении в общем-то находится большинство женщин, просто они в этом не признаются».
Шли годы. С падением цензуры в российских театрах начали ставить ее пьесы, а издатели – печатать прозу. Примерно с 1990 г. Мария стала называть себя «писательницей-феминисткой»: «Писать я умею почти все: стихи, пьесы, прозу, киносценарии, статьи и президентские программы. Первую статью в своей жизни я написала, уже будучи ставящимся драматургом, когда моих сыновей пытались исключить из школы за чувство собственного достоинства. Мне везло, гениальные люди обращали на меня внимание и ставили важные вехи на моем пути. Александр Еременко научил меня писать стихи. Арсений Тарковский научил не писать. Егор Яковлев заставил стать публицистом. Галина Старовойтова – баллотироваться в Госдуму».
В 1991 г. она организовала клуб психической реабилитации женщин «Гармония», в разное время сочетавший в себе еженедельный девичник, танцкласс, уроки макияжа и аэробики и многое другое. С 1996 г. по настоящее время Арбатова руководит «Клубом женщин, вмешивающихся в политику». Около пяти лет она работала обозревателем «Общей газеты», принимала участие в написании предвыборной программы Бориса Ельцина (и даже сумела внести свою феминистскую лепту в создание разделов «Права женщин» и «Права детей»), а также сочинила предвыборную президентскую программу для Эллы Памфиловой. «Вообще, – говорила Арбатова, – с женщинами в политике работать комфортнее, чем с мужчинами. Они настолько более адаптивны и настолько менее амбициозны, что были б у них деньги на выборы, мы бы подняли страну за четыре года. Мужчины, занимающиеся политикой, очень сильно драматизируют это ремесло. И все интеллектуальные махинации, которые мужчины проводят во властных креслах, не сложнее того, что ежедневно делает любая женщина в своей семье. И на уровне интриг, и на уровне принятия решений, а главное, на уровне принятия ответственности».
К тому времени ее первый «богемный и эмоциональный» брак, длившийся 17 лет, подошел к концу. В новых экономических условиях супругам стало трудно жить под одной крышей, «когда муж не справляется с ситуацией, с которой жена справляется легко и играючи». Муж-певец «не нашел себя в реформах», а жена-феминистка «оказалась сильнее, все взяла на себя». На 4 октября 1993 г. у них был назначен развод, и чувства Марии уже были поделены между тремя новыми претендентами на ее руку. Все кандидаты были иностранцами, находились в то время в разных столицах мира и потрясенно смотрели трансляцию о трагических событиях в Москве: «Все трое не нашли в себе сил позвонить мне, а живу я недалеко от Белого дома. Образ мужчины, устроенного так тонко, что собственные душевные страдания заслоняют весь остальной мир, рассыпался в моем сознании в пыль. И судьба отнеслась к этой перемене благосклонно, ровно на следующий день в кабинете Егора Яковлева в «Общей газете» я встретила своего избранника. В застой меня привлекали люди, способные сопротивляться режиму, мой нынешний герой умеет не только протестовать, но и работать».
Ведущий эксперт Фонда эффективной политики Олег Вите родился в 1950 г. в Ленинграде. Через неделю романа с Арбатовой он решил развестись со своей тогдашней, четвертой по счету, женой, но формальности затянулись до апреля 1994 г. Свадьба попадала на 19-е число – день знакомства с Александром Мирошенко, и суеверная Арбатова перенесла ее на несколько дней. Но и второе бракосочетание проходило так же сумбурно, как и первое. На этот раз Мария спешила со штампом, чтобы отмежеваться от первого мужа, боялась его непредсказуемых выходок и в спешке даже забыла купить белое платье.
В семейной жизни Мария сразу отказалась от «должности» домохозяйки: «Наш дом поделен на какие-то секторы. И моя доля в быту наименьшая. Это, скорее, общее руководство. Самое большое, что я делаю, – с мужем хожу в ночной магазин. Все остальное делается не моими руками. Я скорее координатор домашних бытовых программ».
В этот период Арбатову пригласили на телеканал ТВ-6 в женское ток-шоу «Я сама». Но, проработав соведущей более шести лет, она ушла из передачи, которая прославила ее на всю страну: «Я ушла после того, как мы не смогли договориться с Александром Пономаревым о правилах игры. Уже тогда пространство программы потихоньку становилось платным. Такой “магазин на диване”. Герой, проплативший передачу, платил деньги за похвалы себе. У меня было совершенно иное мнение о лечении наркоманов клиникой Маршака и университете Натальи Нестеровой. Я говорила одно, а меня монтировали с точностью до наоборот. Плюс к этому канал платил передаче одну десятую того, что она зарабатывала, а остальное тратил на развитие совершенно бездарных передач».
Второй брак Марии продлился 8 лет. По мнению Арбатовой, он был очень политизированный, правильный и скучноватый. Однако, хотя муж и просиживал на работе сутками напролет, благодаря ему она с изумлением обнаружила, «что у мужчины бывает мнение о том, как и что должно происходить в быту: прием гостей, расстановка мебели, готовка супа… Он активно поощрял мою карьеру, с удовольствием решал бытовые проблемы. Он из тех сверхполноценных мужчин, которые считают, что от женщины им нужна только духовная и сексуальная близость. Поэтому их нельзя женить на тарелке супа и ежеутренней глаженой рубашке. Разошлись мы в ресторане, отмечая дату годовщины своего знакомства».
К разводу с Вите Арбатову подтолкнуло предательство мужа. Это произошло в 1999 г. во время выборов в Госдуму, куда Мария баллотировалась от партии Кириенко и Гайдара. Политики просто «подставили» неопытную женщину, договорившись за ее спиной с кандидатом другой партии – Михаилом Задорновым: «Меня кинула на бандитов вся команда. И муж, на мой взгляд, должен был иметь позицию в какой угодно форме: дать по морде Гайдару или Кириенко. Всем было все по барабану, они говорили мне: “Ну мы же предупреждали тебя, что выборы – это трудно. Ну не пригнешься, мы тебя пристрелим”. И конечно, я в претензии к мужу, так как он огромное количество лет прожил в политике, зная, что под выборы я не стану другой, что я не возьму деньги и, благодарная, не уползу с ними в зубах из округа, чтобы не мешать Михаилу Задорнову».
Как человек, «ориентированный социально», как «западная женщина» Мария смотрела на брак по-своему: «Дает брак, любовная или дружеская связь развиваться социально, или она меня тормозит. В ситуации с разводом как с первым, так и со вторым мужем появился список огромных претензий и обвинений, которые уже были невыносимы. Тогда мой муж сказал: “Я не могу жить в такой атмосфере, потому что ты считаешь меня предателем. И с этой точки зрения строишь со мной отношения. Давай вызовем семейного психолога”. Я ответила ему, что, естественно, считаю его предателем вот по этому, тому и другому пункту. Потому что в 1999 г., когда прозвучали первые угрозы расправы мне и детям, тебе вдруг приспичило ехать в Лондон, пожимать лейбористам руку в их парламенте. Я спросила у него, насколько это важная поездка, ведь я не «Шварценеггер». Он улетел. Таких вещей не прощают. Если бы моему мужу начали угрожать расправой, я бы осталась дома, просто я не смогла бы оставить его в беде».
Кроме того, было еще много вещей, в которых муж вел себя так, как будто Арбатова абстрактно баллотирующийся человек, а не его конкретная жена, которую он «знает в полном объеме»: «Муж занимался политикой. И ему со временем психологически трудно было понимать, что на его поле я быстро приобрела довольно зримые очертания. Если сначала для всех в политике я была очередная жена Олега Вите, то потом люди, которые не смотрят телевизор, не читают книжек, говорили: “А, Вите, это тот, который муж Арбатовой”. Подсознательно Олег не смог смириться с этим званием».
Вообще же Мария считала, что мужчина – это лучшее, что природа создала… для женщины. Но активно не принимала «мужскую формулу любви»: раз «осчастливил» женщину своей любовью, значит, ей больше и мечтать не о чем, и стремиться некуда, и на кого-то еще внимание обращать. «Чем я буду стоять на задних лапках перед одним “господином и повелителем”, – откровенничала Арбатова с журналистами, – пусть лучше пятеро стоят на задних лапках передо мной, а я буду выбирать с учетом моего интереса, моего настроения. Мне это страшно нравится, я считаю, что это – приятно, комфортно и вообще замечательно. Говоря научным языком, я – за полиандрическую семью, то есть за ту, которая была при матриархате».
Оба свои развода Мария называет социальными. Первый муж не смог по-взрослому отнестись к переменам в стране, впал в депрессию и сбросил на жену все проблемы. Второй брак сломали выборы в Госдуму. В критических ситуациях ей была необходима защита мужа. Она ее не получила. «Когда я развелась с Олегом, – рассказывала Мария, – мои сыновья пошутили: “Мамик, тебе нужен мужик, который был бы сильней тебя”. А где его взять, ведь Путин уже женат».
В 2002 г., ровно в годовщину свадьбы со вторым мужем – 16 апреля – Мария встретила своего нового избранника. Это произошло в Кремлевском дворце на церемонии вручения премий: «Мы поздоровались за кулисами, потом я увидела его на сцене, совсем немного поговорили, но все уже было ясно… Он попросил записать ему мой мобильный, я записала. Он удивился и спросил: “Зачем ты записываешь мне мой мобильный? Запиши свой”. Выяснилось, что у нас в номерах телефонов не совпадает только одна цифра. Это выглядело как явный сигнал чего-то, идущего помимо нашего контроля. Самое смешное, что этот человек состоит из лучших качеств обоих моих мужей».
Новое увлечение Марии – женатый гражданин США, 55-летний советский эмигрант Александр Раппопорт. Он покинул Россию 12 лет назад, после того как 4 года отсидел в тюрьме и знал, что, если останется, снова окажется за решеткой. Его посадили как врача, отказывавшегося подписывать психиатрические диагнозы диссидентам. Полгода отработав в США таксистом, Александр подтвердил свою профессиональную квалификацию. Сегодня Раппопорт известнейший психотерапевт русской Америки, ведет программу на радио и ТВ, концертирует как исполнитель шансона.
Интересно, что, к досаде Арбатовой, Раппопорт – не феминист, в отличие от первого и второго мужей: «У него комплекс мужчины, который всегда самый умный, самый сильный и все знает лучше. Он привык к женщинам, смотрящим на него как на Бога». Это серьезная проблема в отношениях, но пока внутри их романа притяжение сильнее гражданской войны. И как два человека, занимающихся психологией, они умудряются договариваться. Марию не смущает, что Александр женат: «Любовь не определяется наличием или отсутствием штампа. В моем паспорте, например, стоит штамп о последнем браке. Но я пока не собираюсь подписывать ни с кем никаких взаимных обязательств. Мне 45 лет, я и так провела в браке по сумме 25 лет, практически большую часть жизни. И мне хочется какое-то время подышать полной грудью».
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА И БОРИС МЕССЕРЕР
Известная поэтесса и талантливый художник соединили свои судьбы, будучи уже не молодыми. До этого в жизни Ахмадулиной было множество романов и два законных брака. Но все они оканчивались разочарованиями, терзаниями, периодами ее отчаянной депрессии и беспробудного пьянства. И только рядом с Борисом Мессерером она смогла обрести тот покой и душевную силу, о которых мечтала. Сегодня она радостно говорит о себе: «Еще жива, еще любима, все это мне сейчас дано».
Есть поэты, как бы совершенно отдельно живущие от своих стихов. Белла Ахмадулина, в противоположность им, на свои стихи очень похожа. Вольный ветер 1960-х гг., наследство Серебряного века (не зря имя поэтессы часто ставят рядом с именем Марины Цветаевой) навсегда вошли в ее поэзию. Героиня Эльдара Рязанова в фильме «Ирония судьбы… или С легким паром!» на вопрос Ипполита «чьи стихи?» роняет: «Ахмадулиной», а тот с уважением кивает. И так «кивала с уважением» вся страна.
Ее стихи, затаив дыхание, слушали в московском Политехническом институте, расхватывали в книжных магазинах, а потом передавали друг другу «на одну ночь почитать». Сами поэты 1960-х гг. смотрели на Беллу как на неотъемлемую фигуру современного искусства, посвящая ей стихи и песни. Когда она выступала в студии на Моховой (старое здание МГУ), то поистине яблоку негде было упасть. Ее голос завораживал, ее стихи потрясали. Это был почти гипноз.
Изабелла родилась в Москве 10 апреля 1937 г. в семье служащих: Ахата Валеевича Ахмадулина и Надежды Макаровны Лазаревой. В числе ее предков с материнской стороны были итальянцы, осевшие в России, и среди них революционер Стопани, чьим именем был назван переулок в Москве, с отцовской стороны – татары. Но несмотря на такой «интернационал», родители не научили дочь языкам своих предков по одной простой причине – они сами их не знали. Отец, хоть и родился в Казани, к моменту появления на свет Беллы был уже полностью обрусевшим москвичом, а тамошние родственники, у которых в эвакуации жили Ахмадулины, тоже говорили в основном только по-русски. Мать же о солнечной Италии знала только то, что когда-то оттуда в Россию пешком пришел прадедушка – музыкант-шарманщик со своей ручной обезьянкой.
Ахмадулина начала печататься рано – в 17 лет. Когда ее первые стихи появились в журнале «Октябрь», сразу стало понятно, что в советскую литературу пришел настоящий поэт. Сейчас она называет их наивными, даже нелепыми, однако мэтры тогдашней поэтической элиты заметили молодое дарование, и через некоторое время она получила письмо от поэта И. Сельвинского, в котором он высоко оценил ее талант. Сама Белла позже говорила: «Дело совершенно не в достоинстве этих стихов. Они были беспомощны по форме, но в них просто была некоторая свежесть и несовпадение с мраком, который все-таки многие журналы наполнял и населял».
В том же 1955 г. талантливую школьницу без колебаний приняли в Литературный институт. Ее друг и писатель Анатолий Приставкин вспоминал, что на стихах, представленных ею в приемную комиссию, стояла резолюция – «Принять».
В институте она была королевой, и в нее были влюблены все молодые поэты, включая Евгения Евтушенко, который стал ее первым мужем. Он так говорил о своей молодой жене: «У нее был прекрасный дар доброты, и если ей не хватало личных страданий, то она умела страдать страданиями своих друзей, и их опыт становился ее собственным. Она была всегда верным товарищем, сопереживателем». Для нее не существовало неодушевленных предметов, у нее было совершенно особенное отношение к животным и птицам: «Иль неодушевленных нет вещей, иль мне они не встретились ни разу».
От мужа Белла переняла «ассонансную рифмовку», но затем резко повернула в совершенно другую сторону – в «шепоты, шелесты, неопределенность, неуловимость». Но, признавая литературное дарование Ахмадулиной, Евгений Александрович все же не смог ужиться с ней под одной крышей. Видимо, двоим поэтам не хватало «воздуха».
Ее талантом восхищались поэты и старшего поколения – Антокольский, Светлов, Луговской, а вот Пастернака она только однажды встретила – на тропинке, но постеснялась ему представиться. Из-за него у начинающей поэтессы произошел первый конфликт с властью: ее исключили из института, так как Ахмадулина отказалась подписать «письмо творческой интеллигенции», осуждающее «антисоветские» произведения опального мастера.
Однако в 1960 г. Белла все же закончила Литературный институт, а спустя два года вышла первая книга ее стихотворений «Струна». В последующие годы были изданы поэтические сборники «Уроки музыки», «Стихи», «Метель», «Свеча», «Тайна», «Сны о Грузии» и другие.
Ахмадулина вошла в русскую литературу на рубеже 1950–1960-х гг., когда в стране возник беспримерный массовый интерес к поэзии. Причем не столько к печатному, сколько к озвученному поэтическому слову. Во многом этот «поэтический бум» был связан с творчеством нового поколения поэтов – так называемых «шестидесятников». Одним из наиболее ярких представителей этого поколения и стала Белла Ахмадулина, сыгравшая наряду с А. Вознесенским, Е. Евтушенко, Р. Рождественским, Б. Окуджавой огромную роль в возрождении общественного самосознания в стране в период «оттепели».
Когда уже сейчас ее спросили, тоскует ли она по тем временам, поэтесса ответила: «Откровенно говоря, нет. Своих слушателей, до сих пор сохранивших интерес к поэзии, я утешаю: “Это вы скучаете по своей молодости”. 1960-е не были временем поэтического апофеоза, который будто бы создали поэты-шестидесятники. В 1960-м еще был жив Пастернак, Ахматова умерла только в 1965-м. Мы были современниками великих поэтов. Просто это время оказалось переломным в общественной жизни, люди были встревожены, обнадежены, пребывали в смятении чувств. Тогда казалось, что поэты возьмут на себя миссию что-то объяснить людям, провозгласить какие-то новые идеи. Очевидно, поэтому количество слушателей было столь велико, что не поддавалось исчислению. Мне часто приходилось говорить людям, что поэзия не может рассчитывать на такой успех, она должна быть тем сверчком, который должен знать свой шесток (пусть этот шесток и выше земной суеты). Этот сверчок не должен тягаться по популярности ни с футбольными клубами, ни с эстрадными кумирами, должен рассчитывать только на тех, кому дано услышать его тихую музыку. Эти люди и есть его спасители, его надежда в этом мире».
В 1963 г. у Ахмадулиной возник роман с Василием Шукшиным, который предложил ей сняться в своем фильме «Живет такой парень». Тогда Белла представляла собой тип «нарядной городской дамочки», и именно такая была нужна режиссеру на роль журналистки: «По сценарию журналистка – просто омерзительное существо. Ей все равно, что там происходит на Алтае, ей совсем нет дела до какого-то там Пашки Колокольникова. Она надменна. Она спрашивает и не слышит». Белла тогда сказала: «Василий Макарович, вы очень ошиблись, на самом деле я другая». И поведала ему, как во время вынужденного перерыва в учебе работала нештатным корреспондентом «Литературной газеты» в Сибири, как смеялись над ней сталевары или подобные шукшинскому герою люди: «Они были ко мне милостивы, но ужасно ироничны. Разыгрывали меня, сообщали о грандиозных успехах, я мчалась к ним во всю прыть, записывала, но потом оказывалось, что такого быть просто не может. В общем, со мной происходило все строго обратное, чем описано в сценарии».
Шукшин сказал, что ничего менять не надо, а можно играть прямо так, и даже из текста ни слова не выкинул. Но героиня получилась хорошей, не знающей жизни, но наивной и светлой. Во время съемок Белла с Василием подружились: «И дружили потом очень долго. Я его примиряла с Москвой, водила везде. На его гонорар от фильма купили ему костюм, галстук, туфли. Помню, тогда же выкинули в мусоропровод его кирзовые сапоги, в которых он неизменно ходил. Он был замечательный и в то же время всегда несчастный… Действительно, мы с Василием – разные люди, но эта разность зарядов, видимо, и притягивала. Он, при огромном таланте, страшно мыкался, особенно в первые его московские годы: представьте, каково было здесь человеку из деревни да еще сыну репрессированных. Все это прибавляло сложностей, комплексов. Мне очень хотелось поглубже втянуть его в чтение, например, чтобы он не считал Бориса Пастернака “слишком интеллигентским”»…
Через некоторое время Ахмадулина вышла замуж за писателя Юрия Нагибина. Роман был бурным, но они расстались, как писала Белла, «без жалости и интереса». Эта любовь, по свидетельству знакомых Нагибина, занозой сидела в нем всю жизнь. Может быть, поэтому в своем «Дневнике», который вышел в 1995 г., писатель дал не самую лицеприятную характеристику бывшей жене: «Мечется в сердечном спазме, с мокрым от слез, разбитым в синь мною личиком, в коротких штанишках и полосатой кофточке Гелла… [Так он ее называл]. Ахмадулина растекается, как пролитая на столешницу водка… Она не была ни чистой, ни жертвенной, дурное воспитание, алкоголизм, богема, развращающее влияние первого мужа, среда изуродовали ее личность, но ей хотелось быть другой, и она врала не мне, а себе…»
Потом Белла безоглядно влюбилась в другого литератора – Геннадия Мамлина, сердцееда, из-за которого женщины чуть ли не выбрасывались из окон. Калибром таланта этот драматург не дотягивал ни до Евтушенко, ни до Нагибина, ни до самой Ахмадулиной, поэтому в ее жизни очень скоро возник другой молодой красавец и ловелас – сын знаменитого Кайсына Кулиева, Эльдар. От него у Беллы родилась дочь Елизавета и остались строчки: «Мы погибли, погибли, Эльдар». За этим последовали разочарования, терзания, запои… В этот период отчаяния и пьянства поэтессы, происходящего часто на глазах «литературной общественности», поэт Винокуров произнес ставшую известной фразу: «В Доме литераторов лежала Белла в собственном соку».
Но в начале 1970-х гг. в ее жизни произошел коренной перелом – она встретила театрального художника Бориса Мессерера, с которым не расстается до сегодняшнего дня: «Еще жива, еще любима, все это мне сейчас дано…»
Ее последний муж родился в Москве 15 марта 1933 г. и, как и Белла, принадлежал к тому талантливому и дерзновенному поколению «шестидесятников», которое вторглось в литературу, театр, изобразительное искусство, с тем чтобы избавить их от оков официальных канонов. Художник генетически был связан с театром, поскольку происходил из знаменитой династии, подарившей русскому балету талантливейших артистов. Среди них сияют имена его отца, неповторимого танцовщика и педагога Асафа Мессерера, кузины – блистательной Майи Плисецкой и дяди – чудесного актера и педагога МХАТа Азария Азарина. Мать Бориса, Анель Судакевич, была известной актрисой немого кино, а позднее художницей по костюмам.
В характере Мессерера рано проявилась независимость. Вопреки семейным традициям, в 1956 г. он окончил Архитектурный институт, где графику преподавал суровый Дейнека, и одновременно посещал мастерскую тончайшего Фонвизина, но формировался по-своему, вне подчинения учителям. Борис пришел в театр, чтобы вольно строить там свою сценическую архитектуру. Он оказался одним из немногих продолжателей классического театрально-декорационного искусства, а первой вехой в его творческой судьбе стал новорожденный московский театр «Современник». Здесь со своими друзьями-единомышленниками в атмосфере молодого задора и бурлящей энергии он придумывал для постановок необычные объемно-пространственные декорации.
В 1963 г. Мессерер дебютировал как театральный художник на сцене Большого театра в балете «Подпоручик Киже» на музыку С. Прокофьева. В этой работе он сразу заявил об особом подходе к оформлению спектакля, отличавшемся от общепринятого в декорационном искусстве. Заключался этот подход в том, что если обычно любого вида декорация так или иначе изображает место действия, то Борис сочинял графические композиции, которые несут в себе образ спектакля и тем самым обретают значение самостоятельных визуальных «персонажей».
Графический тип театрального мышления проявился и в решении Мессерером балета «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина, поставленном в 1967 г. Здесь основу оформления составлял образ цирковой арены, над которой нависала гигантская черная маска быка, очерченная полукругом дощатой стены. Над стеной острыми силуэтами возвышались черные спинки расставленных на ее кромке испанских стульев – сидевшие на них персонажи играли роли не только зрителей корриды, но одновременно и судей, вершивших суд над героиней. Аналогичный двойной смысл имели и все остальные элементы оформления: «арена корриды является ареной жизни», «маска быка над ареной должна восприниматься временами просто как реклама корриды, но когда загораются глаза быка и на него падает багровый свет, надо, чтобы эта маска читалась как синоним Рока».
Когда Борис познакомился с Беллой, он даже не знал, что она поэтесса, и, естественно, не слышал ее стихотворений: «Ни одного. Просто увлекся ею как прекрасной дамой. Потом я полюбил ее стихи. Но это было гораздо позже». Стихи его жены советская власть запрещала. Но так сложилось, что та же власть сделала ей некоторую рекламу, публикуя фельетоны о ней. Сама Ахмадулина считала, что «известность вовсе не обязательный спутник таланта. Очень часто известность – это результат дурного читательского вкуса и рыночных устремлений издателей. Бывает, что таланту сопутствует слава, а может быть, он умирает в безвестности».
Потом были запреты на публикации, и ей долгое время не разрешали выезжать за границу. В период застоя Ахмадулину печатали крайне редко, большинство ее стихов вообще не доходило до читателей. Однако компенсацией творческого вакуума стали фильмы Эльдара Рязанова, в которых ее стихи читали или пели главные героини. Актриса Светлана Немоляева вспоминала: «Эльдар Александрович, когда было озвучание, принес мне листочки. Я помню точно, что это не было издано, это было просто написано ее рукой».
Поэзию Ахмадулиной называли «аполитичной», но она скорее антиполитична. У ее стихов «Елабуга», «Варфоломеевская ночь», «Сказка о Дожде» не отнимешь особой гражданственности, проникнутой презрением ко всему тому, что называется «политикой», унижающей и уничтожающей людей. Хрупкая, нежная рука Ахмадулиной подписала все письма, которые только можно припомнить, в защиту диссидентов и многих других попадавших в беду людей. Она ездила в горьковскую ссылку к Сахарову, найдя в себе мужество пробиться сквозь милицейский кордон.
А их дом с Борисом – так называемый «Чердак на Поварской», где располагалась творческая мастерская художника, по словам Василия Аксенова, «совмещал в себе идеи мастерской, жилья и непрекращающегося театра. Борис Мессерер на своем чердаке был и является катализатором творческой энергии».
«Поварская, 20» – это не просто московский адрес, это неформальная академия искусств, союз литературы, изобразительного искусства и музыки. Здесь собирались и собираются представители подлинной творческой элиты, признанные на государственном уровне или популярные только в народной молве, но они связаны между собою бескомпромиссным чувством внутренней духовной свободы. Не случайно «дом Бори и Беллы» стал колыбелью альманаха «Метрополь», в выпуске которого принимали участие писатели В. Аксенов, А. Битов, Ф. Искандер, Б. Ахмадулина, В. Высоцкий, Е. Попов, В. Ерофеев и др.
В доме на Поварской уже более 30 лет несколько художнических ателье не только существуют, но и образовали со временем неформальное течение, которое условно можно назвать Школой «Поварская, 20». Здесь, по словам самого Бориса, основной составляющей является «скорее пластическая, нежели концептуально-сюрреалистическая линия». Подобные объединения «по интересам» возникали как насущная необходимость в узловые моменты развития культуры. Их история идет от Салона мадам де Сталь до редакции журнала Гийома Аполлинера, более родственным аналогом представляется знаменитая петербургская «Башня» Вячеслава Иванова.
В 1990-х гг. Мессерер работал главным художником МХАТа имени А. П. Чехова. Вообще же за более чем 30-летнюю жизнь в театре он оформил свыше 100 спектаклей в театрах Москвы, Ленинграда, других городов России и Восточной Европы, успел много и результативно поработать с крупнейшими российскими и зарубежными режиссерами разных поколений, среди которых О. Ефремов, Б. Покровский, А. Эфрос, А. Гончаров, В. Плучек, В. Чабукиани, Г. Волчек, М. Захаров, А. Алонсо и многие другие.
В 1999 г. Борис вновь работал с Большим театром. В балетной постановке «Конек-Горбунок» на музыку Р. Щедрина художник создал великолепный образец современного декорационного оформления спектакля – в виде развернутого по всему объему сценического пространства «лоскутного одеяла», собранного из сотен фрагментов разнообразного рисунка, формы и цвета, в том числе и из перьев Жар-птицы. Помимо балетных спектаклей в Москве Борис оформил оперу «Пиковая дама» в Лейпциге, балеты «Клоп» и «Левша» в Мариинском театре оперы и балета Санкт-Петербурга.
Одновременно Мессерер – своеобразный живописец и отличный декоратор, полотна и графика которого сродни театру. В 2002 г. в Москве проходила выставка его работ, выполненных в новой технике станковой графики. В основном это двухметровые офорты, изображающие содержимое старых чуланов: бутылки, керосиновые лампы, пилы и ножовки. Эти «персонажи» повторяются из работы в работу, меняются только их расположение и количество. Такой однообразный подход к натюрморту вызывал у неподготовленной публики некоторое недоумение.
Но если располагать хоть какой-нибудь информацией о художнике, то многое становится понятно. Целью своего творчества он считает «преображение обычных вещей», и с этой точки зрения стаканы и ножовки являются для него не просто хламом, но героями картин, в которые нужно долго вглядываться, чтобы распознать их жизнь, ритм, мелодию и тому подобные «высокие ипостаси», доступные только «особо творческим личностям». Рядовым зрителям эта информация тоже полезна, потому что без нее они просто ходят и наблюдают, что на всех картинах изображены «пилы и бутылки». А с ней – начинают искать смысл в том, отчего там три бутылки, а здесь – больше; и отчего на одной картине пила стоит, а на другой – лежит. Через какое-то время зритель начинает чувствовать и ритм каждой композиции, и ее атмосферу, и уже никому в голову не придет сказать, что все работы одинаковые.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: