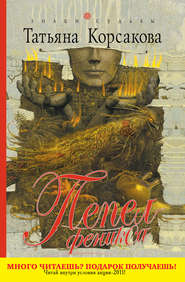скачать книгу бесплатно
– Какой, позволь поинтересоваться? – От сердца отлегло. Хоть Степка тот еще жук, но о реноме хозяйском очень даже печется.
– Сказал, что к вам курьер с письмом государственной важности и что дело не терпит отлагательств.
– Так уж и государственной важности? – усмехнулся Андрей Васильевич и со стоном уселся в кровати. – Это ж какое такое неотложное дело могло у меня приключиться?
Хоть Андрей Васильевич и почитал свою профессию передовой и благородной, но на жизненные реалии смотрел трезво. Журналистская карьера его не сложилась, не такой доли он себе желал, еще будучи безусым юнцом, грезил не о том, что станет слагать оды губернаторской дочке да строчить бессмысленные статейки в губернскую газетенку. Видел он себя корреспондентом уважаемого столичного издания, и никоим разом не разленившимся светским хроникером, а деятельным и отважным борцом с преступностью, ведущим собственные расследования и на страницах газеты разоблачающим самых опасных преступников. Да, видать, не судьба…
Может, и сбылись бы мечты, может, и покатилась бы его жизнь по другой дорожке, если бы пятнадцать лет назад он не встретил в салоне одной весьма известной московской дамы свою будущую супругу. Только тогда, пятнадцать лет назад, была она не круглолицей, раздавшейся вширь после четырех родов унылой матроной, а прелестнейшим цветком, у которого и перси, и ланиты – все, как грезилось молодому Андрею Васильевичу. Видать, на ту пору в людях он еще разбирался не слишком хорошо, потому как не разглядел в юной и безо всякого повода краснеющей Мари диктаторских замашек, каких нынче с избытком у Марьи Тихоновны. Зато разглядел золотые швейцарские часы у ее папеньки, и сюртук его из английской шерсти тоже разглядел, да и доходами у знающих людей поинтересовался. Что уж теперь самому себе-то врать?! Может, швейцарские часы, английский сюртук да немалое приданое его пленили посильнее персей и ланит. И не стыдно ему в том признаваться, потому как, кто нищеты в малолетстве хлебнул полной мерой, всеми силами будет рваться из этой мутной трясины безнадежности.
Андрей Васильевич вырвался, да вот беда – прямиком угодил в другую трясину. Та, другая трясина, именовалась скукой, она неспешно обтекала Андрея Васильевича мутными своими водами, время от времени взрывалась едкими болотными газами и засасывала, засасывала… Он и пить-то начал исключительно из скуки. Так душа его нежная и тонко чувствующая протестовала против той спокойной и унылой жизни, на которую он себя совершенно добровольно обрек. И работа, которую и работой-то назвать никак нельзя, не приносила никакого морального удовлетворения. Теперь Андрей Васильевич все чаще задавался вопросом, а не напрасно ли он променял голодную, но полную приключений жизнь в столице на сытую, но такую беспросветную жизнь в глуши…
– Так есть неотложное дело! – Степка снова дернул себя за ус. – Да еще какое дело, барин. Криминальное, как вы любите. В березовой роще, ну той, что за рекой, лиходеи человека убили. Да что там убили… – Степка перекрестился, – мужики говорят, живьем сожгли…
– Что ж ты молчал?! Сам ты, Степка, лиходей! – Окончательно позабыв о похмелье и головной боли, Андрей Васильевич вскочил на ноги. – Как живьем?! Откуда такие сведения?
– Вестимо откуда, от Мишки, Вадим Сергеевича слуги. Его, Вадима Сергеевича, как раз на освидетельствование тела вызвали.
В груди что-то екнуло звонко и радостно. Нет, не тому Андрей Васильевич радовался, что безвинного человека какой-то тать убил, а тому, что теперь непременно начнется расследование и не придется писать обо всяких не заслуживающих внимания светских глупостях, а можно будет целиком и полностью сосредоточиться на распутывании преступления. Андрей Васильевич посмотрел на Степку, велел:
– Иди, распорядись насчет экипажа, а я сейчас же! Нет, стой! Воды горячей принеси, побреюсь. А то как с небритой физией да на такое дело!
– Но Марья Тихоновна велела…
Договорить Степке Андрей Васильевич не позволил:
– Не твоя забота! С Марьей Тихоновной я как-нибудь сам разберусь.
Эх, до чего ж удачно все складывается! Вот, глядишь, и неприятного разговора с Мари удастся избежать, потому как у него – работа, задание! А задание – это то единственное, на что Мари пока еще не смеет посягать.
– Сюртук выходной подай! – крикнул Андрей Васильевич вслед Степке.
– Так не готов выходной-то! – Степка просунул косматую голову в дверь. – Вы ж его давеча шампанским залили, а рукав так и вовсе сигарой прожгли.
– Как прожег? – спросил Андрей Васильевич, в нетерпении прохаживаясь по комнате.
– Так барон угощал, – Степка пожал широкими плечами. – Я потом у вас в карманах непочатые сигары нашел, – добавил он с укоризной, – аж шесть штук.
– А не твое собачье дело! – огрызнулся Андрей Васильевич.
Вот ведь странные ужимки судьбы: про то, как вирши пикантные собирался декламировать, напрочь забыл, а про то, как из шкатулки красного дерева сигары горстью греб да по карманам рассовывал, помнит. Барон, кажется, этого конфуза не заметил, а если бы даже и заметил, так что ему, барону Максимилиану фон Виду, потомку старинного австрийского рода, какие-то сигары! Барон мало того, что богат, как Крез, так еще и затейник, каких поискать. Всю округу взбаламутил своими чудачествами. Крестьян на Масленицу фейерверками до смерти перепугал, думали, конец света наступил. Да что крестьян! Автомобилем, из Германии выписанным, барон любил и почтенную публику поэпатировать! Или вот, к слову, слуги… Прав Степка, в услужении у него почитай одни мавры. Молчат, глазюками своими черными зыркают, зубами белыми сверкают. Молчат-молчат, а те еще, видать, прохвосты, вон уже не первая девка родила мавритенка-то.
Но Андрей Васильевич ни барона, ни его мавров не осуждал нисколечко. Как у старого поместья графа Изотова появился новый хозяин, так и сделалась жизнь в округе ярче и интереснее, а у самого Андрея Васильевича появилась пища для ума и прелюбопытнейшие материалы для статей. Он даже пить меньше стал, потому как боялся в алкогольном дурмане пропустить настоящее СОБЫТИЕ. А сердце, которое еще не зачерствело до конца от этого провинциального существования, нашептывало – случится СОБЫТИЕ, непременно случится! И тогда, даст Бог, имя Андрея Сотникова прогремит на всю Россию-матушку!
Неужто случилось?..
* * *
Любаша не обманула: недоросль и в самом деле жил в очень хорошем районе, и от остановки его дом отделяло всего пять минут ходьбы. Анна поздоровалась с бабушкой-консьержкой, выдержала допрос с пристрастием и, взбежав по широкой лестнице на третий этаж, оказалась перед массивной железной дверью.
На звонок ответили не сразу, Анна уже почти решила, что никого нет дома, когда дверь бесшумно распахнулась.
– Добрый вечер, а мы уже вас заждались! – В утопающем в полумраке коридоре смутно виднелась фигура, судя по голосу, женская. – Это ведь вы Димочкин новый репетитор?
Не успела Анна ответить, как вспыхнул яркий свет, выхватив из темноты сухонькую, элегантно одетую пожилую женщину. Она смотрела на Анну поверх старомодных очков, и во взгляде ее читалось любопытство. – Ах, простите мою невежливость! – Женщина отступила на шаг, пропуская Анну в квартиру. – Я Ираида Павловна, домработница.
Домработница? Она не была похожа на домработницу. Чувствовалось в ее строгом и элегантном облике что-то неуловимо благородное, никак не вяжущееся с представлением Анны о прислуге.
– Ну, может, домработница – это не слишком верная формулировка, – усмехнулась женщина, забирая у Анны пальто. – Наверное, точнее будет – друг семьи. Очень старый друг. – В уголках ее рта появились и тут же исчезли горькие складочки. – Мы были дружны с Лидией, бабушкой Димочки. К несчастью, Лидия очень рано покинула этот мир, и я помогала ее супругу присматривать за детьми. Дети давно выросли, да и Дмитрий Васильевич, Димочкин дедушка, уже десять лет как покоится с миром, а я вот прикипела. Только в статусе все время путаюсь. – Она снова улыбнулась, на сей раз безо всякой грусти, и добавила: – Хороша же я! Вместо того, чтобы угостить вас чаем с дороги, прямо с порога принялась излагать подробности своей биографии. Вы уж простите, Аннушка, старикам всегда не хватает общения. Так как насчет чая? Некрасиво себя хвалить, но я испекла просто замечательные эклеры.
Анна колебалась лишь мгновение. На дворе было совсем не по-весеннему холодно и промозгло, даже руки озябли без перчаток.
– Димочки все равно еще нет, – продолжала уговаривать Ираида Павловна. – У него сегодня занятия по математике, звонил, что придет минут через пятнадцать. Так что мы с вами как раз успеем выпить по чашечке чаю. Вы же мне о себе еще совсем ничего не рассказали, Аннушка. – Женщина посмотрела на Анну поверх очков, во взгляде ее читалось вежливое любопытство. – Вы ведь недавно репетиторствовать начали?
– Недавно, – отрицать очевидное не было смысла. – До этого преподавала в школе, но обстоятельства…
– Обстоятельства. – Ираида Павловна кивнула, легонько тронула Анну за руку. – У всех у нас обстоятельства, Аннушка. Вам ведь о нашем Димочке еще не рассказывали толком ничего?
Еще как рассказывали! Недоросль, недоучка и сын богатых родителей – случай хоть и сложный, но очень хорошо оплачиваемый.
– Или рассказывали? – В голосе Ираиды Павловны прозвучала тревога.
– Кое-что. – Анна предпочла уйти от прямого ответа.
– А вы не верьте! Димочка – хороший мальчик, хороший и светлый. А странности… так у кого из нас в молодости не было странностей?
У Анны не было, но разубеждать Ираиду Павловну она не стала, послушно переобулась в предложенные нелепые розовые тапки, позволила увлечь себя в кухню.
– Вы уж извините, что я так по-свойски, не в гостиной, а тут. – Ираида Павловна накрывала на стол, на Анну старалась не смотреть. – Не люблю, когда официоз, да и уютнее тут.
На кухне, просторной, если не сказать огромной, и в самом деле было очень уютно, вкусно пахло специями и выпечкой. Анна сжала в ладонях толстостенную глиняную чашку, сделала осторожный глоток. Чай был щедро приправлен мятой и еще какими-то травками. Вкус у него оказался терпкий и тягучий, идеально подходящий к нежнейшим эклерам.
Она выпила полную чашку чая и, поддавшись уговорам гостеприимной хозяйки, съела целых три эклера, когда из прихожей послышался звук открывающейся двери.
– Димочка! – Ираида Павловна встрепенулась, торопливо встала из-за стола. – Сейчас, Аннушка, я вас познакомлю.
– С кем это ты собираешься меня знакомить, баба Ира? – На пороге кухни появился… надо думать, тот самый недоросль. Выглядел он так необычно, что Анне сразу стало понятно, почему Ираида Павловна пыталась убедить ее, что Димочка – добрый и светлый мальчик.
В недоросле Димочке доброты и света не чувствовалось ни на грамм, да и мальчиком его можно было назвать с большой натяжкой. Перед Анной стоял высокий, болезненно худой парень, с головы до ног одетый во все черное. Черный кожаный плащ, черные джинсы, черная водолазка, ботинки с высокой шнуровкой, массивные цепи на шее, кожаные браслеты на тонких запястьях, железный перстень в виде черепа, пирсинг на нижней губе. И даже его длинные волосы были иссиня-черными, наверняка крашенными.
Светлый мальчик Димочка смотрел на Анну сверху вниз, и на его выразительном и картинно красивом лице читалась такая очевидная скука, что Анне вдруг стало обидно. Она взрослая и умная. Она учительница, в конце концов! А он стоит тут и пялится. Недоросль!
– Димочка, – Ираида Павловна, которую грубое и пошлое «баба Ира» должно было оскорбить, но, кажется, совсем не оскорбило, с нежностью поцеловала недоросля в бледную щеку. – Димочка, а это Анна Владимировна, твой репетитор по биологии. Тебе же нужно готовиться к институту, – добавила она заискивающе.
– Ясно, баба Ира. – Недоросль стащил плащ, швырнул его на пустующий стул, сам уселся напротив Анны, закинув ногу на ногу. На подошвы его ботинок налипли жирные комья грязи, а от порога до стола шла черная цепочка следов. – Что-то я не пойму, у маман закончились деньги? С чего бы это ей нанимать для меня такую… – он помолчал, подбирая правильное слово.
– Молодую? – закончила за него Анна.
– Я бы выразился более категорично. – Недоросль растянул губы в саркастической улыбке, обнажая белоснежные зубы. Теперь, когда он сидел всего в полуметре от Анны, стало очевидно, что глаза у него подведены, а кожа отнюдь не природного оттенка. Пудра и подводка… какой ужас. – Но, если вам будет так угодно… – Он отвернулся, потеряв к Анне всякий интерес, попросил Ираиду Павловну: – Баба Ира, ты бы мне тоже чаю налила, а то на улице настоящая буря. Да и на кладбище холодина, замерз, как собака.
На кладбище? Вот оно что – ей достался в ученики не просто недоросль, а недоросль с готическим уклоном. Какая прелесть!
– Димочка, так ведь Анна Владимировна…
– Не Димочка, а Демос, – недоросль в раздражении дернул плечом, – баба Ира, ну сколько можно повторять?!
– Хорошо, Димочка. – Ираида Павловна покладисто кивнула. – Только, может, вы с Анной Владимировной сначала позанимаетесь? Время-то уже позднее.
– Анна Владимировна подождет. – Парень нагло ухмыльнулся и сцапал с подноса эклер. – Вы ведь подождете? – спросил с набитым ртом.
– Нет. – Анна тряхнула головой. – Занятия назначены на половину девятого, так что будьте любезны, – она бросила взгляд на часы и добавила не без злого умысла: – Дмитрий.
– Демос! – парень перестал улыбаться и побледнел очень даже натурально. – Меня зовут Демос!
– Да хоть Фобос. – Анна решительно встала из-за стола. – Моя задача – подготовить вас к поступлению в институт, а называть себя вы можете каким угодно именем. Ираида Павловна, не покажете, где нам лучше расположиться?
– Ты дура, да? – вдруг спросил недоросль. – Тебе ж бабки по-любому заплатят, так чего ты рыпаешься? Сиди, жри эклеры!
Анна была воспитанной девушкой, Любаша считала, что даже слишком хорошо воспитанной, но выпадали моменты, когда воспитание уходило на задний план, а на сцену, точно чертик из табакерки, выскакивала жгучая, необузданная ярость. И тогда воспитанная девочка Анна Алюшина переставала существовать, уступая место какой-то другой, совершенно незнакомой ей сущности. Случалось такое очень редко, но уж если случалось…
…Рука сама, помимо воли, потянулась к цепям на шее Димочки-Демоса, запуталась в холодных звеньях, с силой дернула вниз, вышибая из кадыкастого горла не то крик, не то шипение. Подведенные светло-голубые глаза теперь были совсем рядом, и в глазах этих читалось изумление пополам с чем-то непередаваемым.
– Жрать и рыпаться – это не те слова, которыми стоит изъясняться в присутствии женщин. – Собственный голос казался глухим и незнакомым, а кожа на ладони саднила от впившихся в нее цепей. – Вы меня понимаете, Дмитрий?
Вместо того чтобы ответить, парень дернулся с такой силой, что одна из цепей порвалась, оставляя на ладони Анны кровавую дорожку. Девушка разжала кулак, сложила руки на столе. Возбуждение, а вместе с ним и неконтролируемая ярость исчезли, голова сделалась пустой и звонкой. Первый трудовой день грозил оказаться последним.
– Господи, да что же это такое? – словно издалека донесся до нее голос Ираиды Павловны.
– Прошу прощения, плохой из меня репетитор. – Анна присела за стол, попыталась улыбнуться, но губы не слушались. – Я, наверное, пойду.
– Нормально все. – Димочка-Демос уселся рядом и, потирая шею, с интересом посмотрел на Анну. – Чай я могу и потом попить, пойдем… – он запнулся, – пойдемте заниматься.
– У вас кровь. – Ираида Павловна протянула Анне полотенце. – Вот, вытрите. Или, может, нужно рану обработать?
– Нет никакой раны, – Анна мотнула головой, – спасибо за чай. Эклеры были просто замечательными.
– Я рада. – Губ женщины коснулась легкая, чуть недоуменная улыбка. – Давайте, я провожу вас в кабинет.
– Я сам провожу, баба Ира. – Демос перехватил запястье Анны, внимательно посмотрел на кровоточащую царапину, ноздри его при этом жадно затрепетали.
Глупый мальчишка, начитался всякой дребедени про вампиров, насмотрелся фильмов про нечисть и теперь ведет себя как городской сумасшедший.
– У нас мало времени. – Анна высвободила руку из холодных пальцев Демоса, сказала официальным тоном: – Давайте, наконец, приступим к занятиям.
* * *
Она была странной, эта его репетиторша. С виду типичная училка – белый верх, черный низ, пуговки на блузке застегнуты все до единой, никакого простора для фантазии, а на ногах дежурные плюшевые тапки с помпонами, которые баба Ира выдает всем приходящим училкам. Маман никогда не ходила по квартире в тапках, только в туфлях и только на каблуке. Маман считала домашнюю одежду дурновкусием, и баба Ира, кажется, ее в этом поддерживала, тапки в их доме предназначались только для гостей. Ну и еще для отца, который уже лет десять вел незримый бой с маман за право ходить дома в старых, почти до дыр протертых кожаных шлепанцах. А Демосу было все равно: полы ведь с подогревом, можно и босиком.
Он сразу, с первого взгляда, понял, что с этой новой репетиторшей можно не церемониться. Он хорошо разбирался в людях, что бы там ни говорили предки и баба Ира. Овца, что сидела на его кухне в дебильных розовых тапках, не заслуживала не то что уважения, даже внимания. Впрочем, как и все ее предшественницы.
Дура! Набитая дура, по дурости своей считающая, что может научить его хоть чему-нибудь. Его, у которого за плечами три года жизни в Лондоне, идеальное произношение и широкий, не ограниченный железными шорами кругозор. Вырядилась в убогие свои шмотки, волосенки прилизала, завязала на макушке унылый и такой предсказуемый пучок и думает, что теперь ей, правильной и шаблонной до одури, все по зубам. Для завершения картины не хватает лишь очочков в тонюсенькой позолоченной оправе. И челка эта девчоночья до самых глаз совсем не в дугу. Челку могла бы тоже прилизать, чтобы не выбиваться из образа.
Баба Ира смотрела настороженно и просительно. Баба Ира, так же как и предки, искренне желала ему лучшей доли. И плевать им всем было на то, что для него, Демоса, лучшая доля – это отнюдь не медицинский институт, что есть в его жизни вещи куда интереснее и притягательнее, что плевать ему на всю эту людскую суету. И на бабенок, возомнивших себя училками, тоже плевать.
Как же он их всех ненавидел! Вот таких, правильных – черный низ, белый верх, самодовольных, ничего не смыслящих в смерти дур. Они появлялись в его жизни с удручающей регулярностью, и приходилось отвлекаться от главного, тратить силы и время на то, чтобы от них избавиться. Ничего, с этой будет легко. Эту можно сломать прямо сейчас, достаточно правильно подобранного слова.
Демос не любил хамство, но опыт подсказывал, что иногда именно хамство – самое надежное, самое безотказное средство, но на сей раз он ошибся. За внешностью безобидной овечки, за черно-белой униформой притаилась волчица. Мало того, что притаилась, она даже осмелилась напасть.
Ему не было больно. Ну, лишь самую малость. Он смотрел на капельки крови, собирающиеся в тонкий ручеек в ложбинке ее ладони, и чувствовал себя так, словно кто-то, тот, кто не имел на это никакого права, вторгся в его владения. Да не кто-то, черт побери, а простая училка, девчонка, которая понятия не имеет, что он за существо, которая смеет брезгливо морщиться при виде его одежды, смеет издеваться, проливать собственную ничтожную кровь на его территории.
Испуганный вскрик бабы Иры привел Демоса в чувство, приглушил бушующую в сердце ярость. Она ведь не нарочно, эта репетиторша. У нее просто так вышло, получилось задеть его за живое, на мгновение, всего на долю секунды взять над ним, Демосом, верх. Ничего, он может повременить. Он проявит терпение и дождется своего часа.
А училка оказалась не такой уж и глупой. Несмотря на молодость, она знала свое дело и ни разу не попала в интеллектуальные капканы, расставленные для нее хитроумным Демосом. Так даже лучше. Интересно, когда противник – не безропотная жертва, когда он умеет показывать зубы и даже может пустить их в дело. Шею саднило в том месте, где по вине училки в кожу впилось серебро цепи. Демосу приходилось делать над собой усилие, чтобы не касаться раны рукой, не показывать свою слабость.
Он слушал училку и украдкой, когда точно знал, что она не смотрит, изучал, пытался найти в ней ту необычность, которую чувствовал нутром, но которая так ловко пряталась за унылым черно-белым фасадом. Была у Демоса такая особенность: он мог держать под контролем сразу несколько дел. Отец в шутку называл его Юлием Цезарем, а сам Демос считал, что способен на гораздо большее, чем какой-то там Цезарь.
Демос с раннего детства жил с ярким и колючим, как иголка, чувством собственной исключительности. Его попеременно считали то вундеркиндом, то олигофреном. В три года Демос умел читать, в четыре выучил таблицу умножения, и его сразу записали в гении, а в пять он решил, что жизнь – скучная штука, и замолчал на год. Это был забавный год: врачи, детские психологи, консультации, слезы маман, невыплаканное горе бабы Иры и хмурая озадаченность отца. А еще Демоса, как ставшего вдруг бесперспективным и умственно отсталым, выгнали из элитного детского сада, предложив родителям взамен направление в спецсад для детей с особенностями психики. О, это был не только забавный, но и едва ли не лучший год в его жизни! На целый год единственными воспитателями Демоса стали книги и баба Ира.
В их доме не водились детские книжки, так его ли вина, что к шести он знал наизусть всего Шекспира, цитировал библию и разбирался в сотнях вещей, в которых смог бы разобраться далеко не всякий взрослый?! Да, в шесть Демос снова заговорил, цитатой из Ветхого Завета до икоты напугав маман, доведя бабу Иру до слез умиления, а отца заставив надолго задуматься.
В школу Демоса отдали в неполных семь лет, в очень престижную, очень специальную и дорогую школу. Он с блеском прошел вступительные экзамены, со снисходительной улыбкой выслушал восторженные ахи и охи от учителей и снова ушел в себя.
Причина была до боли банальна: со сверстниками, глупыми и суетливыми, Демосу оказалось невыносимо скучно, его непохожесть на других вдруг стала бросаться в глаза. Его оскорбляли, обзывали глупыми словами, отвлекали от спасительной самопогруженности тычками и затрещинами. Здесь, в школе, его способности и одаренность никого не волновали. Здесь обращали внимание не на содержимое, а на обертку. И Демос сменил обертку.
Маман была несказанно рада, когда единственный сын вдруг начал проявлять интерес к тому миру, который был ей дорог и близок, к миру вещей. Импортные шмотки, крутые примочки и навороченные дивайсы – теперь Демос научился разбираться и в таких глупых, ненужных на первый взгляд вещах. Конечно, можно было пойти другим путем. Можно было, как однажды робко, с оглядкой на маман предложил отец, заняться спортом и показать обидчикам, чего он стоит. Но спорт – это слишком грубо, слишком утомительно и неизящно. Манипулировать человеческими страстями и слабостями гораздо интереснее, чем калечить физические оболочки.
Демос очень быстро стал непревзойденным манипулятором, всего за пару месяцев из лузера превратился в лидера. Теперь к его голосу прислушивались, в его глаза заглядывали, его мнением дорожили. А он, добившись своего, снова заскучал.
Когда Демосу исполнилось тринадцать, отцу, к тому времени снискавшему славу ученого с мировым именем, предложили работу в Лондоне, и Демос снова оказался в новой для себя среде.
Англию он полюбил всем сердцем: за туманы, за веками копившуюся в старых стенах мрачную унылость, за необычное соседство прогресса и анахронизма. А еще за то, что Англия подарила ему знакомство с Пилатом…
Пилат был русским, но не из тех русских, которые праздными туристами шатаются по улицам Лондона, и не из тех, которые прикупили себе в городе особняки, квартиры, студии, успешно ассимилировали и со сдержанной, истинно английской снисходительностью посматривали на своих менее удачливых соотечественников. Пилат не принадлежал ни к тем, ни к другим. Он был особенный. Демос, который особенность и необычность чувствовал нутром, определил это сразу, с одного взгляда. И дело здесь было не во внешних проявлениях, на улицах Лондона Демос видал и не таких фриков. Пилат, казалось, жил вне жизни. Он был сам по себе, а жизнь обтекала его мутным потоком, не рискуя коснуться даже рукава его черного-черного кожаного плаща, испуганно шарахаясь в сторону под взглядом его пронзительных, тоже черных-черных глаз.
А Демос не шарахнулся, не попытался отвести взгляд, уступить дорогу или торопливо перейти на другую сторону улицы. Он замер прямо на пути этого высокого, грозного, одетого во все черное человека, давая понять, что тоже особенный, только еще не нашедший своего места в мире. И Пилат это понял. Ему хватило одного взгляда, одного вскользь брошенного слова, чтобы над стенами неприступной крепости, в которую Демос упрятал свой хрупкий внутренний мир, зареял белый флаг.
Пилат был не просто особенным, не просто гением, не просто королем готов. Пилат стал для Демоса Учителем. Они общались урывками, но достаточно регулярно. У Пилата в Лондоне был какой-то личный интерес. Настолько сильный, что заставлял его прилетать из России едва ли не еженедельно. Однажды Демос попытался проследить за ним, но тут же оказался пойман с поличным. Пилат не ругался и не упрекал, он просто рассказал о доверии, о том, как важно человеку иметь внутреннее пространство, и как ему может быть больно, когда в это пространство грубо вторгаются посторонние, и Демос вдруг все понял. Наверное, потому, что свое собственное внутреннее пространство он охранял с такой же точно тщательностью.
Следующий вечер Пилат посвятил исключительно Демосу. Прогулки по сонным лондонским пригородам, звенящая тишина заброшенных склепов и старых кладбищ, запах ладана и прелых осенних листьев, ветер в лицо и полные неизъяснимой тоски стихи. Пилат умел ценить и воспевать не только смерть, но и жизнь. Он учил Демоса гармонии и балансу, хотя по горькому выражению его собственного лица было очевидно, что гармония недостижима, а баланс уже давно сместился в сторону смерти. Демос чувствовал этот надлом и считал его единственно верным. Ему не нравилось слово «гармония», ему хотелось скользить по самому краю вместе с Пилатом. Он даже одеваться стал так же – во все черное, и темно-русые от рождения волосы перекрасил в черный цвет. У маман случилась истерика и нервный срыв, а Пилат не оценил, Пилат снова завел разговор о гармонии.
Он исчез из жизни Демоса внезапно, и исчезновением своим еще раз доказал, что смерть куда как привлекательнее жизни. Тело Пилата выловили из Темзы, мертвое тело, оболочку освободившейся от серости души. Об этом много писали в газетах: Пилат не был обычным готом, он был особенным и очень влиятельным, настолько влиятельным, что его уход не остался незамеченным. Вокруг его смерти ходило много слухов, полиция рассматривала все возможные варианты, начиная с предумышленного убийства и заканчивая несчастным случаем, и только Демос точно знал, что Пилат всех обманул, из двух зол, жизни и смерти, выбрал самое красивое и гармоничное.
Демос рвался в Россию, чтобы проститься с Пилатом, проводить единственного друга до незримой черты, за которой начинается та самая гармония, но родители не отпустили. Он вернулся на родину только спустя несколько лет, целый месяц потратил на поиски могилы Пилата и нашел-таки.
Кладбище старое, заброшенное, с разграбленной часовней и с кряжистыми липами над позабытыми могилами. Могила Пилата тоже была позабыта. Почти. На влажном от осеннего дождя надгробии лежали белые лилии, пожухшие, но все еще цепляющиеся за жизнь, дисгармоничные. Демос не знал, что им двигало, но из мстительного мальчишеского чувства он смахнул лилии с надгробия.
С тех пор Демос стал частым гостем на старом кладбище, теперь он приходил сюда на правах званого гостя, изучал надписи на надгробиях, бродил между древних, с землей сровнявшихся могил, прислушивался к тревожному шелесту вековых лип, искал и никак не находил свою собственную гармонию.
А родители желали ему другой доли и не хотели даже выслушать. Демос попробовал уйти из дома, но его нашли на следующий же день. Мама рыдала, называла его бесчувственным подонком, отец по старой своей привычке отмалчивался, но хмурился все чаще, а у бабы Иры стало совсем плохо с сердцем. Тогда Демос поклялся, что больше никогда не сбежит, но вечерами стал пропадать на кладбище. Учебу он тоже забросил, и маман тут же наняла свору репетиторов. И вот сейчас одна из этой своры, нервно барабаня тонкими пальцами по столешнице, спрашивала, доходчиво ли она объясняет. Демосу пришлось вынырнуть из воспоминаний и повторить слово в слово все, сказанное училкой. Александр Македонский…