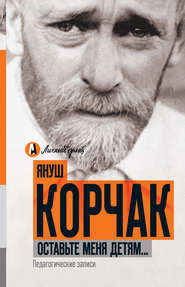скачать книгу бесплатно
Оставьте меня детям… Педагогические записи (сборник)
Януш Корчак
Личный архив
Януш Корчак – величайший педагог-новатор, замечательный писатель, и что крайне важно, его книги не имеют градуса актуальности привязанного ко времени, к конкретной эпохе. Книги Корчака будут читать учителя и родители, дети и подростки во все времена, ибо книги эти – синтетика трагедии и света, души и ума, а в совокупности – служения. Служения детям, служения детскому счастью. «Дневник» Януша Корчака, написан в гетто весной – летом 1942 года. Документ страшного времени имеет особую силу и в полном объеме до сих пор не был переведен на русский язык.
Януш Корчак
Оставьте меня детям…
Педагогические записи
Все права защищены.
Ни одна из частей этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Л. Стоцкая, перевод с пол. яз., 2016
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017
Дневник
май – август 1942
Первая часть
Мемуары – литература унылая и мрачная. Художник или ученый, политик или диктатор вступают в жизнь, полные честолюбивых намерений, мощных, безупречных, победных деяний – живая энергия действия. Они возносятся вверх, преодолевают препятствия, расширяют сферу своего влияния, вооружаясь опытом и приобретая единомышленников; все плодотворнее, все легче, этап за этапом стремятся они к своим целям. Так проходит десять лет, иногда – два-три десятилетия. А потом…
Потом накапливается усталость, потом – шажок за шажком, но упрямо по той же, однажды выбранной дорожке. Удобным проторенным путем, с меньшим пылом и мучительной убежденностью, что все не так, что слишком мало [сделано][1 - Здесь и далее в квадратных скобках приводятся восстановленные по смыслу пропуски слов. – Прим. лит. ред.], что в одиночку куда труднее. Прибавляется серебра в волосах и морщин на некогда гладком и дерзновенном челе, а глаза все слабее, кровь все медленней кружит в теле, и ноги еле волокутся.
Что поделать – старость.
Один упрямится и [не] сдается, жаждет, как и раньше, даже сильнее, лишь бы успеть. Он обманывается, защищается, бунтует и мечется. Другой же в скорбном смирении не только от всего отрекается, но даже идет на попятную.
Я больше не могу…
Даже пробовать не хочу…
Не стоит и пытаться…
Я уже ничего не понимаю…
Кабы вернули мне урну с пеплом жизни, что я прожигал, энергию, растраченную на заблуждения, расточительный размах прежних сил…
Новые люди, новые поколения, новые нужды. Вот уже и его все раздражают, и он всех раздражает – и сразу недопонимание, а потом уже и постоянное непонимание: эти их жесты, их шаги, эти их глаза и белые зубы, и лоб гладкий… ладно, хотя бы помалкивают…
Все и всё вокруг, и земля, и ты сам, и [новые] звезды говорят тебе:
– Довольно… Тебе – закат… Теперь мы… Тебе – итог… Ты твердишь, что мы всё [делаем не] так… Мы и не спорим – тебе лучше знать, ты умудрен опытом, но позволь нам самим попробовать.
Таков порядок жизни.
Таков и человек, и зверь, да и деревья, наверное… Камни – другие, но кто знает; теперь их воля, мощь и время.
Тебе сегодня – старость, а завтра – дряхлость.
И все быстрее хоровод стрелок на циферблатах.
Сфинкса каменный взор задает извечный вопрос:
– Кто утром на четырех ногах, в полдень резво на двух, а вечером – на трех?
Ты. Опираясь на палку, загляделся на гаснущие холодные лучи заходящего солнца.
В собственной биографии я попробую по-другому. Может, это удачная мысль: вдруг получится, вдруг именно вот так нужно.
Когда копаешь колодец, то начинаешь работу не со дна; сначала широко разметываешь верхний слой, откидываешь землю, лопата за лопатой, не ведая, что там, глубже: сколько переплетенных корней, какие препятствия и провалы, сколько досадных, закопанных другими, да и тобой позабытых камней и разных жестких штук.
Решение принято. Довольно сил, чтобы начать.
Но бывает ли вообще на свете завершенная работа?
Поплюй на ладони. Покрепче ухвати лопату. Смелее.
Раз-два… раз-два…
– Бог в помощь! Дедуль, ты чего задумал?
– Сам видишь. Ищу подземный источник, живительную чистую стихию вызволяю, воспоминания расчищаю.
– Тебе помочь?
– О нет, голубчик мой, тут каждый сам должен постараться. Никто не придет на выручку, никто тебя не сменит. Все остальное можем делать вместе, коли ты мне еще доверяешь и сколько-нибудь да ценишь. Но эту свою последнюю работу я сам должен сделать.
– Дай Бог сил…
Вот так-то…
Я намерен ответить на лживую книгу фальшивого пророка. Много та книга сотворила зла.
***
Так говорил Заратустра[2 - В переводе Вацлава Берента 1905 г. Одна из книг, прочитанных Корчаком в юности, ссылку на которую он впервые дает уже в 1901 г.].
И я беседовал – имел честь с Заратустрой беседовать. Его премудрые посвящения в тайны, тяжелые, жесткие, острые. Тебя, бедный философ, завел бы он за темные стены и частые решетки дома скорби, да ведь так оно и было. Вот же оно, черным по белому:
«Ницше умер в разладе с жизнью – сумасшедшим».
Я же в своей книге хочу доказать, что умер он в мучительном разладе с истиной.
Тот же самый Заратустра меня учил другому. Может, у меня слух поострее, может, я вслушивался внимательнее.
В одном мы сходимся: дороги (и мастера, и моя – ученика) тяжкими были. Поражения куда чаще побед, много кривых дорожек, а значит, время и силы потрачены впустую. Казалось бы, впустую.
Ибо в час расплаты – не в одинокой келье самого скорбного лазарета […] и бабочки, и кузнечики, и светляки, и солист в высочайшей синеве – жаворонок.
***
Господь благ.
Спасибо тебе, добрый Боже, за луга и красочные закаты, за живительный вечерний ветерок после знойного дня пахоты и труда.
Спасибо, добрый Боже, что так мудро придумал: цветы пахнут, светлячки светят на земле, а искры звезд – на небе.
Как же радостна старость.
Как приятна тишина.
Сладкий отдых.
«Человек, безмерно Тобой одаренный, Тобой сотворенный, Тобой же спасенный…»[3 - Цитата из «Утренней песни» Франтишека Карпинского (4 октября 1741 г. – 16 сентября 1825 г.), польского поэта, драматурга, представителя сентиментализма, автора многих религиозных гимнов и стихов.]
Ну, довольно.
Начинаю.
Раз-два.
Греются на солнышке два деда.
– Вот скажи, старый хрыч, как это ты еще умудряешься жить?
– Ну так я жизнь вел солидную, размеренную, без потрясений и переворотов. Не пью, не курю, в карты не играю, за юбками не бегал. Никогда не голодал, не перерабатывал, ничего наспех не делал, ни во что рискованное не встревал. Всегда все вовремя и в меру. Сердца не надрывал, легкие не раздирал, голову себе не морочил. Умеренность, спокойствие и рассудительность. Вот я и жив до сих пор. A вы, коллега?
– А я-то немного по-другому. Раздают синяки да шишки – я тут как тут. Я еще сопляком был, как пошли первые протесты да перестрелки. И ночи бессонные были, и тюрьма: ровно в такой дозе, чтобы молокососа хоть немного пообтесать-укоротить[4 - Обстоятельства первого ареста Корчака неизвестны (второй раз его задержали на две недели в 1909 г.); возможно, впервые он подвергся аресту в феврале-марте 1899 г. (тогда он был студентом 1-го курса медицинского факультета) в связи со студенческими волнениями в Варшавском университете и других учебных заведениях. Далее Корчак вспоминает свое участие в Русско-японской войне на Дальнем Востоке; мобилизованный в июне 1905 г., он вернулся домой в марте 1906 г.]. Потом война. Так себе, ничего особенного. Далеко пришлось идти, за Уральские горы, за байкальские моря, за [земли] татар, киргизов, бурятов, до самых китайцев. Только докатился я до маньчжурской деревни Таолайчжоу, глядь – опять революция. Потом ненадолго мир-покой воцарился. И водку я пил, как не пить, и жизнь, не мятый рубль, на карту ставил. Только вот на девчонок времени у меня не хватило… а так, кабы не это, да не то, что стервы они, до ночей охочие, да еще и детей рожают… Пакостная привычка. Один раз я попался. Потом на всю жизнь охоту отбило. Хватит с меня. И угроз, и слез. Сигареты курил без счету. И днем, и ночью, и в размышлениях, и в спорах, одну от другой прикуривал, дымил как паровоз. На мне живого места нет. Спайки, боли, грыжи, шрамы, весь на ходу разваливаюсь, скриплю, а вот ведь живу и пру напролом. И еще как! Спросите тех, кто мне поперек дороги встает. Как дам леща – мало не покажется. И сейчас бывает, целая банда меня на цыпочках по стеночке обходит. Да у меня и друзья-приятели есть.
– И у меня тоже. У меня и дети есть, и внуки. A у вас, коллега?
– У меня их двести.
– Шутить изволите, господин хороший?
***
Сейчас 1942 год. Май. Холодный в этом году май. И эта сегодняшняя ночь – тишайшая из тишайших. Пять часов утра. Дети спят. Их на самом деле две сотни. В правом крыле пани Стефа[5 - Стефания Вильчинская (1886–1942), главная воспитательница Дома сирот; руководила детским домом совместно с Корчаком с самого начала его существования (с октября 1912 г.).], я в левом, в так называемом изоляторе[6 - Дом сирот на Сенной, 16 / Слиской, 9 (здание Общества работников торговли и промышленности), с конца октября 1941 г. был также изолятором для больных.].
Моя кровать в центре комнаты. Под кроватью – бутылка водки. На тумбочке ржаной хлеб и кувшин воды.
Любезный Фелек[7 - Феликс Гжиб (1917–1943?), выделявшийся успехами воспитанник, позже вместе с женой Бальбиной («пани Блимка»), бурсисткой Дома сирот, – его сотрудник.] наточил мне карандаши, каждый с двух сторон. Я бы мог писать вечным пером, одно мне дала Хадаска[8 - Письмо к девочке с таким именем (она не была воспитанницей Дома сирот) см. в главе [Неизвестной девочке].], а второе – папа непослушного сыночка.
От этого карандаша у меня вмятина на пальце. И только сейчас до меня дошло, что можно по-другому, можно удобнее, пером писать легче.
Недаром папенька[9 - Юзеф Гольдшмидт (1844–1896), адвокат, общественный деятель, автор публикаций. (О семье Корчака см.: Maria Falkowska. Rodowоd Janusza Korczaka // Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego. – 1997. – № 1.)] называл меня в детстве раззявой и балбесом, а в бурные моменты так даже идиотом и ослом. Одна только бабушка[10 - Единственная бабка Корчака со стороны матери – Эмилия (Мина) Гембицкая, урожденная Дайтхер (1832–1892); бабушка и дедушка по мужской линии умерли до рождения Корчака (1878 или 1879 г.).] верила в мою звезду. А так – лентяй, плакса, нюня (я уже говорил), идиот, все ему до лампочки.
Но об этом потом.
Они были правы. Поровну. Напополам. Бабуля и папа.
Но об этом потом.
***
Лентяй… это заслуженно… Не люблю писать. Думать – другое дело. Мне это не составляет труда. Я словно сам себе сказки рассказываю.
Я где-то прочитал:
«Есть люди, которые так же не думают, как другие не курят».
Я – думаю.
***
Раз-два… раз-два.
На каждую неловкую лопату земли, выброшенную из моего колодца, я обязательно засматриваюсь. Задумываюсь минут на десять. И не в том дело, что я нынче слабый, потому как старый. Так всегда было.
Бабушка угощала меня изюмом и приговаривала:
– Философ.
Видимо, я уже тогда в приватной беседе посвятил бабушку в свой дерзкий план переустройства мира. Ни много ни мало: выбросить все деньги. Как и куда выбросить и что потом делать, я точно не знал. Не судите слишком строго. Было мне тогда пять лет, а проблема была невообразимо трудной: что делать, чтобы не было детей грязных, оборванных и голодных, с которыми мне нельзя играть во дворе, где под каштаном похоронена в вате, в жестянке из-под леденцов, первая моя покойница, близкая и ненаглядная, пока только канарейка. Ее смерть поставила передо мной таинственный вопрос веры.
Я хотел на ее могилке поставить крест. А служанка сказала, что нельзя, это же птица, она ж куда ниже человека. Даже плакать по ней грешно.
Ну, это служанка. Хуже то, что сын дворника заявил: канарейка моя была еврейкой.
И я еврей. А он – поляк и католик. Вот он точно попадет в рай, а я, если не буду говорить ругательных слов, а буду послушно приносить ему наворованный дома сахар, после смерти попаду в какое-то такое место, которое вообще-то не ад, но там темно. А я боялся темных комнат.
Смерть – Еврей – Ад.
Черный еврейский рай.
Было над чем подумать.
***
Я лежу в кровати. Кровать в центре комнаты. Квартиранты мои – Монюсь-младший (Монюсей у нас четверо[11 - См. далее. Например, о Монюсе Фрайбергере в главе «Бюро советов и новенькие».]), потом Альберт, Ежи. С другой стороны, вдоль стены, Фелюня, Геня и Ханечка.
Двери в спальню мальчиков открыты. Их шестьдесят штук. А слегка на восток от них спят тишайшим сном шестьдесят девочек.