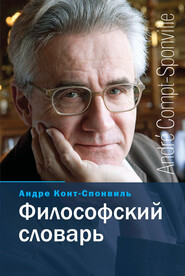скачать книгу бесплатно
Мы не знаем, есть Бог или нет, – мы не можем этого знать. Именно поэтому существует вера и атеизм – два вида убеждений. По этой же самой причине существует и агностицизм, отвергающий веру в то, чего не знаешь. Вполне достойная позиция, в основе которой, на первый взгляд, лежит здравый смысл. Действительно, о каком выборе может идти речь, если толком не знаешь, что выбираешь? И тем не менее эта видимость разумного подхода обманчива. Если бы мы знали наверняка, есть ли Бог, вопрос выбора вообще не стоял бы. Но разве может человек жить без убеждений?
В переводе с древнегреческого agnostos означает «неизвестный» или «непознаваемый». Быть агностиком значит принимать эту неизвестность всерьез и не пытаться из нее выбраться. Агностик просто признает, что не знает, и на этом ставит точку. Несмотря на достаточно большой смысловой потенциал, слово «агностицизм» употребляется исключительно в религиозном контексте. Если Бог абсолютно непознаваем, а смерть полностью непознаваема, то агностик воздерживается от высказываний в адрес и того и другой. Он предпочитает оставить вопрос открытым, очевидно полагая, что смерть его «закроет» или, по меньшей мере, осветит. Слабое место агностицизма вытекает из его очевидности. Агностицизм – крайне ограниченное учение именно в силу того, что оно само не ставит перед собой никаких границ. Раз никто точно не знает, есть ли Бог, значит, мы все вроде бы должны быть агностиками. Но тогда признание в собственном невежестве перестанет быть отличительной чертой агностицизма и превратится в одну из характеристик человеческого рода как такового. Что же тогда останется от агностицизма? Выходит, он существует только благодаря тому, что существует что-то другое, от чего он отличается. Быть агностиком значит не столько признаваться в незнании (это признают также многие атеисты и верующие), сколько цепляться за это незнание. Но как убедиться, что эта точка зрения самая правильная, если за ней нет гарантии знания? Значит, в нее надо верить. Вот почему агностицизм это тоже разновидность веры, только веры негативной – веры в собственное неверие.
Агония (Agonie)
По-гречески agonia значит «страх», agon – «битва». Агония и есть битва – последняя безнадежная битва за жизнь со смертью. Почти все люди испытывают перед ней страх, и только мудрецы принимают как должное. Единственным победным исходом этой битвы мог бы стать покой, и счастливы те, кто сумел познать его еще при жизни. Стоит ли бороться до конца только ради того, чтобы умереть вооруженным до зубов? Уж лучше оставить жизнь – когда она тебя оставляет – с тихим достоинством. И спасибо врачам, которые в решающий момент приходят к нам на помощь.
Агора (Agora)
Городская площадь в Греции, в частности в Афинах. На такой площади философствовал Сократ. Но агора являла собой прежде всего центр общественной и политической жизни, поэтому в расширительном значении агорой иногда называют спор или дискуссию, протекающую в демократической обстановке. Помню, на каком-то коллоквиуме один из коллег с упреком спросил меня, почему я «дезертировал с агоры» (я провинился только в том, что затронул старую как мир тему мудрости, вместо того чтобы присоединиться к обсуждению злободневного сюжета). Не прошло и нескольких секунд, как тот же самый коллега бросил мне еще один упрек – в том, что я, по его мнению, «популярный мыслитель», потому что он как-то видел меня по телевидению. Что ему ответить? Что телевидение в наше время – это та же агора (или ее часть) и что нет никакого противоречия между тем, чтобы в качестве философа заниматься поисками мудрости, и тем, чтобы в качестве гражданина выступать за справедливость? Сократ, хоть и выступал на городской площади, никогда бы не спутал философское сочинение с избирательным бюллетенем…
Агрессивность (Agressivitе)
Предрасположенность к физическому или словесному насилию, сопровождаемая склонностью напасть первым. Агрессивность – одновременно и сила, и слабость. Можно сказать, что это сила слабых Именно они полагают, что лучшая оборона – это нападение. В этом они конечно, правы. Но стоит задуматься: почему же им все время приходится обороняться?
Ад (Enfer)
Место величайших страданий. Религия часто называет адом кару, которая после смерти ожидает нечестивцев. Материалисты, для которых смерть – ничто, рассматривают его скорее как метафору. «Именно в этом мире, – пишет Лукреций (15), – жизнь дураков становится настоящим адом». Увы, не только дураков. И избавляет от этого ада не ум, а смерть.
Адаптация (Adaptation)
Изменение того, что поддается изменению, при столкновении с тем, что изменению не поддается. Например, учит Декарт, легче изменить свои желания, чем существующий миропорядок. Умный марксист сказал бы, что легче изменить общество, чем человеческую природу.
Вот почему жизнь есть адаптация к закону реальной действительности, который гласит: изменение или смерть.
Адекватность (Adеquation)
Полное или предположительно полное соответствие между двумя сущностями, в частности соответствие между идеей и ее предметом. Это соответствие во многом остается загадкой, поскольку речь идет о двух различных сущностях, не поддающихся абсолютно надежной проверке. Единственным способом могло бы стать сравнение предмета и его идеи, но, к сожалению, и то и другое известно нам исключительно в виде идей, которые мы генерируем о них.
Фома Аквинский (16) вслед за Авиценной (17) и Аверроэсом (18) дал определение истины как адекватного соответствия между вещью и интеллектом (adequatio rei et intellectus). Но возможным это соответствие делает то же, что вызывает его необходимость, потому что вещь и ее понимание две разные сущности. Адекватность – отнюдь не сходство. Идея круга не круглая, а идея собаки не лает, иначе говоря, в этих идеях нет ничего похожего на собаку или круг. Но, оставаясь в области мышления, эти идеи сообщают нам истину, неведомую ни кругу, ни собаке. «Под адекватной идеей, – пишет Спиноза, – я разумею такую идею, которая, будучи рассматриваема сама в себе, без отношения к объекту, имеет все свойства или внутренние признаки истинной идеи». Иначе невозможно было бы узнать, истинна ли она (поскольку сравнить ее с объектом можно лишь при условии, что он находится в нас, а это не так), и именно поэтому абсолютная истина непознаваема. Тем не менее, продолжает Спиноза, «истинная идея должна быть согласна со своим объектом». Вот это соответствие, или адекватность, и есть подлинная загадка мышления. Вселенная адекватна математике или математика адекватна Вселенной?
Разгадкой этой тайны мог бы быть только Бог. Но, несмотря на все усилия Спинозы, мы так и не имеем о нем адекватного представления.
Академизм (Acadеmisme)
Чрезмерно строгое подчинение правилам школы или традиции в ущерб свободе, оригинальности, изобретательности, смелости. Склонность перенимать у учителей прежде всего то, что действительно легко поддается подражанию (учение, манеру поведения, причуды), а не то, что на самом деле важно, но подражать чему гораздо труднее. В стиле письма – чрезмерное увлечение научным, «профессорским» стилем. Академизм – стремление больше общаться с коллегами, чем с широкой публикой. Оно редко приносит ожидаемые плоды. Коллеги, они же соперники, испытывают от академизма такую же скуку, как и все остальные, зато ненавидеть умеют гораздо сильнее.
Академики (Acadеmiciens)
Члены академии, в том числе знаменитой Академии Платона и его учеников. В философском языке XVI–XVII веков слово обозначает одно из течений скептицизма, к которому принадлежали Аркесилай, Карнеад и Клитомах, именовавшие свою школу Новой Академией. По словам Монтеня, они «потеряли надежду найти искомое и пришли к выводу, что постичь истину нашими средствами невозможно». Чем они отличались от пирроников? Двумя вещами. Как объясняет тот же Монтень, академики утверждают неопределенность всего, тогда как Пиррон не утверждает ничего; академики признают, что есть вещи более или менее вероятные, тогда как Пиррон не признает ничего. Скепсис академиков носит одновременно и более крайний, и более умеренный характер, являя собой нечто вроде догматического скептицизма («незнание, которое знает, что оно не знает, или претендует на подобное знание»). Его логическим продолжением должен стать скептический догматизм (догматизм вероятного). Позиция сторонников Пиррона противоположна и являет собой скептический скепсис («незнание, которое не знает, знает ли оно или не знает»), приводящий лишь к сомнению или молчанию.
Академический (Acadеmique)
Свойственный школе или университету. Чаще всего употребляется в негативном смысле («академический стиль»). Приблизительно синонимичен понятию «школьный» (плюс высокие претензии) или «схоластический» (минус теология).
Академия (Acadеmie)
Имя собственное, первоначально обозначавшее школу Платона (он учил в садах, расположенных на северо-западе Афин и называвшихся Akademos). Вопреки направлению своего основателя, Академия впоследствии стала очагом скептицизма. Возможно, это знаменовало попытку отхода от идей Платона ради возвращения к мудрости Сократа.
Академией в широком смысле называют любое объединение людей ученых или просто знающих, равно как и людей, считающих себя таковыми.
Акосмизм (Acosmisme)
Слово, образованное по той же модели, что и «атеизм», и означающее «неверие в существование мира», то есть космоса. Гегель приписывает акосмизм Спинозе, полагая, что тот верит только в Бога («Энциклопедия философских наук», I, § 50). Утверждение, конечно, нелепое. Если Бог и Природа – одно и то же, значит, природа существует. И мир тоже существует, независимо от того, как его определять: как бесконечную совокупность конечных модусов (порожденная природа) или как бесконечный опосредствованный модус атрибута протяженности (facies totius universi; Письмо LXIV). Мир – не Бог (ибо мир существует в Боге и является результатом его творения), но он и не ничто. Учение Спинозы – не атеизм и не космизм. Реальность мира с необходимостью вытекает из могущества Бога или природы («Этика», часть I, теорема 16) и подразумевает его (I, 15 и доказательство). Спиноза выразил все это еще проще: «Чем больше познаем мы единичные вещи, тем больше познаем Бога» (V, 24).
Акроаматический (Acroamatique)
Научный синоним эзотерического. Термин связан с именем Аристотеля. Свои акроаматические сочинения Аристотель адресовал ученикам, в отличие от трудов экзотерических, обращенных к более широкой аудитории и сегодня почти полностью утраченных. Чтение первых позволяет нам составить представление о том, насколько высок был уровень подготовки учеников Аристотеля, и одновременно заставляет горько сожалеть об утрате вторых, вызывавших такое восхищение современников мыслителя.
Аксиология (Axiologie)
Учение о ценностях и изучение ценностей. Аксиология может быть объективной (если рассматривает ценности как факты) или нормативной (если признает их в качестве ценностей). Вторая вытекает из первой, но первая имеет значение только в сочетании со второй.
Аксиома (Axiome)
Недоказуемое положение, служащее для доказательства других положений. Являются ли аксиомы истинными? Долгое время считалось, что являются. По мнению Спинозы или Канта, аксиома – это истина, очевидность которой ясна без доказательств, а потому и не нуждается в них. Современные математики и логики склонны рассматривать аксиомы как чистые конвенции или гипотезы, которые не могут быть очевидными истинами. Отныне истина заключается не в самих положениях (если аксиома не есть истина, ни одна теорема не может быть истинной), а в объединяющих их отношениях импликации или дедукции. Следовательно, аксиом в традиционном понимании термина не существует, есть лишь постулаты (Постулат). Но и это заявление – постулат, а не аксиома.
Аксиоматика (Axiomatique)
Совокупность аксиом, а иногда, в широком смысле, и совокупность выводов, которые можно сделать из этих аксиом, не прибегая к эмпирическим данным. Аксиоматика есть формальная гипотетико-дедуктивная система. Математика, например, являет собой пример аксиоматики, вернее, нескольких аксиоматик, и не случайно математику подразделяют на отдельные дисциплины. А как с логикой? Если бы логика сводилась только к аксиоматике, она не могла бы претендовать на истинность. Что тогда осталось бы от наших истин?
Факт, что ценность аксиоматики прямо пропорциональна ее разумности, еще не позволяет нам рассматривать сам разум как один из видов аксиоматики и принимать какую-либо аксиоматику за разум.
Акт (Acte)
Нечто сделанное (латинское actum происходит от глагола agere – делать). В психологии и этике акт – синоним действия, хотя бывают и непроизвольные акты (оговорка, тик, ошибочное действие). В этом смысле акт как нечто сделанное противостоит данному в ощущениях или являющемуся результатом воздействия. С точки зрения онтологии акт противостоит потенции, как реальное (сделанное) противостоит возможному (тому, что может быть сделано). «Акт, – говорит Аристотель, – это факт, доказывающий, что данная вещь существует в реальности». Например, статуя существует в потенции до тех пор, пока пребывает в виде мрамора, и актуализируется, как только скульптор завершит работу над ней.
Разумеется, оба понятия относительны. Дуб пребывает в желуде, существующем актуально, в виде потенции, но и желудь в свою очередь пребывает в актуальном дубе в виде потенции. Но и мрамор актуален (как нечто реальное, исполненное, завершенное) – как до своего превращения в статую, так и после него. Тем не менее первичен именно акт, и в этом Аристотель совершенно прав: не реальное рождается из возможного, а возможное из реального.
Впрочем, в настоящем и акт, и потенция слиты воедино: здесь и сейчас возможно только то, что есть на самом деле. Это и есть бытие как потенция в действии (energeia, conatus).
Активность (Activisme)
Преувеличенная вера в действие и его возможности. Обычно активному действию противопоставляют теоретизирование. Есть ли способ преодолеть недостатки того и другого? Есть. Это осмысленное и продуманное действие – мышление в действии.
Актуализм (Actualisme)
Учение, согласно которому все сущее существует актуально, то есть в действительности. Значит ли это, что возможное не существует? Вовсе нет. Дело в том, что в настоящем возможное и реальное суть одно и то же. Видами актуализма являются учение стоицизма и учение Спинозы, и это, на мой взгляд, самое ценное в обеих школах. Нет бытия в потенции, есть лишь потенция бытия и его постоянный переход в действие, то есть в акт, который мы и называем миром или становлением.
Акцидент (Accident)
То, что случается с кем-то или с чем-то (от латинского accidere – «падать на что-либо»). Акцидент как случающееся следует отличать от субъекта (субстанции), с которым он случается, сущности, без которой субъект не может существовать, наконец, от специфических или постоянных свойств, присутствующих в субъекте всегда, а не возникающих в результате случайности. Например, тот факт, что человек сидит, это акцидент (он мог бы лежать или стоять и при этом оставаться человеком). То, что он человек, – это его сущность. То, что он наделен разумом, способен заниматься политикой или смеяться, – его свойства.
Вот почему Эпикур говорит, что время есть акцидент акцидентов – ведь все, что случается (например, факт сидения), имеет некую продолжительность во времени. И наоборот, настоящее есть свойство бытия, как бытие есть сущность настоящего.
Из этого вытекает, что все в мире акцидентально, в том числе свойства, сущности, субстанции, поскольку все это имеет место во времени. Бытие случайно, становление необходимо – значит, существует только история.
Алетейа (Alеthеia)
В переводе с древнегреческого – «истина». С легкой руки Хайдеггера понятие aletheia принято противопоставлять понятию veritas – его латинскому аналогу, широко используемому в работах схоластов. Aletheia принадлежит бытию; это приоткрывание покрова бытия или самое бытие, лишенное покрова тайны. Veritas принадлежит духу или дискурсу; это соответствие, совпадение, адекватность между мышлением и реальностью. Различение двух этих понятий и удобно, и вполне законно. Впрочем, следует отметить, что ни греки, ни римляне его не проводили, во всяком случае в указанном смысле. И, если мы такое различие проводим, это не значит, что нам вольно выбрать одно из них, отбросив другое, – они отсылают друг к другу. Что мы могли бы узнать о бытии, если бы в наших мыслях не было ему соответствия? И какой смысл был бы рассуждать о том, адекватна идея реальности или нет, если бы само бытие изначально не было адекватно самому себе? Вот почему первоосновой истины, возможно, служит тождество: «Одно и то же есть, – говорит Парменид (19), – мысль и бытие». Истина, понимаемая и как aletheia, и как veritas, и есть тождество между тем, что представляется уму (veritas), и тем, что существует в мире (aletheia). Но, хотя эти два понятия тесно и даже неразрывно связаны между собой (veritas предполагает наличие aletheia и в то же время позволяет ее осмыслить), различие между ними носит принципиальный характер. Aletheia – это истина представления; veritas – истина понятия. Таким образом, первична aletheia, но осмыслить ее можно только посредством veritas. Veritas существует в нас, но лишь благодаря тому, что мы сами существуем в aletheia. Истина доступна нам только потому, что мы существуем в истинном мире, а дух способен осознать себя, только открываясь миру.
Аллегория (Allеgorie)
Выражение какой-либо идеи через образ или устный рассказ. Аллегория обратна абстракции; это своего рода мысль, обретшая плоть. С философской точки зрения аллегория не может служить доказательством чему бы то ни было. И, если не считать Платона, ни один философ не сумел использовать аллегорию, чтобы не показаться при этом смешным.
Алфавит (Alphabet)
Буквы, выстроенные в случайном или продиктованным обычаем порядке. Алфавитный порядок – такой же хаос, как любой другой, но его выгодное отличие от прочих хаотических систем заключается в том, что видимость порядка в алфавите сведена к наиболее простой форме и не претендует на осмысленность. Алфавит не несет никакой информации, и в этом его заслуга. Например, книга, которую вы сейчас держите в руках, может быть адекватна своему предмету только в том случае, если она будет прочитана в хаотическом порядке, то есть в таком порядке, в каком существуют мир и истина. Словарь – нечто противоположное системе и гораздо более ценное.
Альтернатива (Alternative)
Вынужденный выбор одного из двух терминов при невозможности принять или отклонить сразу оба. Пример альтернативы: быть или не быть. Альтернатива – такой выбор, при котором отсутствует возможность сделать выбор в пользу или против выбора.
Понятие альтернативы употребляется, в частности, в логике, когда речь идет о двух суждениях, одно из которых обязательно истинно, а второе – обязательно ложно. Эта операция носит название исключающей дизъюнкции: р или q, но не р и q. Иногда принцип, согласно которому два взаимоисключающих суждения всегда подразумевают выбор в пользу одного из них, называют «принципом альтернативы». На самом деле это, конечно, никакой не самостоятельный принцип, а конъюнкция (соединение) двух принципов: принципа непротиворечивости (р и не-р) и принципа исключенного третьего (р или не-р). Оба взаимоисключающих суждения не могут быть одновременно истинными (принцип непротиворечивости) и ложными (принцип третьего исключенного). Следовательно, одно из них с необходимостью истинно, а второе – ложно (это и есть «принцип альтернативы»). Впрочем, следует отметить, что это справедливо только в отношении логических суждений. Дискурс, не являющийся ни истинным, ни ложным (например, молитва), не имеет альтернативы. Дело в том, что он вообще не подчиняется логике, как и логика не подчиняется ему.
Альтруизм (Altruisme)
Огюст Конт (20) называл альтруизм «жизнью ради других». Значит, быть альтруистом – это руководствоваться в жизни не своими интересами, а интересами другого человека (других людей). На самом деле такого почти не бывает. Даже стремление в равной мере учитывать свои и чужие интересы уже сопряжено с огромными трудностями. Итак, альтруизм есть качество, обратное эгоизму, и именно поэтому альтруисты столь редки. Но действительно ли альтруизм и эгоизм суть антагонисты? Может, альтруизм – тот же эгоизм, только, так сказать, замаскированный? Один мой приятель как-то говорил мне: «Вот, например, известные деятели благотворительности сестра Эмманюэль и аббат Пьер. Они делают добрые дела, но ведь сами получают от этого удовольствие! Значит, их альтруизм – просто иная форма эгоизма». Допустим. Но это рассуждение ни в коей мере не может служить опровержением альтруизма. Если человек находит удовольствие в том, чтобы доставлять удовольствие другим, то это не просто говорит в пользу существования такого явления, как альтруизм, но и может быть использовано в качестве его определения. При этом не нарушаются ни принцип удовольствия, ни принцип эгоизма. Просто есть люди, которые замыкаются в этих двух принципах, и есть другие, которые, не порывая с ними, ищут и находят ключ к свободе. «Любить, – говорит Лейбниц, – значит радоваться счастью другого». Вот это и есть подлинный альтруизм, так сказать, альтруизм в чистом виде. Речь ведь идет не о том, чтобы преодолеть собственное «эго», а о том, чтобы пробить в нем брешь или, как говорится в книге «Праджняпарамита-сутры» (21), стать подобным «кругу столь обширному, что он уже ничего не может окружить; это круг с бесконечным радиусом, с окружностью, обращенной в прямую линию».
Слово «альтруизм», предложенное Огюстом Контом, многих смущает своей абстракцией, своей «теоретической» видимостью. Ошибкой было бы видеть в альтруизме инстинкт или систему. На самом деле стремление принимать в расчет, наряду с собственными или в ущерб им, чужие интересы требует усилий и в зависимости от ситуации сопровождается радостью или печалью. Альтруизм требует щедрости, сострадания и любви, то есть двух добродетелей и одной милости. Вот без них альтруизм действительно превращается в голую абстракцию. Это фальшивый альтруизм, то есть не альтруизм.
Амбивалентность (Ambivalence)
Сосуществование в одном и том же человеке и в его отношении к одному и тому же предмету двух различных аффектов – удовольствия и страдания, любви и ненависти (см., например, Спиноза, «Этика», III, 17 и схолия), тяги и отвращения. Амбивалентность – не только не исключительное явление, но скорее правило нашей эмоциональной жизни, как двусмысленность – правило человеческого общения. Исключением в обоих случаях служит простота.
Отметим, что, хотя амбивалентность касается только наших чувств, она не исключает необходимости уважать законы логики, имеющие отношение к мышлению. Например, бессознательное, как учит Фрейд, «не подчиняется принципу непротиворечивости», но психоаналитик ему подчиняться обязан. Иначе амбивалентность превращается в бред или очередной симптом.
Аморальный (Amoral)
В строгом смысле слова «а-моральный» означает «лишенный морали», то есть не имеющий к морали никакого отношения. Так, можно назвать аморальной природу, имея в виду ее полное безразличие к категориям добра и зла. В этом смысле аморальны и дождь, и солнце, и молния.
В этом различие между аморальным и безнравственным. Безнравственно то, что выступает против морали. Из этого следует, что безнравственный человек все же имеет представление о морали, во всяком случае должен его иметь. Возьмем, например, такие явления, как насилие, пытки или расизм. Складывается впечатление, что безнравственность – свойство человека. Тогда аморальность – свойство истины.
Анализ (Analyse)
Подвергать что-либо анализу значит разнимать целое на составляющие его части или элементы, что обычно подразумевает разъединение или отделение этих частей или элементов друг от друга, во всяком случае на какое-то время и если не физически, то «в уме». Следовательно, анализ является противоположностью (но одновременно и условием) синтеза как воссоединения разрозненных элементов. Так, можно подвергнуть анализу какое-либо тело (выделить из него составляющие физические или химические элементы), какую-либо сложную идею (разложить ее на сумму более простых идей), какое-либо общество (социологический анализ позволяет различить в обществе отдельные классы или слои), того или иного индивидуума (этим занимается психологический анализ или, коротко, психоанализ), проблему, произведение искусства, сон – одним словом, все что угодно, за исключением абсолютно простого, если таковое существует. Декарт сделал анализ основой своего метода: «Делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить» («Рассуждение о методе…», Часть вторая). Таким образом, анализ – это стремление свести сложное к простому для лучшего его понимания. Вполне законное и необходимое стремление, если только оно не заставляет забыть о сложности целого. Об этом напоминает нам Паскаль (в высказывании, которое особенно охотно цитирует Эдгар Морен (22): «Поскольку каждая вещь имеет причину и в свою очередь служит чему-то причиной, пользуется чьей-то помощью и сама чему-то помогает, является и непосредственно собой и опосредованной чем-либо еще и поскольку все вещи соединены между собой естественной и невидимой нитью, связующей даже самые отдаленные и самые разные из них, я считаю невозможным познание частей без знания целого, как и познание целого без знания частей». Но не стоит торопиться с выводом о столкновении Паскаля с Декартом. Тот факт, что все кругом взаимосвязано, как подчеркивает тот же Эдгар Морен, говорит не о невозможности анализа, а напротив, о его необходимости и бесконечности.
Аналитические Суждения (Analytiques, Jugements -)
Суждение является аналитическим, утверждает Кант, когда предикат содержится в субъекте, в том числе в скрытой, или имплицитной, форме, и, следовательно, может быть выделен из него с помощью анализа. Например, суждение «Все тела имеют протяженность» (понятие протяженности включено в понятие тела – тело без протяженности есть противоречивое понятие). Аналитические суждения, основанные на принципе тождества, всегда носят пояснительный характер. Они, подчеркивает Кант, «не расширяют наших познаний», а лишь развивают или объясняют наши представления. Но если наши знания все-таки расширяются, что не подлежит сомнению, значит, существуют и другие суждения – те, которые Кант называет синтетическими (Синтетические суждения).
Аналогия (Analogie)
Тождество отношений (например, в математике: a/b = c/d) или функциональная либо позиционная равнозначность (основанная не на равенстве членов, а на месте члена в множестве или выполняемой им функции). Так, когда Платон пишет, что бытие по отношению к становлению есть то же, что ум по отношению к мнению; когда Эпикур сравнивает атомы с буквами алфавита; когда Мен де Биран (23) утверждает, что «Бог для человеческой души является тем же, чем душа является для тела», все они прибегают к аналогии. В философии аналогия часто служит способом осмысления того, что не поддается осмыслению или, по меньшей мере, попыткой такого осмысления. Обойтись без аналогии трудно, довольствоваться же ею нельзя.
Отличное определение аналогии дает Кант: «Познание по аналогии не означает, как обычно понимают это слово, несовершенного сходства двух вещей, а означает совершенное сходство двух отношений между совершенно не сходными вещами» («Пролегомены», § 58). Но главная его заслуга в том, что он разделяет математическую и философскую аналогию. Первая выражает «равенство двух отношений величины», так что если даны три члена (12/3 = 8/х), то тем самым дан и четвертый (следовательно, аналогия носит характер определителя). Напротив, в философии, а также в физике «аналогия есть равенство двух не количественных, а качественных отношений, в котором я по трем данным члена могу познать и вывести a priori только отношение к четвертому члену, а не самый этот четвертый член» («Критика чистого разума», «Аналитика основоположений», глава вторая, раздел третий). Аналогии опыта, являющиеся a priori принципами рассудка, соответствующими категориям отношения, имеют значение лишь в качестве регулятора. На их основе нельзя узнать, что собой представляет четвертый член (вот почему невозможно заниматься физикой a priori), однако имеется «правило, по которому могу искать его в опыте» (поэтому в физике как науке обязательно присутствует некоторая доля априорного знания). Всего аналогий насчитывается три, и они соответствуют трем временным модальностям – постоянству, последовательности и одновременности, а также трем категориям отношения – принципу постоянства субстанции; временно?й последовательности, подчиняющейся закону каузальности; наконец, принципу взаимодействия. Эти аналогии имеют значение только для опыта, который и становится возможным благодаря тому, что они создают «представление о необходимой связи ощущений». Но заменить опыт аналогии не могут.
В метафизике аналогия тем более не может служить доказательством. Разумеется, мне ничего не стоит представить себе вселенную в виде часов, которые заводит Бог-часовщик, но эта аналогия отнюдь не доказывает, что Бог существует, и ничего не говорит о том, что же такое Бог (И. Кант «Религия в пределах только разума», часть вторая, раздел первый, примечание). Осмыслить идею Бога можно только по аналогии (Бог-ремесленник, Бог-Всевышний, Бог-Отец и т. д.). Это осуждает нас на антропоморфизм, от которого не свободен даже атеист (чтобы не верить в Бога, приходится волей-неволей допустить его идею). Но, поясняет Кант, этот антропоморфизм должен быть символическим, а не догматическим, позволяя говорить о том, что такое Бог в нашем понимании, но не о том, что такое Бог в себе и существует ли он вообще («Пролегомены…», § 57).
Анархизм (Anarchisme)
Учение тех из анархистов, которые придерживаются какого-либо учения, например Прудона, Бакунина или Кропоткина. Анархизм всегда провозглашает уничтожение государства, почти всегда – уничтожение религии («Ни Бог, ни царь»), наконец, очень часто – уничтожение частной собственности. Поэтому анархизм является левым течением. Впрочем, бывают и правые анархисты (некоторые из них провозглашают себя сторонниками индивидуализма Штирнера (24)), и даже анархо-капиталисты (так, в США существует движение ультралибералов, являющее собой экстремистскую форму либерализма). Разделять идеи анархизма означает превыше всего на свете ставить свободу. Но разве может быть свобода без силы, без принуждения, без установленного и поддерживаемого порядка? Разве может свобода заменить право, равенство и справедливость? Анархия могла бы быть идеальным строем для ангелов, что заставляет заподозрить ее сторонников либо в глупости («Тот, кто пытается подражать ангелам, быстро превращается в зверя», – говорит Паскаль), либо в наивности.
Анархия (Anarchie)
Отсутствие власти или беспорядок. Само двойное значение этого слова служит красноречивым определением того, что такое порядок (невозможный без покорности власти) и свобода (невозможная без принуждения). «Всякая власть имеет военную природу», – утверждает Ален. Вот почему анархисты так ненавидят армию, а военные – анархию. Демократы с недоверием относятся и к тем и к другим – они слишком хорошо знают, что всякий беспорядок в конце концов слагается в пользу силы, а любая сила терпима лишь на службе справедливости и свободы.
Слово «анархия» чаще всего употребляется с уничижительным оттенком. Именно так относился к анархии Гете, отдававший предпочтение несправедливости перед беспорядком. Только сами анархисты видят в анархии идеал и полагают, что он вполне достижим. Но думать так значит серьезно ошибаться в природе человека или питать надежду ее переделать. Поэтому анархизм может быть либо заблуждением, либо утопией. Справедливость без силы – не более чем мечта. Эта мечта и называется анархией. Сила без справедливости – это реальность с войнами, рынком и тиранией сильнейших или самых богатых. Между тем обе модели могут основываться на одном и том же отрицании государственности, права, республиканского строя (то есть порядка, установленного демократическим путем). Этим объясняется, почему так часто молодые анархисты, постарев, легко превращаются в либералов.
Ангажированность (Engagement)
Посвящение своей деятельности или себя лично делу, которое полагают справедливым. Этим словом по большей части пользуются интеллигенты, есть даже особое выражение – «ангажированный интеллигент». При этом они рискуют подчинить свой образ мыслей необходимости, навязанной делом, притом что он должен подчиняться только истине или хотя бы тому, что они считают истиной. На мой взгляд, большего доверия заслуживает интеллигент с гражданской позицией. Разумеется, без ответственности, накладываемой участием, которое он, в меру своей компетенции, принимает в общественных спорах, не может быть интеллигента. Однако это участие совсем не обязательно должно заставлять его подчинять свой образ мыслей делу, которое существует и помимо него. Добросовестность важнее веры во что бы то ни было. Свобода духа важнее ангажированности.
В фильме про Астерикса древние римляне призывали: «Вступайте под наши знамена!» – это пример стремления ангажировать окружающих. В слове «ангажированный» присутствует тот же военизированный оттенок. Всякая ангажированность предполагает покорность. Но мысль не приемлет покорности кому бы то ни было. Вполне достаточно, дорогие коллеги, если мы будем действовать заодно с другими. Но мы не имеем права заставлять себя думать так, чтобы доставить удовольствие этим другим или чтобы доказать их правоту.
Ангел (Ange)
«Существо – посредник между божеством и нами», по определению Вольтера. Иначе говоря, ангел – это посланник Бога (по-гречески angelos и значит посланник). Странно только одно: зачем Богу посредники?
Анимизм (Animisme)
В узком смысле учение, объясняющее жизнь присутствием в каждом организме души. Тем самым анимизм противостоит материализму (объясняющему жизнь существованием неодушевленной материи) и отличается от витализма (который вообще отказывается ее объяснять).
В более широком смысле анимизмом называют стремление во всем видеть душу (anima) или дух (animus) – даже в тех существах, которые, на первый взгляд, лишены способности чувствовать: в деревьях, в огне, в реке, в звездах и т. д. Анимизм – самое первое суеверие и, возможно, принцип, на котором строятся все остальные. Но, например, Огюст Конт считал анимизм необходимым началом умственной деятельности. Прежде чем познавать, надо уверовать. А что может быть легче веры в дух – основу любой веры?
Огюст Конт, впрочем, предпочитает термин фетишизм, которому мы сегодня придаем совсем другое значение. Он полагает фетишизм первой стадией религиозного сознания, одновременно и более непосредственной и более логичной, чем две остальные (политеизм и монотеизм). «Рассматривать все внешние тела, независимо от того, являются ли они естественными или искусственными, как одушевленные и в основном имеющие жизнь, аналогичную нашей», как он утверждает, конечно, заблуждение, но вместе с тем это заблуждение помогает сделать первый шаг к пониманию реальной действительности. Лучше уж ошибиться, изучая этот мир, чем изобретать какой-нибудь другой. С духами разобраться все-таки проще, чем с богами.
Или тогда уж надо признать, что боги окончательно покинули нас – как боги Эпикура или Бог Симоны Вейль (25) – и оставили мир во власти бездушной материи. Мир, по выражению Алена, глухой к молитвам и чуткий к творениям рук человеческих. Противоположностью анимизма, как и любой другой религии, являются труд, познание и действие.
Аномия (Anomie)
Отсутствие законов или организации. Дюркгейм (26) понимает под аномией вид социального расстройства, в результате которого нарушаются или рушатся социальные связи («органическая солидарность общества»). Индивидуум оказывается предоставленным самому себе, без законов, без ориентиров, как принято говорить сегодня, без ограничителей и подстраховки. Все это обрекает его на страх, отчаянные действия, насилие – или на самоубийство.
Антиматерия (Antimatiеre)
Термин, употребляемый в физике для обозначения так называемых античастиц, имеющих симметричные характеристики (ту же массу и противоположный электрический заряд) по отношению к частицам, составляющим обычную материю – ту, которая нас окружает и из которой мы сами состоим. В философском смысле антиматерия не может быть ничем иным, кроме просто речевого оборота. Если антиматерия существует объективно, то есть независимо от духа и мышления, то она столь же материальна, как и все остальное.
Антиномия (Antinomie)
Необходимое противоречие между двумя в равной мере правдоподобными или доказуемыми тезисами. Кант называет антиномиями чистого разума конфликтные столкновения разума с самим собой, в которые он неизбежно приходит при малейшей попытке достичь абсолюта. Он перечисляет четыре такие антиномии: можно с равным успехом доказать, что мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве и, наоборот, что мир не имеет начала во времени и безграничен; что все в мире состоит из простых частиц и, наоборот, что в мире нет ничего простого; что существует свободная каузальность и, напротив, что все в мире происходит согласно законам природы; наконец, что существует абсолютно необходимое бытие и, наоборот, что вообще никакого такого бытия не существует («Критика чистого разума», «Трансцендентальная диалектика», глава вторая). Эти четыре антиномии служат одинаково успешным опровержением сциентизма и догматической метафизики и, по Канту, оправданием критицизма.
Антитезис (Antithеse)
В риторике – простое противопоставление. В философии – чаще всего тезис, противопоставляемый другому тезису (например, у Канта, в антиномиях чистого разума). Антитезисом называется также вторая составляющая гегелевской трехчастной диалектики (триады): антитезис противопоставляется тезису, но само их противопоставление должно быть «преодолено» – одновременно сохранено и уничтожено – с помощью синтеза. Таково противопоставление бытия и небытия в становлении.
Антитринитарии (Antitrinitaires)
Те, кто не верит в Троицу (от лат. Trinitas). Вольтер в своем «Философском словаре» потратил немало стараний, чтобы доказать, что с точки зрения разума они совершенно правы, но старался он напрасно, ибо Богу вовсе нет никакого дела до рациональных рассуждений. Единство трех лиц в одном лице действительно не поддается рациональному объяснению. Но разве ему поддается идея бесконечной и всемогущей личности? Если человек произносит слово «Бог», это означает, что он заранее отказывается от стремления понимать. А сколько будет этого Бога – один, три или 52 – не имеет никакого значения.