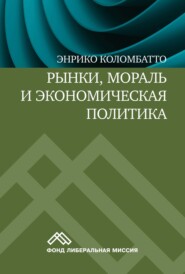скачать книгу бесплатно
Разумеется, тот факт, что институты влияют на поведение людей, очевиден. Аналогично никто не сомневается в том, что индивиды или группы индивидов часто соблазняются возможностью сформировать правила игры так, чтобы они давали преимущества им самим, даже если это достигается за счет других и даже если эти правила могут нарушать широко разделяемые принципы (такие как права собственности, свободу выбора, честность). Так или иначе, это именно то, что составляет исследовательскую программу специалистов, изучающих процесс погони за бюрократической рентой, и значительную часть исследовательской программы школы общественного выбора. Однако институциональная экономика отличается от школы общественного выбора тем, что если последняя концентрируется на связи между лицами, реализующими меры социально-экономической политики, и «делателями королей»[129 - Делатели королей (king-makers) – этому термину в русскоязычной политической лексике лучше всего соответствуют «серые кардиналы», под которыми, как и в английской версии, имеются в виду непубличные фигуры – влиятельные эксперты и иные лица, претендующие на то, что именно они «дергают за ниточки» и приводят в действие политическую машину. – Прим науч. ред.] (в большинстве случаев представляющих более или менее крупные группы интересов), то институционалистов интересуют причинно-следственные связи между правилами и индивидами, т. е. то, при каких условиях формальные правила являются экзогенными, а при каких они представляют собой результат человеческих взаимодействий. Поэтому, с точки зрения институционалистов, исследования процесса создания правил являются не анализом затрат и выгод, удерживаемых теми или иными группами в процессе политических действий при данных предпочтениях широко понимаемого корпуса избирателей, а должны сместиться к более тонким исследованиям изменений указанных предпочтений и последствий этих изменений для институционального контекста и продуктивности экономики.
К сожалению, общие выводы, которые получены в рамках этой исследовательской программы, вызывают весьма смешанные чувства и подчас они служат поводом для расстройства несмотря на их интуитивную простоту (а может быть, и по причине этой простоты). Согласно некоторым авторам (см., в частности, [North, 1990]) формальные правила игры, будучи довольно стабильными на достаточно длинном временном отрезке, демонстрируют сдвиг (зависимость от предшествующего пути) в направлении понижения транзакционных издержек и усиления позиций лиц, стремящихся к извлечению бюрократической ренты. Падающие транзакционные издержки характерны для хороших институтов, увеличение степени стремления к бюрократической ренте – для плохих. Другие авторы предполагают, что правила экзогенны на коротких отрезках времени и эндогенны на длинных (см. [Setter?eld, 1993]). Однако даже в периоды с редкими случаями медленной адаптации внешние обстоятельства могут оказывать скрытое воздействие. Если это так, иногда давление достигает предельной точки и весь контекст изменяется – плавно или более резко, в зависимости от конкретных обстоятельств (см. [Fiori, 2002]). В других случаях эти внешние обстоятельства могут вбираться и в конце концов нейтрализовываться существующим институциональным контекстом, который действует в качестве своего рода амортизатора (см. [Greif, 2001]).
Итак, оказывается, что каждая ситуация имеет свои особенности и свою собственную апостериорную рационализацию (см. [Poirot, 1993]). Можно набраться храбрости и сказать, что никакой общей теории институциональных изменений не существует, а есть всего лишь способы прочтения и систематизации свойств процесса эволюции контрактов, агентств и организаций, как формальных, так и неформальных. Пока что гигантский поток литературы по институционализму, извергавшийся на протяжении более чем ста лет, делает акцент на главном пункте: правила желательны, поскольку они стабильны, надежны и способны уменьшать неопределенность в отношении поведения других людей. Это объясняет, почему хорошие формальные правила увеличивают безличную торговлю, и почему они не могут находиться в конфликте с неформальными институтами: это создало бы напряжения и дестабилизировало бы всю социальную структуру (см. [Pejovich, 1999])[130 - Без сомнения, это затронет также и экономический рост. См., например, [Britton et al, 2004], где показано, что некачественные или недостаточные формальные правила принуждения к выполнению правил (приводящие к недостаточной степени присутствия в обществе экономической свободы) угнетающим образом воздействуют на экономический рост. Медленный рост побуждает экономических агентов осуществлять экономическую деятельность неформально или подпольно, что, в свою очередь начинает конфликтовать с формальными институтами и приводит к еще большему снижению продуктивности экономики.]. Надежность и стабильность фактически уже заняли центральное место в институциональной нормативной программе, а их изучение уже выявило критически важную роль широко разделяемых «метаправил», необходимых для того, чтобы усиливать надежность и постоянство законов, и для того, чтобы сдерживать властные инстанции, устанавливающие правила, от того, чтобы поддаться искушению и прибегнуть к произволу. Вторжение в подобные широко разделяемые метаправила означает утрату авторитета власти, а переход к использованию насилия может привести к законному отказу повиноваться, если не к восстанию. Широко разделяемые метаправила играют критически важную роль, в частности, в доктринах классического либерализма и социал-демократии: в первом случае они призваны обеспечивать верховенство права, а во втором – служить гарантией справедливости.
Несмотря на трудности, стоящие на пути формулирования теории институтов и институциональной динамики, трудно переоценить значимость роли, которую институциональная теория как таковая играет в некоторых областях экономико-теоретических исследований. Можно легко увидеть множество способов, посредством которых правила игры способны изменять издержки обмена и воздействовать на добровольное сотрудничество людей. Выше мы уже бегло коснулись того обстоятельства, что критически важна также роль взаимодействия между формальными и неформальными (стихийными) институтами, а также роль ограничений метауровня. Однако мы полагаем, что для свободного рынка ключевой вопрос, определяющий все остальное, весьма прост. Он сводится к тому, присутствуют ли в институциональном контексте конкурирующие системы формальных правил, или в нем превалирует один набор правил, исключающий все остальные, – даже если эти, преобладающие правила установлены силой. В частности, логика свободного рынка предполагает, что экономические институты могут быть приняты в качестве действующих, только если они согласуются с принципом суверенности личности (предпочтения никаких индивидов не могут навязываться другим индивидам), с принципом свободы от насилия (не позволяется никакое насилие, кроме самозащиты) и с принципом свободы контрактов (права собственности действуют в полном объеме). Когда эти условия выполняются, экономические институты могут восприниматься как действующие по умолчанию поведенческие шаблоны, которые агенты вольны использовать, снижая тем самым издержки составления новых контрактов. Разумеется, когда какие-то правила, действующие по умолчанию, считаются неприемлемыми, экономические агенты, действующие в контексте свободного рынка, должны иметь возможность свободно исправить их и либо отказаться от них совсем, либо выбрать какие-то иные варианты. В противоположность всему вышесказанному вопрос о легитимности поднимается, когда от выполнения некачественных правил невозможно отказаться или уклониться. Традиционная точка зрения на эту проблему утверждает, что для ответа достаточно наличия критерия социальной эффективности. Но это, разумеется, едва ли может быть удовлетворительным ответом для наблюдателя, осведомленного о существовании парадигмы свободного рынка и готового ее принять[131 - См. раздел 1.1 главы 1.].
Важно иметь в виду, что для свободного рынка не все формальные правила одинаковы. Для того чтобы проиллюстрировать это утверждение, в следующем разделе настоящей главы мы рассмотрим два класса формальных институтов: добровольно принимаемые правила, или добровольно принимаемые нормы (далее для краткости – добровольные правила, или добровольные нормы) (optional rules), и принудительные правила, или принудительные нормы (coercive rules)[132 - Правила уровня конституции обсуждаются в следующей главе.]. Такой способ структурирования споров между институционалистами имеет два преимущества. Во-первых, он позволяет показать двойственность проблемы взаимодействия, проведя различие между тем, как люди формируют правила игры, с одной стороны, и как группы формальных и неформальных правил взаимно усиливают или ослабляют одна другую, обнаруживая при внимательном взгляде наличие весьма разных свойств, с другой стороны. Во-вторых, наше исследование данной проблемы показывает, что суждения о нормативной роли институтов тесно связаны с пониманием природы и легитимности государства, которое обычно определяется как иерархически организованная группа, наделенная властью создавать правила, принуждать к их выполнению и по своему желанию накладывать вето (объявлять незаконными) на правила, созданные другими (см. [Block, 2007]).
4.2. Природа добровольных институтов
Как и другие формальные институты, добровольные нормы состоят из ясно определенных юридических конструкций, существующих в виде текстов или иным образом сделанных широко известными. Они также предполагают существование власти, отвечающей за принуждение, т. е. суда и полиции. Однако их отличительная особенность состоит в том обстоятельстве, что нарушение этих норм, или правил, наказывается, только если они приняты индивидом явным образом или по умолчанию. Проще говоря, добровольные институты характеризуются тем, что агенты могут отказаться от них ценой пренебрежимо малых издержек.
В идеале добровольные институты возникают, когда институциональный предприниматель, видя неиспользованные возможности для взаимовыгодного обмена и сотрудничества, выдвигает некое предложение, имея своей целью сделать обмен достаточно привлекательным для того, чтобы транзакция были исполнена. Так происходит, например, когда основывается теннисный клуб и устанавливаются правила для его членов или когда застройщик преобразует возводимый дом в кондоминиум, который издает правила для жильцов, или когда партнеры или посредник устанавливают условия покупки и продажи. Те, кто хочет играть в теннис, или купить квартиру, или совершать сделки на организованном рынке, знают об этих правилах, оценивают степень их надежности и, разумеется, свободны их отвергнуть. Если данные правила расцениваются как неприемлемые или устаревшие, то в условиях отсутствия барьеров на принятие новых правил возможно появление новых лиц, которые примут новые правила, а также появление новых теннисных клубов, которые предложат более привлекательные варианты.
Когда правила вступают в силу после явно выраженного согласия (присоединения к ассоциации или принятия участия в некоем событии), институциональный элемент в действительности эквивалентен контрактному соглашению. Однако, как было отмечено в предыдущем разделе этой главы, добровольные институты могут существовать и в ситуациях, когда индивиды подчиняются соответствующим нормам по умолчанию, т. е. по праву (или по обязанности) рождения или жительства. В тех случаях, когда лицо, устанавливающее добровольные правила (назовем его «слабое государство»), может лишь выдвигать предложения, рациональные социальные механизмы будут легитимны лишь постольку, поскольку участники их не отвергают[133 - Существуют ситуации, когда добровольные нормы, действующие по умолчанию, де-факто теряют свой добровольный характер. Очевидным примером являются дети, люди с физическими недостатками и сумасшедшие, т. е. такие члены сообщества, для которых добровольное подчинение нормам (что и составляет содержание их добровольности) является проблематичным. Все лица из этого ряда считаются неспособными на осознанный выбор и тем самым не могущими нести ответственность за свои действия. Для того чтобы проиллюстрировать этот момент, представим себе школу, которая полагает, что люди, принадлежащие к определенной категории (молодежь), ментально неспособны принимать решения. Неспособность принимать решения и тем самым неспособность отказаться от добровольной нормы преобразует добровольную норму в принудительную. Стоит, пожалуй, подчеркнуть, что сегодняшнее обязательное образование является принудительным, так как оно опирается на второе и достаточно сильное предположение: дети считаются членами скорее национального государства, чем своих семей. Вот почему не родители, а законодатели решают от имени детей, и вот почему родители подвергаются наказаниям, если отказываются отправлять своих детей в школу.]. Если они их отвергнут, слабое государство не имеет права принуждать против их воли и преодолевать их сопротивление. Аналогичным образом слабое государство не властно удержать другие стороны от внесения предложений и в конечном счете от принятия норм, принадлежащих другому институциональному ряду. Иначе говоря, слабый правитель является таким же, как обычный человек или консультант, за двумя отличиями. Во-первых, нормы слабого правителя могут приниматься по умолчанию. Более того, если требуется, правитель также может позаботиться о принуждении к исполнению всех контрактов, вне зависимости от того, каков их источник, а также провозгласить монопольную власть в пределах своего домена[134 - Разумеется, пользоваться монопольной властью не означает, что эта власть будет применяться каждый раз, когда стороны пожелают, чтобы государство вмешалось. С одной стороны, правитель может решить не принуждать к исполнению своих собственных правил ввиду недостаточности ресурсов. С другой стороны, он может не принуждать к исполнению правил просто потому, что ему это не нравится. Эта проблема часто возникает при заключении соглашений международного арбитража: иногда некоторые правители не признают их и не принуждают к их исполнению. Пока что они не позволяют другим агентствам, поставляющим услуги по принуждению, заменить государство.].
Будучи введенными и имеющими силу, добровольные институты с низкими издержками непременно будут эффективными, так как акторам ничто не препятствует предложить лучшие договоренности, с тем чтобы уменьшить неопределенность в отношении поведения взаимодействующих экономических агентов и тем самым увеличить ценность того, что подлежит обмену. В этом состоит главная особенность институциональной динамики, характерной для слабого хорошо функционирующего государства. В отличие от сильной версии государства эта динамика едва ли представляет собой результат деятельности политиков. Помимо всего прочего, в условиях слабого государства власть не имеет большого значения (или даже не имеет его вовсе), а престиж, который политик может приобрести, предлагая институциональные инновации, сравнительно невелик. На самом деле в такой ситуации институциональное предпринимательство имеет место скорее в юридических фирмах, чем в политической жизни. Да, подчас в итоге получается радикальная инновация, но обычно юристы стремятся к постепенному прогрессу. Разумеется, удержание выгод от такого рода улучшений в полном объеме весьма нелегкое дело. Все же главным источником дохода юридических фирм является не их способность производить нечто новое, а наличие у них необходимой и подтвержденной квалификации в деле решения проблем клиентов. Информация об осуществленной инновации в области контрактного права служит хорошим сигналом для потенциальных клиентов данной фирмы, которым для уменьшения издержек обмена требуются услуги соответствующих специалистов.
На динамику добровольных норм, вполне возможно, будут воздействовать два явления. Во-первых, при данных внешних условиях, заданных принудительными нормами, добровольные институты эволюционируют относительно медленно, идя вслед за технологическими изменениями и экономическим прогрессом: новые виды продукции и новые производственные технологии требуют также и инновационных контрактных соглашений. Однако изменения могут ускориться вследствие повреждения смирительной рубашки принудительных норм. Например, коалиции, составленные из тех, кто ориентирован на получение бюрократической ренты, стремятся уменьшить давление конкуренции, и к этому необходимо адаптировать добровольные нормы либо для того, чтобы вписаться в ограничения новой институциональной среды, либо для того, чтобы обойти их.
Вторая группа вопросов касается надежности. Как отмечалось выше, значимость любой институциональной системы в конечном счете зависит от ее способности делать поведение предсказуемым, что связано с эффективностью механизмов принуждения к соблюдению ее норм. Иногда эти механизмы основаны на ненасильственных средствах: потенциальный нарушитель может остановиться ввиду перспективы потерять репутацию, что повлечет за собой презрение членов малого сообщества и невозможность осуществлять транзакции в более широком масштабе. Во многих других случаях угроза потери репутации не является удовлетворительным отпугивающим средством, и тогда требуется насилие или угроза насилия. Это означает, что эволюция добровольных институтов неизбежно зависит от структуры и динамики принуждения. При слабом государстве, которое характерно для институционального контекста, рассматриваемого в данном разделе, соответствующее своим задачам лицо, осуществляющее принуждение, конечно же, должно относиться к системе права (включая сюда полицейские силы). Добровольные институты могут существовать и успешно развиваться только при соблюдении следующих условий: а) система права адаптируется к последствиям прогресса технологий и принимает их – например, в том, что касается принципа индивидуальной ответственности; б) судебная система сопротивляется давлению других сил, таких как общественное мнение, политики, группы интересов, которые могут быть заинтересованы в расширении системы принуждения и в том, чтобы рано или поздно удушить добровольную часть норм.
К сожалению, в современном обществе вторая из двух вышеописанных ситуаций встречается редко. Причиной этого является не слабость судебной системы, а то обстоятельство, что решения, соответствующие варианту слабого государства, вряд ли когда-либо были предметом общественного согласия и вряд ли были когда-либо должным образом защищены. В прошлые века правитель не мог иметь статус слабого и имел средства и возможности для того, чтобы в целях утверждения своей власти и принуждения к подчинению придать легитимность армии наемников, принципу голубой крови или благословлению божию. В позднейшие времена индустриализация породила новую категорию властных групп, ориентированных на получение бюрократической ренты, которые трансформировали потенциально слабое государство в механизм, гарантирующий членам этих групп их привилегии. Как будет показано в следующей главе, в течение XX в., по мере возникновения и распространения нового воззрения на общество, имел место следующий процесс: принудительное регулирование постепенно вытеснило большинство добровольных институтов, и институциональное предпринимательство все в большей мере направлялось либо к отысканию способов приспособить потенциал принуждения к извлечению выгод отдельных заинтересованных групп, либо к тому, чтобы защититься от посягательств государства. Мы обратимся теперь к истории происхождения и к проблеме легитимности этих институтов принуждения.
4.3. Основания принудительных норм
В эпоху палеолита государства не существовало, и поэтому не возникало вопроса о принудительных нормах. Если проследить за географическими, демографическими и генетически-эволюционными изменениями той эпохи, можно убедиться в том, что единственной имеющей значение социальной единицей была семья. Сотрудничество между семьями по большей части ограничивалось тем, что было необходимо для охоты на млекопитающих, что, очевидно, порождало добровольные социальные нормы: те, кому не нравились правила данной охотничьей партии, могли покинуть ее и образовать другую охотничью партию, либо охотиться в одиночку – и свободные земли, и животные для добычи имелись в изобилии (см. [Baechler, 2002, ch. 1]). Нельзя сказать, что формальных правил вообще не существовало, поскольку роль каждого индивида в семье или группе была хорошо известна и несоблюдение соответствующих норм наказывалось. Однако жизнь в таком социуме была вполне посильна. Альтернатива могла быть хуже, чем непривлекательной, но издержки поддержания существования были низкими.
С появлением политических организаций появляются и принудительные нормы[135 - Напомним, что под принудительными нормами здесь понимается не насильственное принуждение к исполнению норм и правил, а ситуация, в которой нельзя выбирать между принятием этих норм и отказом от них.]. Они постепенно возникают в аграрных сообществах, где товары и услуги отличает не только редкость, но и разнообразие. Разнообразие создает возможности для специализации и обмена, тогда как редкость предполагает возможность насильственного завладения чужими благами (посредством воровства и/или грабежа), что делает необходимым наличие эффективной защиты (за счет потенциальных жертв), а также эффективных средств агрессии (см. [Benson, 1999]). Иначе говоря, аграрные сообщества облегчают накопление богатства, следствием чего становится появление – в целях создания богатства, его защиты и даже пополнения в порядке грабежа, – таких сложных социальных образований (см. [Baechler, 2002]), как властные структуры и иерархические политические организации[136 - Сложное социальное образование состоит из естественных единичных элементов, гарантирующих демографическое выживание вида. К отмечалось выше, широко признан тот факт, что до вплоть до самого последнего времени таким естественным единичным элементом была семья (в широком понимании).]. Аграрные сообщества начинают сталкиваться и с проблемой экономической нестабильности, которая была почти неизвестна в более ранний исторический период, когда преобладали кочевые сообщества, а основой выживания была охота и неурожаи не представляли собой серьезной проблемы. С увеличением неопределенности выросла роль религии и тех, кто отвечал за религиозные практики: они иногда действовали как лекари, будучи посредниками между божеством и индивидом, а также использовали предположительно имеющийся у них дар для предсказаний будущего или для влияния на процесс взаимодействия с богами. Важность религиозного момента трудно переоценить: признав, что будущее можно предвидеть и, возможно, контролировать, общество признало также существование высшего замысла и элиты, состоящей из посредников между миром богов и миром людей, что прямо и косвенно открыло дорогу для традиционного понимания легитимной нормы[137 - «Традиционный» тип легитимности имеет место в ситуации, когда суждение о легитимности выносится на основании критерия, внешнего по отношению к человеческой деятельности и человеческой истории. Это происходит, например, когда утверждается, что король должен быть назначен Богом. Очевидно, что в этих условиях религиозный посредник играет критически важную роль. В противоположность этому «рациональный» тип легитимности использует моральные критерии, разработанные и одобренные человеком, либо посредством рационального мышления (соображения эффективности), либо с апелляцией к успешному предшествующему опыту (исторический релятивизм).].
Неудивительно поэтому наличие тесной связи между религиозной сферой и сферой политики. И по мере того, как росла потребность в сложных социальных образованиях, появлялись политические организации, обладающие властью к принуждению. Отсюда проистекает рост спроса на легитимность. Легитимность может быть либо непосредственной (внутренней), когда норма согласована с широко признаваемыми принципами, такими как религиозные доктрины, эффективность или природа, либо косвенной, когда ее источником выступает легитимная власть, отвечающая за интерпретацию этих принципов и, возможно, за принуждение к следованию этим принципам. Легитимность, апеллирующая к религии, имеет отношение к тексту Священного Писания и интерпретациям этого текста. Легитимность, апеллирующая к эффективности, появилась только в XX в., она будет разбираться в последующих главах. Что касается природы, то оправдание принуждения тем, что оно является естественным (или соответствующим природе), не такая уж простая задача. В контексте нашего исследования под природным подразумевается такое качество, которое непосредственно присуще человеку, или, лучше сказать, такое качество, которое является существенным элементом человеческой природы[138 - Как указано в [Nemo, 2004, 27], эта концепция восходит к античным стоикам. См., в частности, ссылку на Цицерона, которую Немо приводит в своей работе: Cicero, De Republica, III, XXII. Задача философа состоит в том, чтобы определить это природное качество, тогда как ученый-юрист должен обеспечить соответствие законов этому природному качеству.]. Как отмечалось выше, широко признана точка зрения, согласно которой человек обнаруживает в себе весьма мало природных элементов, к которым относятся, например, инстинкты, служащие выживанию и сохранению вида (например, инстинкт продолжения рода), и стремление к улучшению условий существования. К этому мы можем добавить тщеславие, или себялюбие, которое в начале XVIII в. Мандевиль определил, как удовольствие, получаемое человеком от того, что он принят и признан другими людьми (под таким определением подписался бы и сам Адам Смит). Часто говорят, что природные элементы второго порядка, присущие человеку, имеют отношение к его предположительно имеющей место «общественной природе», качеству, не вполне отличному от того, что присуще животным, демонстрирующим наличие некоторых видов инстинктивных общественных структур, таких как, например, стаи[139 - Неудивительно, что сторонники тезиса «человек есть общественное животное», проводя различие между человеком и другими млекопитающими, вынуждены использовать в качестве критерия не свойство быть социальным, а другие признаки. Аристотель заметил, что пчелы социальны, однако пчелы – не то же, что люди, которые являются социальными и политическими животными. Как недавно напомнил Мэчан в [Machan, 2004], наиболее часто в качестве таких критериев указываются способность делать осознанный выбор и рациональность. Нужно заметить, однако, что таких вещей, как социальная осознанность и социальная рациональность, не существует, поскольку оба эти качества – типичные проявления индивидуальности: именно индивид выбирает и именно индивид оценивает тяготы и выгоды, связанные с выбором и контекстом. Это не означает, что у индивида нет своего мнения о том, что является (или могло бы являться) благом также и для других индивидов. Однако, признавая это, мы все равно остаемся в области субъективных (индивидуальных) соображений и суждений.]. Как показано в [Buckle, 1991], этот подход имеет долгую и славную традицию: еще Гуго Гроций утверждал, что, поскольку история доказывает, что все индивиды хотят быть частью общественного тела, способность быть социальным есть необходимый божественный дар и на этом основании его можно считать природным. Через полвека после Гроциуса, Пуфендорф[140 - Пуфендорф фон, Самуэль, барон (1632–1694) – немецкий юрист, политический философ, экономист, историк и государственный деятель, автор комментариев к сочинениям Томаса Гоббса и Гуго Гроция, внесший значительный вклад в разработку теории естественных прав. – Прим. науч. ред.] провел различие между способностями к социальности и естественными социальными нормами (институтами). Под первыми он понимал то, что отражает наши предположительно существующие внутренние склонности, которые должны быть полезны для других (и тем самым являющиеся природными качествами, согласно нашей терминологии), тогда как вторые имеют отношение к историческому происхождению принудительных правил, обнаруженных (и усвоенных) через посредство опыта в качестве наилучшего решения проблем, возникающих в разных ситуациях вследствие нашей социальности[141 - Проводя это различие, Пуфендорф, по всей видимости, пытался провести разграничение между данными Богом природными инстинктами и открытыми человеком естественными институтами. Он считал, что естественные институты должны быть совместимы с богоданными природными качествами человека и в конечном счете должны быть связаны с божественным порядком. Это объясняет, почему принудительные институты не являются, по его мнению, естественными, но представляют собой тем не менее моральный императив.]. Иначе говоря, главное состоит в том, что «природным» может быть то, что существует изначально, но оно может также быть и тем, что развивается из этого изначально данного источника. Итак, природное начало может означать либо индивида, либо общественное образование, либо то и другое. Аристотелевская традиция склоняется к тому, чтобы подчеркивать значение общественных образований[142 - Трудно переоценить роль, которую играл человек в классической философии. В то же время в классической традиции, особенно у греков, критически важным элементом остается общество, в котором индивид реализует свою природу общественного и политического животного. Понятие добродетели, являющееся центральным для классической философии, служит для определения достойного поведения человека, стремящегося жить по своей природе, но и вносить свой вклад в общественное тело.], тогда как политическая мысль позднейших эпох, к примеру, Гроций, Локк и даже Гоббс[143 - Разумеется, взгляды Гоббса на способность человека быть социальным отличаются от того, что считали Гроций, Пуфендорф и Локк. У Гоббса легитимность политического режима проистекает из необходимости обеспечить надежное выживание. Гроций возводит ее к способности удовлетворять интерес универсального сообщества индивидов, Пуфендорф – к соответствию данному Богом естественному праву (которое должно быть открыто посредством разума). Наконец, у Локка легитимность политического режима восходит к способности защищать права собственности отдельных членов соответствующего политического сообщества.], рассматривает индивида и сферу социального совместно.
В какой мере эти взгляды оказались полезными для формирования оценки принудительных институтов с позиций свободного рынка? Ответ зависит от того, насколько далеко простирается готовность соответствующего автора отойти от позиции Аристотеля, хотя отметка, достигнутая Гроциусом, вероятно, недостаточно близка к набору требований, предъявляемых мировоззрением свободного рынка. Так или иначе, мы склонны полагать, что необходимость соответствовать принципам субъективизма и методологического индивидуализма (см. главу 1) подводит к тому, что искомый ответ располагается гораздо ближе к Мандевилю, чем к Гроцию или Пуфендорфу. История учит, что человек не является социальным, или общественным, существом от природы, если только не считать обществом семью или узкий дружеский круг и если не принимать за проявления социальности необходимость сотрудничать для увеличения степени защищенности от внешней агрессии[144 - См., например, [Strayer, 1970, ch. 1]. Хотя взаимодействие с членами семьи и друзьями можно вполне обоснованно причислить к способам создания общества, в данном вопросе мы следуем Токвилю, который трактовал уход в семейный и дружеский круг как «индивидуализм». Мы определяем посредством термина «общество» более сложные формы взаимодействия.]. Эволюция и в самом деле отобрала такие человеческие существа, которые формировали устойчивые семейные единицы, она вознаграждает группы, разработавшие формальные правила, предназначенные для защиты прав собственности, укрепления принудительного начала и уменьшения конфликтов. Эволюция также благоприятствовала способности развивать кооперативное поведение с совершенно незнакомыми людьми (безличная торговля). Да, способность быть социальным является далеко не спонтанным феноменом. Она появилась в результате осознанного выбора в пользу сотрудничества в деле обеспечения обмена и обороны, каковой выбор, в конечном счете, был порожден стремлением улучшить свои жизненные условия[145 - См. об этом у Давида Юма в его «Трактате о человеческой природе» [David Hume, Treatise ofHuman Nature (1740) 2000b, book 3, part 2], где он пишет об обществе как о результате «соглашения о разграничении собственности и стабильности владения» (§ 12).]. Иными словами, мы утверждаем, что способность к социальности не вытекает из инстинктивного, неосознанного побуждения, будучи результатом только целенаправленных действий человека и ничем, кроме этого. Люди не повинуются инстинкту, когда отдают свою собственность в общий пул и создают коммунистическое общество. Более общее утверждение звучит так: люди сотрудничают не для того, чтобы угодить другим людям, но для того, чтобы угодить себе и удовлетворить свой собственный интерес (включая сюда желание «процветать»), чтобы дать выражение своим собственным эмоциональным импульсам или чтобы уступить своему собственному чувству справедливости, что, разумеется, не исключает того, что обеспечение выгод для других людей тоже может быть источником удовлетворения.
Вывод из приведенных соображений о философских основаниях социального поведения сводится к тому, что если придерживаться принципов методологического индивидуализма и субъективизма, то можно с уверенностью утверждать, что все формы принуждения являются нелегитимными, за исключением случая, когда принудительные нормы внедрены божественным повелением и легитимность этого повеления признана индивидом как превосходящая его собственную легитимность. Конечно, большинство читателей могут заметить, что принудительные нормы могут служить индивиду – в том духе, что они могут компенсировать некоторые разновидности провалов рынка и, в частности, использоваться как реакция на оппортунистическое поведение. В этих условиях формальные институты принудительным образом обеспечат такие транзакции, участвовать в которых все члены общества захотят ex ante, но которые вряд ли будут иметь место в спонтанном порядке, поскольку люди, скорее всего, смошенничают ex post. В этом месте обычно рассказывают, что принудительные правила, производя такую работу, фактически выполняют соглашение о сотрудничестве, порожденное способностью людей быть социальными, – будь то в смысле, который имел в виду Мандевиль, или в «природной» интерпретации этого термина, данной Гроцием. Однако на это можно заметить, что принудительные правила являются не единственным желательным и достижимым решением проблемы обеспечения сотрудничества. Провалы рынка могут быть исправлены и в рамках институционального контекста, заданного добровольными институтами, когда индивиды, заинтересованные в сотрудничестве, соглашаются действовать, следуя предложениям, выдвинутым институциональным предпринимателем, возможно и самим правителем, и признают, что правитель (или кто-то еще, если это позволит слабое государство) является также тем лицом, которое обеспечивает принуждение к выполнению данного соглашения. Иначе говоря, конструкция, реализующая добровольный институт, на самом деле может включать в себя и элементы принудительности, вступающие в силу после подписания контракта. Поэтому, принимая во внимание вышесказанное, решение проблемы оппортунистического поведения может требовать наличия не принудительных правил, а лишь надежных лиц, обеспечивающих принуждение к исполнению соглашения.
Можно ли теперь сделать вывод, что аргумент против принудительных норм в конечном счете опирается на согласие читателя с доктриной Мандевиля? Мы склонны дать отрицательный ответ на этот вопрос. На самом деле, даже если признать, что человек от природы способен к социальности, легитимность принудительных институтов в конечном итоге зависит от того, существуют ли естественные (природные) общественные договоры, и от того, как они определены. Речь идет о подмножестве класса коллективных соглашений, известном как подразумеваемые общественные договоры[146 - Естественный общественный договор встроен в природные качества индивида. Он может состоять, например, в соглашении сражаться против общего смертельного врага, поскольку такое соглашение соответствует инстинкту выживания. Подразумеваемый общественный договор – это такой контракт, который подписал бы каждый, если бы его спросили, и принуждение к выполнению которого, поэтому, осуществляется по умолчанию, чтобы уменьшить издержки на его исполнение. Хрестоматийный пример договора этого рода дает, конечно, Локк. Стейн в [Stein, 1980, 2] указал, что у Локка фигурируют два разных договора – один касается преследуемой цели, а другой – актора, отвечающего за преследование цели от имени сообщества. В последние десятилетия XX в. различные версии подразумеваемого общественного договора были предложены Хайеком, Ролзом и Бьюкененом.]. Если естественный общественный договор существует, это означает, что в тех случаях, когда индивид является «недостаточно общественным», он позиционирует себя как лицо, пребывающее вне полиса, идя против самой человеческой природы. Тогда он теряет привилегию быть человеком, т. е. утрачивает свое естественное право на свободу от принуждения, и заслуживает того, чтобы им распорядились против его воли. Поэтому неудивительно, что определение способности быть социальным как природного качества человека может существенно ослабить самый центр позиции сторонника свободного рынка. Иначе говоря, невозможно одновременно быть сторонником свободного рынка и считать, что природная способность к социальности представляет собой необходимый компонент человеческого существа. Это возможно, только если под этой способностью понимается всего лишь человеческий инстинкт совместного проживания ограниченного числа родных и друзей, а не добровольные институты в духе Токвиля, сформированные людьми, собравшимися вместе в результате свободного выбора, обмена идеями и сотрудничества. Но как только мы отказываемся от определения способности к социальности как результата целесообразных действий индивида и начинаем считать способность к социальности чем-то вроде социального здоровья, тогда появляются работающий критерий наличия этого самого здоровья и критерий легитимности социального действия. Например, налогообложение может быть необходимо для обеспечения адекватной обороны от агрессоров, которые могут угрожать нашей жизни или лишить нас возможности улучшать наши условия жизни посредством притеснения и порабощения. Однако одни могут предпочесть борьбе бегство или достижение какого-то компромисса с захватчиками, другие могут предпочесть менее затратные оборонительные конструкции более дорогим, или, возможно, выберут смерть (с честью или, если это возможно, с меньшими страданиями), максимизируя потребление в последние дни перед тем, как начнется упомянутое вторжение. В разных обстоятельствах мы можем также видеть, как низкая склонность к солидарности индивида А может вступить в конфликт с высокой склонностью к солидарности индивида B. Разумеется, из вышесказанного можно заключить, что подходящий ответ в этих ситуациях требует, чтобы некто каким-то легитимным образом упорядочил эти естественные социальные предпочтения, что, конечно же, предполагает, что некоторые члены группы получат статус меньший, чем естественные члены общества, или даже меньший, чем люди. Или естественные социальные предпочтения, в конце концов, совпадут с теми, которые определяют «наименьший общий знаменатель» данной группы[147 - Сегодняшние масштабы налогообложения, с помощью которого финансируются программы перераспределения доходов (особенно на фоне низких объемов дарений и благотворительности) создают впечатление, что во многих странах значительное меньшинство, а может быть, уже и большинство населения не является «естественно социальным» в достаточной мере. Последовательный подход потребовал бы, чтобы они были переведены в разряд граждан второго сорта и, например, лишены права голоса на выборах.]. Здесь пролегает черта, разделяющая это мировоззрение и мировоззрение свободного рынка, в рамках которого это и никакое подобное упорядочивание не является возможным. Стало быть, концепция природной способности человека к социальности не является операционально значимой, и все недобровольные нормы (включая меры экономической политики) с необходимостью будут произвольными.
Подводя итог обсуждению принудительных экономических институтов, заметим, что они редко являются продуктом некоторого естественно протекающего политического процесса, направленного снизу вверх, когда экономические агенты разрабатывают правила игры и приходят к согласию по вопросу о них, а затем эти правила трансформируются в принудительные формальные правила – либо для обеспечения публичности и прозрачности, либо для обоснования природы и границ политического соглашения, в особенности в целях контроля над теми, кто уполномочен администрировать общественный договор, т. е. над бюрократией. В реальности все обстоит прямо противоположным образом: принудительные экономические институты стали инструментом, с помощью которого правители или правящие коалиции оправдывают свое право на власть. Поэтому природа и глубина укорененности этих институтов зависят от той роли, которую, как считается, они играют в данных исторических и политических конкретных обстоятельствах, а также от того уровня, при превышении которого терпимость к принуждению более не гарантирована и происходит восстание.
4.4. О динамике принудительных правил
В предыдущем разделе мы хотели прояснить два момента. Принудительные институты не являются необходимым средством для того, чтобы общество существовало и удовлетворительно функционировало. Кроме того, их легитимность вызывает большие вопросы. Ссылки на эффективность и природную способность к социальности (гражданский долг) представляют собой слабую защиту. Большинство экономистов мейнстрима согласятся с тем, что многие правила в действительности оказывают угнетающее воздействие на экономический рост, поскольку препятствуют контрактам, мешают предпринимательству и ослабляют конкуренцию. Более того, имеются свидетельства о негативных последствиях, которые наличие принудительных институтов имеет для гражданских добродетелей, поскольку внедрение формальных принудительных институтов вполне может побудить индивидов к тому, чтобы получать преимущества за счет своих сограждан, следуя чисто рациональным оптимизационным критериям[148 - См., например, работу [Borges and Irlenbusch, 2007], в которой показано, что внедрение обязательных норм о праве на отказ от покупки при торговле с доставкой на дом, приводит к существенному увеличению случаев нечестного поведения покупателей (такого, как заказ дорого телевизора перед важным футбольным матчем и возврату покупки сразу по его окончании).]. Итак, принудительные институты (нормы и правила) сохраняют свою действенность только в рамках своих функциональных задач. Их создают и принуждают к их исполнению не потому, что они представляют собой часть спонтанного социального контекста, который мог бы оправдать их появление на том основании, что это часть естественного хода вещей, или потому, что они эффективны, как это происходит в случае добровольных правил, но потому, что они обслуживают цели отдельных индивидов или отдельных групп индивидов. Отсюда следует, что теория институциональной динамики должна с необходимостью базироваться на концепции политической и властной динамики, т. е. на исследовании тех способов, с помощью которых индивиды или группы превращаются в правящие, а также на понимании шансов этих правящих групп остаться у власти с помощью тех или иных стратегий. Это объясняет связь между принудительными правилами, легитимностью правителя и концепцией функционирования и/или возникновения государства. Это также объясняет, почему динамика принудительных правил в конечном счете зависит от того, как индивиды воспринимают присутствие лица, обеспечивающего принуждение к выполнению принудительных правил.
Как и в большинстве других случаев, обобщения опасны и при изучении институциональной динамики: каждая цивилизация обладает своими собственными отличительными чертами, которые эволюционируют, иногда существенно изменяясь во времени[149 - Политическая наука предложила несколько принципов таксономии политических институтов, встречавшихся в истории человечества, и несколько интерпретаций ведущих классификационных признаков. Так, в [Baechler, 2002] упор делается на реакции на непредвиденные обстоятельства, в [Bobbitt, 2002] предлагается эволюционный механизм, приводимый в движение развитием и требованиями военных технологий, в [Darwin, 2008] внимание привлекается к культурному шоку (возникновение гуманизма), имевшему место в конце XV в.]. Это, в частности, верно и для анализа роли государства. Все же если взять историю Запада, воспользовавшись понятием, которое с момента крушения универсалистского проекта приобрело более определенное значение[150 - Значение универсализма невозможно переоценить, так как его крах обернулся формированием уникальной особенности, которая де-факто объяснила, почему после крушения Римской империи европейский континент больше никогда не переживал периода имперского правления, вовсе не имея империи в полном смысле этого слова, т. е. не считая его чисто номинального или административного значения (соответственно, Священная римская империя и империя Габсбургов).], то для наших целей мы можем выделить три эпохи. Первая может быть названа грегорианскими веками, вторая – секулярным периодом, и третья – веком социальной ответственности, который, в свою очередь, можно подразделить на элитистскую и популистскую фазы[151 - Данные термины подробно обсуждаются в следующей главе. Предвосхищая это, скажем, что григорианским период назван по имени папы Григория VII, который совершил критически важную институциональную революцию, которая привела к возникновению конкурирующих источников власти. Секулярный период включает в себя столетия, в течение которых религия утрачивала свою способность придавать легитимность политическому порядку. Под веком социальной ответственности имеется в виду большая часть XX в., в течение которого отношение к самой концепции государства претерпело кардинальное изменение (подробнее см. [Hoppe, 2001, ch. 2]). Начиная примерно с Первой мировой войны государство больше не отчитывается перед монархом или элитой, подчиняясь «народу» и/или его представителям, являющимся таковыми лишь в течение определенного времени.].
В течение первого периода, который де-факто продолжался вплоть до середины XVII в., принудительные институты не рассматривались в терминах социальной организации или сотрудничества, поскольку либо формальные правила были добровольными (контракты и обычаи), либо они воспринимались просто как инструмент подавления, используемый теми, кто находился у власти. За небольшими исключениями частичного характера (случай Англии), никто особо не скрывал того факта, что правящая элита посредством принудительных институтов добивается целей, которые сводятся к обогащению, сохранению привилегий и предотвращению дворцовых переворотов. Поэтому неудивительно, что, получив власть, правитель затем использовал ее для предотвращения появления любых конкурирующих групп, или для того, чтобы покупать лояльность народных элит, а также для лишения аристократов их владений[152 - Очевидно, первая стратегия явно просматривается в политике испанской монархии, и позже в политике Людовика XIV, которые свели на нет потенциальную угрозу в лице аристократии, преобразовав аристократов в дворян, т. е. превратив класс свободных, но безвластных индивидов в привилегированных придворных, отбиравшихся правителем, зависящих от его воли, разделяемых завистью и ревностью. Примером второй стратегии может служить Венеция, правящая олигархия которой докатилась до регулирования экономики, возведения административных барьеров на вход во множество видов торгово-промышленной деятельности и даже создания – с целью получить симпатии и лояльность народа – государственной службы здравоохранения, которая почти четыре столетия спустя послужила примером для Бисмарка.]. В результате в течение этих столетий динамика принудительных институтов свелась к истории близорукой эксплуатации: формированию терпимого налогообложения, целью которого была максимизация поступлений, в мире, для которого были характерны длительные периоды стагнации и общей бедности, а также наличие значительных территорий, живших в условиях постоянной угрозы восстаний и разорявшихся разбойниками и локальными войнами.
Этот контекст поменялся, когда правители ликвидировали оппозицию в лице влиятельных аристократов, когда они перестали нуждаться в компромиссе с религиозными властями, и когда они стали править, для достижения своих целей все в большей мере опираясь на всеобъемлющую и считавшуюся надежной бюрократическую машину. В этих условиях принудительные институты превратились в критически важный инструмент правителей как для управления бюрократией, так и для достижения ими их собственных целей. Главными приметами времени стали меркантилизм, современные налоговые системы и регулирование. Правители пытались также осуществлять вторжение в денежную сферу, но с меньшим успехом[153 - Так, например, Джон Ло придумал, как увеличить предложение денег, добавив землю и акции к золоту и серебру, поскольку общепринятый монетарный стандарт не смог оказать стимулирующего воздействия на экономический рост. Итогом реализации его схемы стал крах экономики, поскольку реальный ВВП зависит не от предложения денег и не от единиц измерения, и вследствие жадности правителя, который быстро заставил Ло выпускать деньги вообще без всякого реального обеспечения, будь то металл, земля или акции.]. Однако и в данном случае надежды найти некое ключевое объяснение, способное продвинуть теорию институциональных изменений, обратившись к анализу на базе паттерна рациональной эффективности, оказываются иллюзорными. Вместо этого нужно просто-напросто принять тот факт, что в течение этого периода исторические и технологические изменения заставили правителей мобилизовывать значительные ресурсы для военных и административных целей: они больше не могли позволить себе наемные войска в таких количествах, как раньше, и не могли больше полагаться на небольшое количество местных аристократов. Следовательно, два важнейших качества, принудительных институтов в течение всего периода оставались неизменными: принудительные институты а) служили государству символами центральной власти, образуя и главное ее содержание, и б) они формировались для решения задачи увеличения богатства страны и удовлетворения ее военных нужд. И это все. Для объяснения происходившего не требуется привлекать ни зависимости от предшествующего пути, ни эволюционного отбора, если понимать эти термины хоть сколько-нибудь определенно.
Что касается легитимности, то очевидно: когда благословление Божие, дарованное по праву рождения, более не рассматривается как имеющее силу (или как имеющее достаточную силу), должны быть отысканы и установлены новые источники оправдания многочисленной государственной бюрократии и тяжкого налогового бремени. Неудивительно, что на смену теологам пришли политические теоретики. Кроме того, не было недостатка в предшественниках, поскольку в XIII в. Фома Аквинский и схоласты уже продемонстрировали образцы систематических рассуждений и использования разума для уяснения божественного порядка. Роджер Бэкон, посвятивший всю свою жизнь экспериментированию, видел в экспериментах средство для достижения схожей цели, а именно открытия в природе проявлений Божьего замысла[154 - Нужно признать, что хотя прозрения Р. Бэкона и Фомы Аквинского правомерно считаются двумя из трех краеугольных камней цивилизации Запада (третьим камнем является идея разделения властей и личной ответственности), они были забыты вскоре после их смерти, и в течение следующих двух столетий преобладающим было совершенно иное Weltanschauung (мировоззрение). Вера в человеческий разум сменилась убежденностью в том, что реальный мир проклят и омерзителен, и вся надежда – только на Страшный суд (см. [Delumeau, 1983]). На эти два столетия пришлась Черная смерть (эпидемия чумы), нашествие турок, перманентные войны, включая Столетнюю войну, восстания и разрушения. Серьезным сомнениям была подвергнута даже ценность знаний.]. Эксперименты с политическим конструктивизмом начались сразу после заключения Вестфальского мира в 1648 г., в соответствии с которым королевства и иные политические образования стали считаться созданием человека и начали управляться в соответствии с международными соглашениями на основе взаимных гарантий, в которых признание церковью, не говоря уже об одобрении с ее стороны, играло незначительную роль. Через самое непродолжительное время идея естественного порядка превратилась в идею рационального порядка и стала тем стандартом, на базе которого стали оцениваться адекватность и приемлемость принудительных институтов. В частности, к рубежу XIX–XX вв., вследствие индустриализации и урбанизации прошло нескольких десятилетий, в течение которых к политике приобщалось все увеличивающееся с каждым годом число людей, так что перспектива крупномасштабного перехода власти от элит к широким массам населения стала неизбежной. Поэтому понятие легитимности правителя тоже изменилось и стало в большей мере соответствовать текущему пониманию действий рационального государства. Короче говоря, поскольку в новых условиях критически важными оказались общественное мнение и консенсус, то и принудительные институты стали инструментами, посредством которых можно было формировать общественное мнение и достигнут консенсус.
Этот исторический экскурс объясняет, почему мы считаем, что традиционная точка зрения на институциональную динамику должна быть пересмотрена. Резюмируя суть институционального подхода, Дуглас Норт определил институты как «внешние (по отношению к разуму) механизмы, которые индивиды создают, чтобы структурировать и упорядочивать окружающую среду» (см. [North, 1994, p. 363]) и провозгласил, что «возникающие организации будут отражать возможности, предоставляемые институциональной матрицей» [Ibid., 361][155 - В [North, 1994, p. 361] Норт определяет организацию как «группу индивидов, собранных вместе для достижения общих целей».]. Мы утверждаем, что дело обстоит ровно наоборот, а именно: в условиях рационального государства институты не являются ни фиксированной системой ограничений, ни посредниками, при помощи которых заданные интерпретации внешнего мира (представления) порождают «социальные и экономические структуры». Напротив, наш подход состоит в том, чтобы провести различие между двумя возможными мирами – элитистским и популистским.
В условиях, когда преобладает элитизм, правитель задействует принудительные институты в интересах этих элит. Иначе говоря, меры экономической политики разрабатываются и принудительно реализуются не для торжества принципов свободного рынка, не вследствие убеждений, согласно которым система свободного рынка создает наилучшие возможности для экономического роста. Вместо этого институциональная динамика воспроизводит то, что требуется для продолжения курса на использование имеющихся возможностей по извлечению бюрократической ренты. Таким образом, политика свободного рынка тоже трактуется как одна из таких возможностей, что на практике может привести лишь к реализации схем частичного дерегулирования. Например, политика свободной торговли проводится в отношении некоторых отраслей, но не распространяется на другие. Приспосабливающая корректировка институциональной структуры может также требоваться для адаптации к постепенным изменениям (например, к прогрессу технологий или появлению новых рынков) либо к условиям военного противостояния. Однако все это может представлять собой не пресловутую зависимость от предшествующего пути, а простую коррекцию под воздействием непреодолимого давления, оказываемого либо извне, как в вышеупомянутых случаях (прогресс технологий и внешняя агрессия), либо изнутри, например, как в случае, когда элиты ощущают, что они могут обеспечить легитимность своей власти только в условиях напряженной международной обстановки (агрессивная внешняя политика, непременно оканчивающаяся войной).
Второй сценарий реализуется в ситуации, когда политическая игра долее не может продолжаться без явно выраженного согласия народа, т. е. когда люди больше не считают, что единственной задачей государства (со всем применяемым им арсеналом принудительных институтов) является сохранение существующих или изобретение новых доходов, получаемых в порядке присвоения бюрократической ренты. В этой ситуации от государства ожидается, что оно должно также осуществлять крупномасштабное перераспределение богатства, удовлетворяя при этом следующим трем ограничениям: никакая альтернативная система не может функционировать лучше; процедуры создания правил этого государства предлагают заслуживающие доверия перспективы повышения уровня жизни; издержки изменения политического контекста слишком высоки. При соблюдении этих условий изменение принудительных правил приобретает кумулятивный характер, и в конечном счете они превращаются в инструмент, с помощью которого процесс разработки и реализации мер экономической политики приобретает черты произвола. Кумулятивный характер объясняется тем, что, когда правитель подчиняет политическое будущее консенсусу, а давление законодательства, пробитого группами интересов, постоянно действует в противоположном направлении, рациональным ответом на это являются предоставление возможности для накопления указанного давления, ассимиляция представителей лидирующих групп интересов и превращение процесса принуждения в предмет ситуативной оценки. Тогда произвол просто не сможет не восторжествовать над формализмом правил. Как известно еще со времен Аристотеля, «когда, как в наших переполненных городах, дается оплата, тогда государством правит множество народа, которым больше нечего делать, а не закон» (см. Politics, IV)[156 - В русском переводе в точности таких слов не обнаружено, в книге IV наиболее близким фрагментом является: «Вследствие увеличения государств по сравнению с начальными временами и вследствие того, что появилось изобилие доходов, в государственном управлении принимают участие все, опираясь на превосходство народной массы, благодаря возможности и для неимущих пользоваться досугом, получая вознаграждение. И такого рода народная масса особенно пользуется досугом; забота о своих собственных делах нисколько не служит при этом препятствием, тогда как богатым именно эта забота и мешает, так что они очень часто не присутствуют на народных собраниях и судебных разбирательствах. Отсюда и происходит то, что в государственном управлении верховная власть принадлежит массе неимущих, а не законам» (Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 499).]. Результат, проистекающий из такого положения дел, является двояким. С одной стороны, государственная машина разрастается, с тем чтобы вобрать в себя новых членов и управлять все более усложняющейся системой принудительных формальных правил. С другой стороны, творцы социально-экономической политики теряют контроль за ситуацией в целом, так как через какое-то время они перестают понимать, что именно они обсуждают. После этого принуждение начинает зависеть от бюрократии и от судебной власти[157 - В этом важном аспекте институты и законодательство можно, пожалуй, считать зависящими от предшествующего пути, хотя это и не вполне соответствует строгому определению зависимости от предшествующего пути, которым так дорожат институционалисты.]. В итоге политики переключаются от проектирования подходящих институтов к обеспечению выполнения трех вышеупомянутых условий поддержания их власти и, возможно, к осуществлению соответствующих действий – с помощью законодательства, или демагогии, или того и другого. Повторим: реальной целью политической деятельности часто являются самосохранение и погоня за выгодой, а принудительные правила – инструменты этого ремесла.
4.5. Наследие Веблена и вызовы современного институционализма
Напомним одно весьма убедительное утверждение Ланглуа о том, что вклад институционализма в экономическую теорию берет свое начало с догадки Карла Менгера: экономическая теория занимается взаимодействиями в условиях ограничений, накладываемых редкостью, а институты служат инструментами, посредством которых индивиды пытаются создать, расширить и объединить возможности сотрудничества (см. [Langlois, 1989]). Современные институционалисты согласны с тем, что для сотрудничества нужны правила, и они заслуживают всяческих похвал за то, что неустанно указывают на недостатки характерного для так называемого мейнстрима подхода, вальрасовского в своих основаниях, согласно которому транзакции можно изучать, комфортно предположив существование исчерпывающе определенных контрактов, наличие совершенно информированных индивидов и отсутствие стимулов к мошенничеству. В частности, в последние 30 лет именно благодаря институционалистам многократные неудачи по воплощению в жизнь взятых из учебников схем достижения эффективности, полной занятости и экономического роста вновь подогрели интерес к природе и свойствам систем стимулов. На самом деле урок Менгера не шел далее обращенного к будущим поколениям призыва: изучить и понять динамику институтов для того, чтобы усвоить самую суть процесса эволюции экономической деятельности. Такое исследование, однако, могло не иметь в виду ничего нормативного, так как Менгер полагал, что институты меняются посредством приобретения знаний, посредством усилий, предпринимаемыми человеком для прорыва сквозь завесу неопределенности. Разумеется, вы не можете иметь нормативной цели, если у вас нет цели вообще.
Пока же сегодняшние исследования институционального направления, несмотря на наличие ряда важных исключений (например, в лице Оливера Уильямсона), зачастую следуют прямо противоположным путем и занимаются прогнозированием, покушаясь даже на то, чтобы давать рекомендации в области регулирования экономической деятельности. Вместо того чтобы рассматривать эволюцию институтов как инструмент приобретения знания и использования возможностей, восторжествовала точка зрения, согласно которой движущей силой институциональных изменений являются изменения технологий. В частности, наиболее авторитетные сегодня институционалисты склонны принимать точку зрения Веблена на то, каким образом институты воздействуют на предпочтения индивидов, полагая, что институты определяют самое восприятие людьми окружающего мира и в конечном счете моральные стандарты и суждения. Кроме того, современные институционалисты добавляют к факторам, фигурировавшим в описании Веблена, технологические сдвиги, считая их тем главным, что определяет новые правила. Таким образом, для большей части институциональных исследований вызов состоял в необходимости спрогнозировать то, каким образом прогресс технологий и экономический рост воздействуют на предпочтения и поведение – через институциональный контекст, располагающийся где-то между этими двумя группами явлений. Неудивительно, что искушение считать институты инструментами, с помощью которых можно и моделировать поведение, и сохранить теоретическую добродетель, оказалось непреодолимым.
Иначе говоря, то обстоятельство, что Веблену не удалось создать непротиворечивую и ясную теоретическую конструкцию[158 - Глубокий критический анализ эволюционистской доктрины Веблена см. в [Sowell, 1967].], не остановило авторов, писавших в поствебленовскую эпоху, ни от бездумного повторения детерминистских установок исторической школы, ни от указаний на необходимость активных институциональных интервенций для того, чтобы управлять этой «ужасной» институциональной инерцией, как они называли спонтанность[159 - Строго говоря, старых институционалистов, писавших сразу после Веблена, таких как Джон Коммонс и Уэсли Митчелл, нельзя назвать детерминистами. Однако, верно и то, что этот детерминизм был более или менее скрыт путем введения концепции непредвиденных шоков, которая была принята на вооружение, вместо того чтобы признать, что то, что представляется процессом, зависящим от пути, ex post, вряд ли является таковым ex ante. В частности, заявлять о чьем-то неведении в отношении свойств этого процесса, предположительно зависящего от предшествующего пути, вовсе не то же самое, что признать, – неопределенность просто-напросто делает невозможным приобретение точных знаний о будущем.]. Для наших целей более важно, что наследие Веблена продолжает ощущаться в постоянных попытках оспорить индивидуалистические основания экономической мысли и в аргументации, согласно которой поведение человека более не может считаться проявлением его природы, поскольку на его предпочтения и то, как он воспринимает мир, оказывают влияние институты. Из этой вебленианской линии рассуждений следуют три вывода. Во-первых, стандартная экономико-теоретическая логика должна испытывать негативное воздействие эндогенного смещения, поскольку институты представляют собой причину и следствие не только индивидуальных действий, но и индивидуальных предпочтений. Во-вторых, кажется, что единственным средством разбить этот порочный круг являются безоговорочное принятие методологического холизма и взгляд на экономическую теорию в социологических терминах и, разумеется, с более отчетливым упором на макроэкономику. Наконец, расширяются основания для активной – и проводимой централизованно! – экономической политики: поскольку на индивидов могут воздействовать «плохие» институты, то поведение этих индивидов и делаемый ими выбор могут быть под вопросом (а так ли уж они «естественны»?), что открывает путь постоянно усиливающемуся вмешательству в этот выбор и поведение. Подытоживая все вышесказанное, заметим, что для тех, кто отвергает неоклассическую очарованность концепцией общего экономического равновесия, рассматриваемого как главный критерий экономической политики, наследие Веблена предлагает захватывающие альтернативы – справедливость и социальную эффективность, которую мы разбираем в других главах данной книги. Однако в этом контексте различие между добровольными и принудительными правилами больше не является вопросом о моральном превосходстве одних над другими, а представляет собой задачу консеквенциалистского выбора: что лучше служит свободе – спонтанные эволюционные механизмы (добровольные правила) или удовлетворительное определение общей воли (принудительные правила)? А что насчет экономического роста? Или справедливости? Понятно, что вопросы могут отличаться друг от друга, но их методологическая постановка будет одной и той же.
Нужно признать, что, формулируя свои взгляды, институционалисты останавливаются в шаге от нормативных утверждений. Тем не менее их предложения перед нами – они доступны, видимы и противоречивы. Если экономист-теоретик, принадлежащий к институциональному направлению, признаёт, что большую часть рациональности человека должны формировать правила игры, и если индивидуальные предпочтения могут быть заданы институциональным контекстом, то такой ученый обязательно находится в двойной ловушке: он вынужден нападать на суверенитет личности во имя социальной добродетели или во имя эффективности (общее благо), и он же обязан отказывать демократическим процедурам в праве определять общую цель, коль скоро индивид может оказаться социально иррациональным и проголосовать, преследуя свои собственные интересы, а не так, чтобы это соответствовало критерию социальной рациональности (положение Веблена). В самом деле, почему нужно беспокоиться о выборе, если лицо, принимающее решение, заранее знает, что именно должно быть сделано? В конечном счете возникает впечатление, что благоразумие предполагает отказ от неудобных вопросов, что имеет свою цену: институционализм начинает объяснять, переставая понимать, институционалистская традиция становится детерминистской, а не нормативной.
Мы утверждаем, что в отличие от институционализма доктрина свободного рынка избежала попадания в ловушку Веблена. Как уже говорилось в этой главе выше, субъективизм и методологический индивидуализм буквально сплетены воедино с принципом человеческого достоинства: если отсутствует соответствующий явно сформулированный и добровольно заключенный контракт, никто не имеет права выбирать за другого или принуждать другого к следованию своим собственным предпочтениям посредством насилия. Это означает, что принудительные институты либо имеют низкую степень легитимности, либо не имеют ее вовсе, и что слабое государство де-факто не является проблемой: оно принято по умолчанию и игнорируется, когда функционирует неэффективно – либо потому, что не может предложить удовлетворительные институты, либо потому, что не может принудить к выполнению добровольно взятых на себя правил (добровольных институтов).
Положение, сформулированное Вебленом, истинно: любые правила всегда воздействуют на предпочтения людей. И что из этого следует? Вопреки тому, что считают некоторые авторы, пишущие в неоклассической и даже австрийской традиции, доктрина свободного рынка никогда не опиралась на утверждения о существовании неизменных, заданных лишь генетикой предпочтений. В действительности предпочтения всегда подвержены изменениям – из-за самого наличия неопределенности, из-за непрерывного приобретения знания в ходе процесса проб и ошибок, посредством которого мы адаптируем наше поведение и улучшаем результаты сотрудничества с другими людьми. Столетия назад некоторые авторы могли бы упорядочить разновидности этих изменений, исходя из существующей, как они считали, врожденной социальной природы человека. Сегодня некоторые, возможно, укажут на влияние средств массовой информации и системы образования или приведут какие-то новые аргументы, связанные с влиянием новых и подчас неопределимых природных факторов. Так или иначе, свобода получать и перерабатывать информацию нужна всегда. Конечно, ошибки случаются, и люди по-разному оценивают одни и те же вещи. Но ведь даже принятие того, что это возможно, представляет собой квинтэссенцию принципа индивидуальной ответственности, который, конечно, также предполагает, что никакой человек не имеет права обременять обязательствами других лиц (более умных или просто более удачливых), нарушать их право собственности и любые другие права без явного согласия этих других лиц.
Это объясняет, почему для свободного рынка по-настоящему значимым вопросом является вопрос о легитимности принуждения и в конечном счете о легитимности государства (с учетом той или иной разновидности государства). Будучи далеко не нормативным вопросом, различение добровольных и принудительных правил обеспечивает альтернативное решение проблемы, обсуждавшейся в ходе хорошо известной дискуссии о взаимодействии между формальными и неформальными правилами, каковая дискуссия занимала такое заметное место в литературе институционального направления как в последние годы, так и ранее[160 - Та же тема в литературе по проблемам экономического развития и переходным экономикам обсуждается в терминах двух разных вариантов реформ – реформ, осуществляемых сверху, и реформ, осуществляемых снизу. В главе 9 мы будем рассматривать то, какие экономические последствия имеют эти подходы.]. Объяснительная мощь различения формального и неформального хорошо известна, но оно мало что дает за пределами формулирования того, что и так очевидно: формальные институты успешны, когда они не вступают в противоречие с неформальной структурой, которая обычно определяется как «культура». Таким образом, либо успешные формальные институты просто воспроизводят культурные обычаи и традиции, либо именно их эффективность вызывает некую разновидность культурного шока. Когда эти явления не имеют места, система начинает медленно «закипать» или демонстрировать открытый конфликт между правителями (реформаторами) и остальным населением.
Итак, будучи удовлетворительными лишь по видимости, вышеупомянутое различение между неформальными и формальными институтами, фиксируемое в литературе, не оправдывает возлагающихся на него надежд в двух отношениях. Во-первых, оно ничего не говорит о ситуациях, в которых нет никакого очевидного конфликта между разными наборами правил, но в которых экономика не работает с ожидаемой эффективностью. Во-вторых, в рамках этого подхода утверждение, согласно которому целью разработки и принятия формальных правил всегда является увеличение экономической эффективности, принимается без доказательств, при этом, похоже, полностью игнорируется существование цепочек непредвиденных последствий, которые довольно быстро выходят из-под контроля. Предложенное в этой главе разделение институтов на добровольные и принудительные дает возможность получить ответы. В действительности главный институциональный вопрос состоит не в том, откуда появились правила, и не в том, соответствуют ли они существующей культурной среде. Главный вопрос состоит в том, чтобы установить, в какой мере правила позволяют индивиду создавать и модифицировать соглашения о сотрудничестве, а в какой мере правила являются инструментами для получения привилегий. Это не отменяет возможности того, что общественный договор может быть структурирован так, чтобы включать и сотрудничество, и погоню за бюрократической рентой. Как будет подробно рассмотрено в следующей главе, в ситуациях, когда применяются общественные договоры, свободный рынок требует, чтобы они либо были явными, либо чтобы они были снабжены оговорками, позволяющими осуществить выход из договора с низкими издержками.
Глава 5
Общественные договоры и исторические нормы
5.1. О производстве, надежности и стабильности норм
Наш мир несовершенен. Демократии часто испытывают негативное воздействие несовершенных норм, введенных в действие недальновидными политиками, большинство из которых не знают, о чем говорится в принятых ими законодательных актах, но которые готовы вписывать туда все, что потребуют группы интересов, и удовлетворить тех или иных представителей избирателей или просто достаточно шумные слои населения. Школа общественного выбора, применившая постулат о рациональном выборе, применяется к лицам, создающим законы, говорит нам, что это вовсе не удивительно. Политики – это такие же люди, как и все остальные, и процедуры, с помощью которых они избраны, не дают им повышенной честности, не говоря уже о повышенной степени альтруизма. В этой сфере процесс отбора действует скорее в противоположном направлении. Независимость мышления здесь не является плюсом, выступая подчас помехой. Словом, творцы правил вполне рациональным образом склонны действовать так, чтобы создаваемое ими законодательство увеличивало их собственное благосостояние. Они делают все, что нужно для достижения и поддержания консенсуса, для увеличения популярности, для сохранения репутации, словом, все то, что требуется для избрания, переизбрания или назначения на должность. Во многих случаях партийная лояльность берет верх над последовательно моральной позицией, что сказывается и на качестве законов. Конечно, результаты законодательного процесса не всегда контрпродуктивны или разрушительны. Случается, что нормы согласуются со здравым смыслом и отвечают широко понимаемым интересам сообщества. Однако, даже если воздержаться от оценки качества правил, и даже в тех случаях, когда нет никаких проблем с финансированием соответствующих начинаний, нет никаких гарантий, что принятые правила будут применяться должным образом. Так, например, бюрократы частенько стремятся к тому, чтобы приспособить их к своим собственным требованиям и предпочтениям. Они могут также посчитать выгодным увеличение затрат, которые граждане несут в связи с получением защиты, положенной им в соответствии с той или иной нормой закона. Все это совершенно необязательно должно иметь формы какой-то невероятной преступности или коррупции. Иногда это простое увиливание: государственные служащие намеренно прибегают к задержке дел, либо умножают количество инстанций, разрешение которых является обязательным, – все это, чтобы избежать ответственности. Иногда перед нами просто попытки бюрократа расширить спектр дискреционных действий (т. е. тех действий, которые он осуществляет, руководствуясь исключительно и только своими собственными решениями. – Перев.) – в соответствии с присущим человеческой природе стремлением к престижу и власти или в соответствии с желанием создать дополнительный спрос на услуги, оказываемые бюрократами, что оправдает их работу и, возможно, даст шанс для продвижения по карьерной лестнице[161 - Возможно, важную роль играет также система сообщающихся сосудов. [Практика перехода с государственной службы в регулирующем органе в частный бизнес характеризуется с помощью английского выражения revolving doors, т. е. вращающиеся двери. – Перев.] Чем сложнее регулирование и чем выше значимость установления прочных личных отношений с государственными служащими, тем более широкие возможности для работы в частных компаниях открываются перед теми бюрократами, которые хотят перейти на другую сторону и стать посредниками между частным сектором и своими бывшими коллегами.].
Источником неопределенности может быть также и сама правовая система – в тех случаях, когда акторы придерживаются своего собственного прочтения законов, самостоятельно устанавливая, что они значат на самом деле, либо когда они, указывая на те или иные особые обстоятельства, трактуют нормы законов в свою пользу. Учитывая, что большинство судебных процессов можно считать зависящими от «особых обстоятельств», применение одной и той же нормы закона вполне может генерировать разные исходы, подрывая тем самым доверие к этой норме, т. е. к ее способности обеспечивать ясное и последовательное указание на то, что является законным, а что нет, и служить достаточно точным ориентиром, позволяющим предугадывать будущее поведение[162 - Разумеется, доверие к закону зависит также от свойств системы принуждения к его исполнению (включая понятность и прозрачность), от вероятности обнаружения правонарушителя и возможности подать на него в суд, от санкций, предусмотренных за нарушение закона, а также от того, сколько времени требуется для компенсации ущерба.]. Это явление усугубляется тем, что законодательство все в большей мере становится результатом компромиссов и практики взаимных услуг, которые политики оказывают друг другу, что выражается в растущей неопределенности текстов, полных лазеек и противоречий. Неудивительно, что такое качество законодательных текстов порождает богатые возможности для интерпретаций (а также потребность в них), превращая право тем самым в поле законодательного и правоприменительного сговора или войны[163 - Это характерно и для тех стран, в которых действует система общего права, см., например, работу [Harnay, Marciano, 2007], в которой исследована мотивация судей, действующих в системе общего права.].
Это явление становится еще более очевидным, если принять во внимание деятельность международных или наднациональных агентств, требующих корректировки национальных законодательств, что оказывается весьма нелегким делом, требует времени и вряд ли может обойтись без ошибок. Обычно с этими трудностями старается справиться судебная система, которая интерпретирует первоначальный замысел законодателя или делает отсылку к нормам более высокого уровня (например, к высшему конституционному законодательству) или использует общие принципы, сформулированные более или менее неопределенно. Хорошо известными примерами таких общих принципов могут служить понятия социальной справедливости, экономической (распределительной) справедливости и равенства. Важной чертой бюрократии является также и то, что именно бюрократы продираются сквозь сотни тысяч страниц новых законодательных норм, которые в любой достаточно развитой стране ежегодно производит мало-мальски «продуктивный» аппарат по производству законов. В этих случаях могут возникать неформальные правила поведения, которые со временем начинают играть решающую роль, поскольку каждое ведомство стремится пестовать отдельные правила и разрабатывать отдельные кодексы поведения, регулирующие повседневную деятельность своих сотрудников.
Какая бы конкретная структура не сложилась в результате этих процессов, их общий итог один и тот же: все вышеназванное приведет к возникновению противоречий и непреодолимых сложностей. Это создает пространство для дискреционных процедур по толкованию и прояснению ситуаций, что парадоксальным образом увеличивает спрос на следующие законодательные акты. В конце концов это обернется потерей доверия к законам как таковым, что приведет к потенциально контрпродуктивным последствиям. Прискорбно, но именно сейчас, когда прогресс технологий делает частный рыночный обмен между сторонами, имеющими частную природу, все более безличным и простым, как только мы переносимся в мир, где создаются и применяются общие законы и правила, мы видим, что здесь происходит нечто прямо противоположное.
Увеличивающаяся сложность и противоречивость системы законодательных и регулирующих норм неизбежно влияют на их стабильность. По мере того как обнаруживается, что старые нормы неэффективны или что они устарели, и по мере того как вследствие этого растет давление в пользу их реформирования, растущие ожидания мер экономической политики подталкивают законодателя к тому, чтобы предпринимать действия во множестве сфер предположительно существующего общего интереса, каковые действия, о какой бы конкретно сфере ни шла речь и как бы ни определялись эти действия (экзогенно или эндогенно), неизбежно затрагивают, причем затрагивают очень сильно, достаточно большую часть электората. Следовательно, растет неопределенность в отношении того, какие именно действия будут предписаны правилами в будущем, а также учащаются проявления оппортунистического поведения. Все это сокращает период планирования, который экономические агенты имеют в виду, составляя свои планы. Неопределенность не только понижает дисконтированную ценность потока будущих доходов, что при прочих равных негативно воздействует на экономический рост[164 - См. об этом у Хоппе, который в [Hoppe, 2001] объяснил, что норма временного предпочтения непременно растет по мере того, как общество становится все более демократическим. Более высокая норма временного предпочтения может подталкивать людей к определенным разновидностям экономического стремления к бюрократической ренте (например, к лоббированию протекционистских мер), поскольку связанные с этим чистые выгоды имеют краткосрочную природу, а чистые издержки – долгосрочную (см. [Rizzo, 2008, pp. 895–896]). Такое поведение также затронет распределение инвестиций по временным периодам, вызовет к жизни ошибочные инвестиции и затормозит экономический рост. Похожая линия рассуждений прослеживается в работе [Nicita, 2007], автор которой подчеркивает значимость того, что он называет транзакционными издержками ex ante, которые он определяет как издержки, связанные с неполным определением прав собственности, что ведет к судебным тяжбам и препятствует обмену.]и личное благосостояние граждан, но и побуждает многих экономических агентов искать возможности для заключения контрактов, полагаясь на грядущие реформы, которые будут предусматривать принуждение к исполнению контрактов, устанавливаемое задним числом (либо будут содержать критерии апостериорного принуждения). Такие агенты ставят на конфликт с другими сторонами контракта, каковой конфликт может возникнуть рано или поздно. Все это вносит вклад в разрушение системы координации и, возможно, также и в подрыв надежности структуры прав собственности.
5.2. В поисках конституционных решений
Все вышесказанное показывает, что даже когда законодатель трактует принцип верховенства права в соответствии с традиционным смыслом этого понятия, т. е. понимает под системой права систему заслуживающих доверия, непротиворечивых и стабильных принудительных правил, которую люди считают справедливой и эффективной[165 - Согласно оценке Хайека, данной им в [Hayek, 1960], литература последнего времени, посвященная значимости принципа верховенства права, концентрируется скорее на таких свойствах права, которые расширяют возможности индивидуального планирования, долгосрочного сотрудничества между экономическими агентами и предсказуемости поведения, чем на анализе фактического содержания правовых норм. Иначе говоря, основное внимание уделяется процедурным качествам норм, а не их основаниям. Так, справедливость (и верховенство права) теперь представляет собой критерий, позволяющий не обеспечить такое положение, при котором естественные права индивида надежно защищены, но убедиться, что индивид не подвергается дискриминации. Системным ориентиром является не моральный стандарт, а другие члены сообщества. Например, многие сторонники принципа верховенства права довольны мерами регулирования, если они надежны, стабильны, просты для понимания, предусматривают легкость принуждения к их выполнению и равным образом применимы ко всем, кто занят регулируемой деятельностью. Является сама по себе данная норма регулирования хорошей или плохой, кажется, имеет меньшее влияние на то, будет ли на нее навешен ярлык соответствующей праву. В итоге торжествует консеквенциализм и решение главных содержательных вопросов доверено общественному мнению и сегодняшним моральным стандартам, что закрывает вопрос, должно ли решение вопросов справедливости и легитимности опираться на общие и неизменные принципы или лишь на консенсус.], все это все равно опирается на довольно шаткое основание. Вместе с тем значительная часть профессионального сообщества экономистов полагает, что необходимо найти решение этой проблемы.
Согласно традиции ордолиберализма[166 - К сожалению, мы редко воздаем должное таким авторам, как Вальтер Ойкен и Франц Бом, принадлежащим к основателям фрайбургской школы ордолиберализма. Также редко упоминаются и те, кто первым указал на важность связи между нормами и экономической эффективностью (этот интеллектуальный долг простирается вглубь веков – до Адама Смита, если не до еще более отдаленного прошлого).]большинство экономистов принимают без доказательства тот факт, что рецепт экономического процветания представляет собой некую смесь из экономической свободы (более или менее жесткое принуждение к соблюдению права собственности) и перераспределения во имя социальной справедливости и социального мира, куда нужно добавить некоторое количество норм регулирования экономической деятельности, зависящее от убеждений составителя рецепта в значимости и масштабах так называемых провалов рынка. Далее, все множество рецептов можно разделить на две группы. Для одной группы характерна неоклассическая ориентация. Она делает упор на разработку и внедрение подходящего институционального контекста, который требуется для того, чтобы следовать рекомендациям составителей проектов оптимальной экономической политики, и для осуществления необходимых для этого мероприятий, известных как тонкая настройка. Вторая группа принадлежит к традиции классического либерализма. Ее участники воздерживаются от рекомендаций конструктивистского толка, согласно которым нужно срочно начать осуществление разнообразных масштабных программ. Напротив, эти авторы концентрируются на принципе верховенства права, считая его единственным значимым операциональном механизмом. Они трактуют спонтанную эволюцию[167 - Термин «эволюционный» применяется здесь в значении, согласно которому социальное взаимодействие трактуется как такое, которое следует эффективному процессу адаптации; его не нужно путать с другим значением, которому термин обязан эволюционистской школе, согласно которой индивиды необязательно корректируют свое поведение так, чтобы получающиеся социальные результаты были наиболее желательными.]как двигатель, обеспечивающий движение к эффективности, справедливости и всеобщему благосостоянию. Для носителей этих воззрений задачей конституционной инженерии является создание некой «метаструктуры», в рамках которой эволюция сможет развернуть свою благотворную работу, а строгость принципа верховенства права не обернется злоупотреблениями.
Укажем на еще один подход, который имеет много общего с двумя вышеуказанными (детализированным моделированием действий агентов и широко понимаемым институциональным проектированием). Речь идет о попытках экономистов трансформировать и вопрос об эволюции, и вопрос о верховенстве права в чисто процедурные вопросы, т. е. в такие, в рамках которых можно и нужно контролировать только отклонения – посредством более качественного планирования, более эффективных ведомств или механизмов голосования и даже посредством принятия конституционных мер (имеющих отношение к экономике), которые годились бы для решения данной задачи. В частности, экономические конституции постепенно приобретают консеквенциалистский вид, когда метаправила разрабатываются и оцениваются не в соответствии с их философскими основаниями или моральными принципами, а в соответствии с их экономическими последствиями. Как будет показано ниже, этот подход служит двум целям: он открывает возможность для «объективного» измерения качества системы права (например, путем сопоставления ВВП на душу населения или темпов роста ВВП) и поощряет попытки представлять себе всякие постепенные изменения как процесс пошагового перехода от текущей ситуации к лучшей, так что каждое такое дискретное приращение со временем становится ощутимым. Это позволяет обойтись без межвременного моделирования и создавать конструкции в стиле «что если», которые весьма просты для реализации (метод гадания вслепую). Иными словами, когда принудительный институт терпит неудачу в деле достижения намеченных целей (экономического процветания и социального согласия), предполагается, что процесс разработки и принятия правил пошел неправильно, и требуется новый корсет из новых правил и «метаправил». Эти новые правила могут и не продвинуть лиц, разрабатывающих правила, в наиболее желательном направлении, но, как принято считать, они могут, по крайней мере, ограничить потенциальное недовольство. В этом суть и конституционной экономики, и ее расширенного, ориентированного на неоклассическую теорию варианта – новой политической экономии[168 - В литературе принято различать «современную» и «новую» политическую экономию (см. [Boettke et al., 2006]). Первая знаменует собой возрождение исследовательской программы, поддерживаемой шотландской традицией. Вторая представляет собой разновидность неоклассической школы, в рамках которой предполагается существование рациональных индивидов, максимизирующих полезность и пытающихся спроектировать такие институты (правила и организации), которые позволили бы им максимизировать заданные результаты.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: