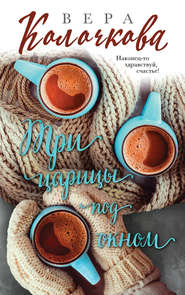скачать книгу бесплатно
Три царицы под окном
Вера Александровна Колочкова
Кабы я была царицей… Так мечтали три сестры Тамара, Соня и Вика. Только младшие могли уноситься в грезы сколько угодно, а старшая, Тамара, все свои мечты откладывала на потом: вот вырастит сестренок-сирот, тогда и заживет для себя, тогда и грезы ее начнут сбываться…
И вот одна из младших сестер выдана замуж, вторая отселена в квартиру, доставшуюся по завещанию доброй старушки. Можно начинать жить для себя! Тамара дает объявление о том, что ищет мужчину для создания семьи… И вскоре весь двор уже видит ее с мужчиной под ручку. Ну что же? Наконец-то здравствуй, счастье? Или придется еще немного подождать?..
Вера Колочкова
Три царицы под окном
© Колочкова В., текст, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Вздрогнув, Соня в который уже раз открыла глаза, вытаращила их в темноту, прислушалась. И даже голову подняла с подушки. Нет, сколько можно уже себя изводить? Все равно ж не заснешь под эту сердечную свистопляску, которую она сама себе устроила. Вон как оно, бедное, бухает в глубине организма, сотрясая его глупой мистической лихорадкой. Смешно, честное слово. Ей-богу. Со стороны посмотреть – самой стыдно. Лежит глубоко за полночь взрослая девица в своей постели, в своей почти уже собственной квартире, прислушивается к подозрительным ночным шорохам…
На кухне в этот момент и впрямь что-то пискнуло тоненько, потом заскреблось, потом прошлось легким ветром по бамбуковым висюлькам, символически отделяющим кухню от комнаты. Соня замерла, сглотнула забившееся сердце, нашарила кнопку маленького допотопного ночника, сиротливо пристроившегося в изголовье. Хотя толку от него, от ночника этого… Сразу тени подозрительные побежали к окну, старинный буфет в углу высветился сердитой горбатой горою, и даже, как ей показалось, листья фикуса в кадке у окна вздрогнули в едком недовольстве – ишь, нервной какой оказалась их новая хозяйка…
Нет, не любила ее эта квартира. Не принимала никак. Отторгала всеми возможными способами. Тосковала, наверное, по прежней своей хозяйке, Анне Илларионовне, отошедшей полгода назад своей умудренной долгим земным опытом девяностодвухлетней душою на небеса. Не к месту была среди этих старых вещей Соня. Может, надо было их вынести отсюда вообще, вещи эти? Надо было, конечно, только рука не поднялась. Да и Томочка, озабоченная своей неугомонной страстью к «ничегоневыбрасыванию», ей бы этого не позволила…
Тихо вздохнув, Соня решительно откинула одеяло, прошлепала по старому, в некоторых местах совершенно уже неприлично шершавому и занозистому паркету к выключателю, зажгла большой свет. Могучая хрустальная люстра-старуха загорелась тускло и нехотя, качнулась тяжелыми, пыльно-серыми, как седые клоки волос, висюльками – так просыпается человек, разбуженный чужой бестактностью и явно демонстрирующий свое этой бестактностью недовольство. Соня даже улыбнулась ей наверх просительно – извините, мол, меня, дорогая люстра, великодушно. Побеспокоила вас среди ночи. А что делать? На кухне вон что-то пищит и скребется… Надо ж проверить, хоть и страшно…
На кухне, что вполне естественно, никого и не было. Расхлябанная створка форточки гуляла себе под напором августовского ветра, производя те самые попискивания и поскребывания. А может, и не от ветра она гуляла. Может, это дух усопшей Анны Илларионовны ее туда-сюда тягал, влетал и вылетал обратно, растворяясь в прохладной сырой темноте августовской ночи. Вполне может быть. Не просто ж, поди, вот так, за здорово живешь, взять и покинуть привычную территорию, на которой протекла вся долгая земная жизнь…
Перекрестившись неумело и торопливо, Соня взгромоздилась сначала на старый табурет с дырочкой посередке, потом коленкой оперлась о подоконник, притянула створку форточки на положенное место. Странно, какие высокие окна в этой квартире. И подоконники широченные. Вот у них, например, с Томочкой дома все было наоборот – протяни руку, и достанешь до форточки. А о подоконниках и говорить нечего – не было их вообще как таковых и в помине. Томочка, большая любительница всяких горшочно-мещанских растений, помнится, очень всегда страдала по этому поводу…
Ну вот. Теперь, кажется, порядок. Теперь можно уснуть, наверное. Хотя сна – ни в одном глазу. Весь в мистический переполох обратился. Жаль, она курить не умеет. Можно было бы постоять у окна, красиво и грустно пуская дым тонкой струйкой на выдохе. И посмотреть в темноту печальными глазами. Как Анна Каренина, например. Хотя нет, при чем здесь Анна Каренина – она вообще опий курила, насколько ей помнится. Или не курила? Или не опий? Или просто так вовнутрь принимала, для успокоения раненой женской души? Ничего себе… Как же она не помнит уже ничего? Надо будет перечитать, обязательно перечитать…
В последнее время Соня мало читала. Не удавалось как-то. Времени не было. Все заботы одни – то переезд от Томочки сюда, в эту «нехорошую» покойной Анны Илларионовны квартиру, то сессия в вечернем институте, на которую, как обычно, с работы не отпустили, то еще суета какая-нибудь, жадно забирающая драгоценное «читабельное» время. Не любила она эту суету. Будь ее воля, так бы и сидела с книжкой в обнимку там, за шкафом, в их старой однокомнатной квартире. А Томочка, укладываясь спать, ворчала бы себе уютно, проклиная свою несчастную сестринскую судьбу, подсунувшую ей на руки после смерти матери двух сестренок-малолеток – ее, стало быть, Соню, да младшую, Вику… И еще, мол, что она, Соня, как есть вся в мать пошла – сроду сама себе судьбы не устроит, а только и знает, что в книжку пялиться, и все-то на ней, бедной Томочке, в доме держится. А потом, зевнув и вздохнув устало, уже из-под одеяла, Томочка бы обязательно добавила – хорошо еще, что, мол, Вика свою судьбу довольно самостоятельно соблюла – выскочила замуж хоть и за придурка, но зато вполне обеспеченного…
Взглянув на старые кухонные часы-ходики, Соня всполошилась – ничего себе, три часа уже! Спать всего ничего осталось! До работы ей теперь далеко добираться, вставать надо ни свет ни заря…
Однако, как она ни старалась, сон не шел. Наоборот, очень захотелось похныкать, оплакать как-то свое самостоятельное одиночество, приспособиться к нему, попробовать на соленый вкус. Отметить, одним словом. Другие отмечают начало самостоятельной жизни шампанским, а она вот так – слезами. Какая разница, как отмечать? Она ж не горько будет плакать, а так… чуть-чуть. Горько ей нельзя, иначе ангел-хранитель расстроится. А он уже старенький, ему вредно.
Она и сама не помнит, откуда и когда к ней пришла такая уверенность, что у нее именно такой ангел-хранитель – старенький. Вот интересно, ангелы вообще стареют или нет? Наверное, стареют, раз она его таким себе представляла. С седыми длинными волосами, в белом рубище, с двумя унылыми, пожелтевшими от времени крыльями за спиной… Наверное, ему и поднимать-то их уже трудно, чтобы простереть над ней лишний раз. У других ангелы молодые и резвые, и распахивают свои упругие белые крылья легко и весело, защищая своих подопечных, а у нее вот такой – старенький. Какой уж достался. Зато умный! И глаза у него грустные, очень мудрые и все про Соню понимающие. Пожалуй, она даже и плакать не станет. Лучше улыбнется тихонько да за Томочку порадуется. Может, и впрямь она теперь свою личную жизнь устроит?
Личная Томочкина жизнь была у них, можно сказать, притчей во языцех. Сколько себя Соня помнит, столько помнит и Томочкины причитания по поводу отсутствия этой самой личной жизни. Нет, вообще-то она их с Викой никогда ни в чем не упрекала. Ну, может, так, иногда, походя. Под плохое настроение. Даже и упреком это было назвать нельзя, она просто проговаривала вслух свои грустные мысли, и все. Она очень добрая, их Томочка. Ей, наверное, так легче было жизненные трудности переносить, грустные мысли вслух проговаривая. Она даже, бывало, и маму покойную вслух поругивала – умерла, мол, скинула мне на руки свой приблудный выводок… Вика однажды правда возмутилась, продемонстрировала ей свое недовольство насчет «приблудности», и Томочка очень долго удивлялась, и пожимала плечами, и обижалась совершенно по-настоящему – что я такого плохого сказала? Как оно есть, так и есть… Я, мол, законная родилась и отца своего хорошо помню, а вы как есть обе приблудные, неизвестно от каких поэтов да писателей рожденные…
«Поэты» и «писатели» произносились Томочкой с откровенным презрением – несерьезные вроде того люди. Она и про маму так же говорила – несерьезная была женщина. Хотя и не без горечи говорила. И не без дочерней любви. Соня все равно слышала, слышала эту любовь в ее голосе! А если уж и говорить про мамину несерьезность… Ну какой такой особенной серьезности, скажите, можно требовать от женщины-поэтессы? Или, вернее, от женщины, считающей себя поэтессой, что, по сути, одно и то же… Сейчас она это очень даже хорошо понимает. И журнал «Юность» с напечатанными мамиными стихами бережно хранит. И тетрадки с не напечатанными нигде стихами – тоже. Шесть толстых школьных тетрадок в ломающихся от времени коричневых коленкоровых обложках. Томочка в пылу жизненного отчаяния их выбросить однажды хотела, но Соня не дала – прибрала в свое детское хозяйство. Хотя стихи, если честно, были так себе. Много любви, много горя, много страданий, много всякого женского надрыва-обреченности. Сплошные «думаю о тебе», «нет тебя со мной» да «слишком много во мне тебя». Но Соня все равно их любила – они же не чьи-нибудь, а мамины! А фотография мамина в журнале «Юность» неудачная какая-то вышла – в глазах смертная тоска вперемешку с излишне-карикатурным (прости, мамочка!) любовным отчаянием. Очень много тоски, очень много отчаяния. Да еще и подпись – Амалия Тараканова. Ну что это за фамилия для поэтессы? Даже похвастать перед кем журналом этим неловко. По всей видимости, не везло маме с личной жизнью, как и Томочке. Хотя Томочка про нее говорит – сама виновата. И вообще, мамина жизнь – это история отдельная. Соня ее по крупицам, можно сказать, собирала, клещами из Томочки правду вытаскивала…
Сама она маму помнила плохо. Странно – она ж вроде большая девочка уже была. Восемь лет ей исполнилось, когда мама умерла – возраст для ребенка уже сознательный. И все равно не помнит… Так, обрывки какие-то несуразные зацепились в памяти. Кашель мамин помнит постоянный и надрывный, дым от сигарет… Еще платок ее помнит – темный, павловопосадский, с синими цветами по полю. И долгое стояние у окна все с той же дымящейся сигаретой. И нервный стук пишущей машинки по ночам…
А еще она помнит, как однажды ввалился к ним в квартиру веселый дядька с усами, затряс радостно перед маминым лицом этим вот самым журналом «Юность», в котором стихи ее были напечатаны. Мама схватила журнал в руки, потом заплакала, затряслась вся, обняла дядьку, поползла по нему вниз… А потом дядька долго держал Вику на коленях, улыбался умильно. И улыбка сквозь усы просвечивала ненастоящая какая-то, будто приклеенная. Потом, через несколько лет, мамы уж и в живых не было, Томочка рассказала Вике – это отец, мол, твой тогда приезжал… А Вика и не запомнила его даже. Тогда, в тот вечер, Томочка их с Викой быстро собрала-одела да гулять увела. А на улице, между прочим, градусов тридцать мороза было…
Они тогда долго гуляли по стылым улицам, и вперегонки бегали, и с горки катались, и в «царицу» играли… Была у них особенная игра такая, Томочкой придуманная. Начинала ее обычно Томочка, призывно декламируя для них с Викой первую пушкинскую строчку – кабы я была царица… Ну а дальше уже шло все само по себе, кто во что горазд. И сказочные однобокие мечтания «трех девиц под окном» про всякие там «наткала бы полотна» и «родила богатыря» послушно отступали в сторону, давая дорогу их неуемным фантазиям. Вика, когда совсем маленькая была, очень хотела, чтобы ей как сказочной царице предоставили полный комплект девчачьих удовольствий – всю игрушечную витрину из магазина «Детский мир», например. Или всю тележку мороженого на улице. Чтоб было много-много. С возрастом игрушки и мороженое трансформировались уже в нечто более материально существенное, но принцип «много-много» все равно оставался неизменным. Много всякой одежды, много всякой еды, много колечек-сережек-бусиков… Томочка всегда над этим Викиным «много-много» подсмеивалась, ограничивая свои «царицынские» притязания «хорошим большим домиком с садиком», присутствием в нем самого царя как такового да бегающими по садику детишками. Вписывалась, можно сказать, в пушкинскую концепцию относительно девичьих мечтаний про «родила б богатыря». Хорошая бы из Томочки получилась царица. Да и из Вики по большому счету – тоже… А вот у нее, у Сони, с царскими проблемами дело обстояло гораздо хуже. Когда подходила ее очередь объявлять о своих желаниях, дальше первой фразы «…кабы я была царица» дело не двигалось. Она напрягалась изо всех сил, хлопала глазами, морщила лоб и не могла выдать ни одной, даже самой захудалой мечты. Как-то смешно было мечтать о вещах да вкусностях, о копченой колбасе, например, или о торте «Наполеон», и уж тем более – о хорошем большом домике. Она и сама не знала, о чем мечтать. О таком, чтоб можно было в руках подержать да глазами увидеть. Зачем его держать и видеть, если оно… уже есть. Всякое-разное. Там, в голове. В фантазиях, в представлениях. Не могла же она объяснить сестрам, как оно там постепенно сложилось, наслоилось из множества прочитанных книг, пережилось, испробовалось на вкус вместе с книжными героями и героинями, прошло через нее насквозь той, книжной, жизнью. А по-другому она читать просто не умела. Она не читала, она там, внутри, жила. И это было главное. А что происходило снаружи – шло будто вторым планом, надоедливым, суетливым, исполненным серыми буднями, бедной невкусной едой, тяготами их полунищенского существования… Да бог с ним, с этим существованием! Можно все перетерпеть легко и просто, когда знаешь, что в доме есть огромный книжный стеллаж во всю стену, и там столько всего… Столько…
А кстати, о книгах! Надо завтра же из кожи вон вылезти, а всю библиотеку сюда перевезти! Иначе Томочка быстро от нее избавится – обязательно затеет ремонт и избавится. У нее и так в последние дни уже «руки чесались» – не терпелось квартиру привести в порядок да начать, наконец, личную жизнь устраивать. Последние пять лет она только об этом и мечтала, все пасла свою подопечную Анну Илларионовну с ее квартирным завещанием, чтоб ее, Соню, наконец с рук спихнуть, все жила в своем отсроченном гедонизме, низводя их быт до совершеннейшего экономического абсурда и приберегая все лучшее на потом, на долгожданное устройство гнездышка для вожделенной личной жизни… Что ж, пусть поживет, как ей хочется. Она и правда заслужила. Пусть ее гедонизм житейский наконец наступит. А она, Соня, даже и обижаться не будет на Томочкины последние слова о том, чтоб они с Викой про нее как есть забыли, что все сестринские обязательства она перед ними выполнила и с лихвой перевыполнила… Не будет… Надо только книги успеть забрать…
Сон наконец тяжело и сладко опустился на веки, погладил по голове теплой рукой. А может, это старенький ангел поднял над ней свое крыло. Соня всегда чувствовала, до самого последнего момента осознавала эту грань сонного перехода в иной мир – она была особенной, будто качаешься в гамаке высоко над землей, и в небо не улетаешь, и на землю не падаешь… Сквозь это ласковое покачивание снова послышался знакомый шорох, будто потерлись друг о друга потревоженные легким ветром бамбуковые висюльки в кухонном проеме, но она все равно не стала открывать глаз. Пусть. Если даже это дух Анны Илларионовны прилетел – пусть. Что он ей сделает, в конце концов? И вообще, она хорошая была старушка… Вредная, конечно, но хорошая… И квартиру вот Томочке все ж таки оставила…
* * *
Лицо после нанесенной на него и смытой дорогущей маски лучше не стало. С чего бы ему лучше становиться, интересно? Синяка на скуле все равно никакой маской не изведешь… И темные круги под глазами тоже не спрячешь, и бледную кожу… «У вас, мамаша, очень измученный вид, однако. Вы что, недосыпаете? – заботливо поинтересовалась пожилая врачиха из детской поликлиники, когда она вчера заявилась с Сашенькой к ней на прием. – Вроде ребеночек у вас здоровенький… Может, вы решили на диету сесть? Смотрите, мамочка, так и до нервного истощения недалеко… А это ребеночку вредно…» Будто она и без врачихи не знает, что вредно! Не сама ж она себя довела до этого нервного истощения, ей-богу…
Еще раз осторожно потрогав набухший синяк на скуле, Вика тряхнула головой, пытаясь уронить волосы на щеки так, чтоб синяка не было видно, потом снова глянула на себя в зеркало исподлобья. Нет. Как ни старайся, все равно выглядывает. Если только замазать чем-нибудь… Завтра же гулять с Сашенькой надо… Вадим требует, чтоб она непременно соблюдала для сына строгий режим дня – кормление, сон, прогулки…
Вспомнив о Вадиме, она тут же напрягла шею, как норовистая лошадь, вздернула головой, отчего прямые пряди волос взметнулись над лицом черной гривой и свалились на плечи, снова открыв для обозрения всю синюшную «красоту». Вот сволочь какая, этот ее так называемый муж! Да если б она знала…
В комнате вдруг проснулся и закряхтел Сашенька, словно почувствовал на расстоянии нечаянный ее всплеск эмоций. А может, и правда почувствовал. Дети, говорят, материнские настроения сразу через себя пропускают. Соскочив с пуфика, она метнулась тонкой тенью в соседнюю со спальней комнату – там Вадим оборудовал для Сашеньки детскую. Красивая получилась комнатка – как на картинке. Да и вся квартира была такая – как домик для куклы Барби. Розово-пряничная. Со вкусом у Вадима было не очень. Бабский был у него вкус. Сентиментальный. А он всегда только своими желаниями руководствовался, Вику и не спрашивал. Действительно – зачем ему с ней советоваться? Она ж ему никто и звать никак, получается. Одно название, что законная жена. Никакого толку от этой законности, страдание одно…
А начиналось как все красиво, если вспомнить! Точно по ее сценарию начиналось, как она когда-то себе намечтала… Пришел, увидел, засыпал цветами и дорогими подарками, через неделю в загс повел. И свадьбу скороспелую и шикарную закатил, и кольцо с брюликом, и шубу на плечи. После свадьбы привез в свой северный богатый город, сразу в эту вот квартиру… Сказка! Она тогда и дышать боялась, чтоб ненароком эту сказку не спугнуть. Потому что так не бывает, ей казалось. Чтобы все сразу, чтобы всего много-много. Томка тогда еще сказала – помнишь, мол, как ты в детстве хотела – кабы я была царица… Помнишь?
Конечно, она все помнила, как не помнить. И игру эту их дурацкую помнила. Кабы я была царица, говорит одна девица… Вот и накаркала сама себе девица сомнительное счастье. Лучше бы она навеки с Томкой осталась, чем так жить! Правда, и с Томкой тоже их мир не брал, чего уж там… Хорошо Соньке – ей вообще любая жизнь по фигу. Что бедная, что богатая. Сунется к себе за шкаф, заберется с ногами на старенькую скрипучую кушетку да в книжку уткнется. И все, и пропала, нет ее. Позовешь, бывало, а она поднимет на тебя глазищи свои и будто в упор не видит… Будто сквозь тебя смотрит. Страшно даже. Томка ее нелюдимкой звала. Сидит себе за шкафом и даже не слышит, как они с Томкой дурным криком друг на друга вопят. Никак Томка понять ее не хотела, не получалось у них мирно-нищенского совместного сосуществования, хоть убей.
Ну не могла она так жить, как Томка хотела, каждый кусок впрок откладывая! Противно было шмотки из секонд-хенда носить да один и тот же суп на завтрак, обед и ужин есть. С детства она этого супа наелась. Потому и в институт поступать не стала, после школы сразу работать пошла, чтоб деньги свои были, чтоб тратить их можно было здесь и сейчас, а не откладывать на светлое будущее. Работа была у нее, конечно, не ахти какая – официанткой в кафе. Но зато зарплата своя, собственная. И можно было ее на себя тратить, а не откладывать на непонятный черный день. Какой такой черный день может быть у молодой девчонки, скажите? Она ж не старуха, чтоб себе на поминки копеечки от пенсии откладывать. А Томка все зудела, зудела, учила ее экономной жизни, все требовала, чтоб она зарплату ей отдавала… Потом уж до того дело дошло, что пришлось им полки в холодильнике разделить. У нее была своя еда, у Томки с Сонькой – своя… Нет, она Томке очень благодарна, конечно, она все понимает про ее сестринскую для них с Сонькой жертвенность, но не до такой же степени! Все равно у нее не получилось бы так жить… Хотя теперь она что, лучше живет, что ли? Вот оно, все есть, много-много, а только появись такая возможность – сбежала бы от этого «многомного» к чертовой матери…
Она поначалу и пыталась бежать. Когда поняла, какую роль ей в своей жизни Вадим отвел. И даже Томке позвонила, плакала в трубку – забери меня, мол, отсюда… Ну, хоть денег на дорогу пришли… Правда, основную причину своих слез она тогда от Томки скрыла, конечно. Стыдно было про эту причину рассказывать. Просто сказала – плохо с мужем живет. А Томка послушала ее рыдания и как отрезала – нет уж, говорит, дорогая. Раз вышла замуж, так живи как получится. Я, мол, на вас молодую жизнь положила, дайте теперь и мне пожить… Что ж, ее тоже можно понять, Томку-то. Она ведь им с Сонькой не мать, а всего лишь сестра. Могла бы вообще в детдом спровадить… Хотя после этого звонка она сильно на нее разобиделась, конечно. Вот уже год с ней не разговаривает. Да Томка особо и не стремится к общению: с глаз долой – из сердца вон. Сонька звонит иногда, а Томка – нет. Да что толку от Соньки? Чем она ей поможет? У нее и денег-то своих нет, все подчистую Томка забирает. Правда, давно чего-то не звонила Сонька… Интересно, как у них там дела? Самой бы позвонить, да Вадим все счета телефонные проверяет… Увидит – скандал будет…
Она еще постояла над спящим Сашенькой, провела рукой по теплому детскому лбу. И сама не заметила, как крупная слеза, свалившись неожиданно, плюхнулась на детскую щечку. Сашенька вздрогнул, закрутил головой, скорчил недовольную гримаску. Хорошо, не проснулся. Шмыгая носом и размазывая горячие слезы по щекам, она тихонько попятилась назад, отступая к выходу из детской, осторожно закрыла за собой дверь. Чего это ей реветь так неожиданно приспичило? Сто лет уж не ревела. Казалось, и слез в организме не осталось, а тут на тебе, вдруг прорвало…
Поначалу она много ревела. С утра и до вечера только и делала, что ревела. Поначалу муж Вадим бил ее смертным боем – ни за что, просто так. Приучал к порядку, как он говорил. Чтоб сразу она, молодая жена, поняла свое законное место. И пойти пожаловаться было некуда и некому – город маленький, особенный такой, нефтяной-северный, а Вадим тут царь и бог… А она, выходит, по своему законному замужнему положению должна быть вроде как царицей и богиней. Кабы я была царица… Ага, как же… Царицей и богиней у Вадима была… Господи, как это мерзко-то все, как противно! Как начинаешь об этом думать, так умереть от досады хочется – как же это она так опрометчиво во все это вляпалась?
Поначалу она никак не могла всю эту ситуацию до конца просечь. Не укладывалась эта ситуация в голове, отторгалась напрочь. Очень уж ей странно было – зачем Вадим вообще этот спектакль с женитьбой устроил, если не любит ее совсем? В первый же день, как привез ее сюда, тут же и исчез на три дня. Не совсем, конечно, исчез, все же звонил изредка, на ее слезливо-недоуменные вопросы отвечал резко – заткнись, мол, и привыкай. Так надо. Чего, мол, тебе не хватает? В холодильнике полно еды, музыка всякая в доме есть, диски с киношками… Потом, когда на исходе третьего дня заявился, она ему истерику закатила, конечно. Тогда он впервые ее избил – живого места на ней не было…
Это потом ее жизненная перспектива начала проясняться во всей своей жестокости. И не перспектива даже, а ничтожная роль, которую ей Вадим отвел. Роль прикрытия. Роль ширмы. Роль благополучной молодой женушки благополучного бизнесмена Вадима Орлова. А за ширмой этой… ладно бы там была другая женщина, это бы еще куда ни шло! За ширмой этой, как потом выяснилось, стоял Артур, мерзкое самонадеянное существо, ублюдок, ничтожество, дрянь… И по совместительству – первый заместитель Вадима в его преуспевающей нефтяной конторе, или как там… В акционерном обществе… Соратник по владению контрольным пакетом акций, ближайший и нежнейший друг, довольно неудачно пытающийся сокрыть от чужих глаз свою порочную манерность. Хотя, как Вика потом догадалась, попытка эта была просто данью приличному обществу, не более того. Давно уже местное приличное общество про эту парочку все знало. Но обществу, как известно, всегда легенда требуется для внешнего и окончательного соблюдения этих приличий, вот оно и получило эту легенду в лице Вики, молодой жены бизнесмена Вадима Орлова…
Первые выходы в «свет» оказались для нее настоящей мукой. Мужчины разглядывали ее с веселым игривым интересом, женщины усмехались за спиной презрительно – видимо, подозревали ее в некой меркантильной договоренности… Не объяснишь же им, что никто с ней даже и не пытался ни о чем договариваться! Не сочли нужным с ней договариваться. Зачем? Лучше дать пару раз ребром ладони под печень, чтоб искры из глаз посыпались, – вот и все договоренности…
Но роль ее, как потом выяснилось, этой пресловутой ширмой вовсе окончательно не определялась. Вадим, оказывается, очень хотел иметь детей! Вот так вот. Любовь у нас порочная, а детей тоже хочется… Он так и объявил ей однажды, заявившись поутру, – давай-ка делом займемся, дорогая моя молодая женушка. Но не в постель потащил, как и предполагается при таких «занятиях», а деловито уселся за стол, достал блокнот и учинил ей полный гинекологический допрос с пристрастием об особенностях ее женского организма – когда, что, сколько дней, как регулярно… Старательно все записывал в свой блокнот, морщил лоб, ставил кружочки и крестики в календаре, смотрел на нее задумчиво и даже будто бы с теплотою. Потом произнес с улыбкой – забеременеешь, с меня причитается. Выполню, мол, любой твой каприз. А если нет – пеняй на себя. Она промолчала тогда, конечно. Она тогда уже поняла, что лучше молчать. А капризов никаких на тот момент у нее и в помине уже не осталось. Какие капризы? Живой бы остаться…
Когда родился Сашенька, Вадим был на седьмом небе от счастья. Целый месяц от них не отходил! Ей даже грешным делом показалось, что все и наладится постепенно… До сих пор перед глазами стоит эта идиллическая картинка – она в кресле кормит Сашеньку грудью, а Вадим сидит перед ними на ковре, скрестив ноги, смотрит умильно, только что не плачет. У нее в сердце даже некое подобие жалости к нему ворохнулось – ведь, если по сути, несчастный он человек…
А потом, конечно, все вернулось на круги своя. Только в эти круги добавился еще и Сашенька. Теперь она была не только ширмой, теперь она была еще и матерью его ребенка. Именно – его. То, что ребенок этот принадлежит еще и ей, как-то не обсуждалось. И в расчет не бралось. Он все устроил в своей нелегкой порочной жизни так, как ему хотелось. Только с одним обстоятельством он не мог справиться – с ее внутренним сопротивлением. Да что говорить – она и сама с этим сопротивлением никак не могла справиться, несмотря на все побои и синяки… Горел, горел в душе огонь сопротивления! Одинокими ночами строились планы побега, а также развода и раздела имущества, и была в этих планах сладкая месть за поруганное ее женское достоинство, а потом эта месть остывала, и приходило ей на смену жестокое осознание реальности – черт с ним, с разводом и разделом имущества, все равно у нее ничего не выйдет. Вадим Сашеньку отберет, а ее просто-напросто убьет да закопает где-нибудь – никто ее в этих северных краях искать не будет. В общем, все сходилось к тому, что надо бы смириться, принять все как есть и жить дальше. Она даже и сама себя уговаривала на это спасительное смирение, да только не получалось у нее ничего. Видимо, и Вадим это чувствовал, приходя в свое фиктивное семейное гнездышко на «контроль и проверку», потому и бил…
Денег он не давал ей вообще. Даже символически. Раз в неделю закупал все необходимое, раз в месяц водил по магазинам, демонстрируя перед продавщицами свою неутомимую в покупках для молодой жены щедрость, оплачивал все коммунальные счета, контролировал ее телефонные переговоры… Хотя кому ей звонить-то? Нет у нее никого, чтобы позвать на помощь. Если только с Томкой помириться, так она ей не поверит, не поймет… Она в этих делах вообще отсталая, Томка. Скажет – с жиру бесишься. Все у тебя есть, скажет, нищету на кулак не мотаешь, вот и живи, чего еще-то? Хоть бы Сонька догадалась сама позвонить…
Вдруг и впрямь захотелось поговорить с сестрой, услышать родной голос, пусть хоть издалека. Правда, потом отчет надо будет держать перед Вадимом – зачем, мол, звонила… Да что это, в самом деле, она кто, рабыня, что ли? Уж и родной сестре позвонить просто так не может? Нельзя жить совсем без общения, в конце концов… Так с ума можно сойти…
Схватив телефон, она начала решительно тыкать в кнопки, набирая нужный номер. Потом долго слушала длинные тоненькие и жалобные гудки в трубке – ну же, Сонька, проснись… Я понимаю, у вас там тоже ночь, но аппарат же около шкафа стоит, за которым ты спишь… Томке до него далеко идти, а тебе только руку протянуть! Ну же…
– Алё… – прошелестел в трубке хриплый со сна и недовольный Томкин голос. – Але, говорите… Ну? Кто это там хулиганит среди ночи…
С досадой нажав на кнопку отбоя, Вика отбросила от себя трубку, посмотрела на нее обиженно. Интересно, а Сонька где? Почему Томка к телефону подошла? Может, еще раз набрать? Может, с Сонькой случилось что? Сроду Томка ночью к телефону не подходила… А может, она вообще уже ее, Соньку, из дому выгнала? А что, с нее станется… Иди, скажет, на все четыре стороны, раз взрослая уже… Дай и мне пожить…
Она горестно и по-сиротски пожала плечами, поднялась с дивана, подошла к большому зеркалу в спальне. Надо бы лечь хоть ненадолго, скоро уже и Сашенька проснется… Лицо вон и без того бледно-зеленое. Ну, и кто ты есть теперь, женщина с бледно-зеленым лицом и с нервным истощением? Как называешься? Бедная сирота? Содержанка? Наложница? И сама, похоже, не знаешь…
* * *
Положив трубку, Тамара недовольно пожала плечами, зевнула, чертыхнулась про себя – разбудила сволочь какая-то среди ночи… Попробуй засни теперь! И чего им неймется, хулиганам этим? И без того в жизни ни покою, ни просвету нету… Одна только работа да забота. С таким трудом с вечера уснула, и вот на тебе. Время еще и пяти нет. Ни то ни сё. И не ночь уже, и не утро…
Она снова забралась под одеяло, уютно устроила голову на подушке, смежила плотно веки, даже губами почмокала, пытаясь призвать обратно прерванный сон. Однако не тут-то было. Голова была почти утренней, свежей, тлела первыми деловыми мыслишками. Не терпелось, видно, им, мыслишкам этим, в жизнь воплотиться. Да и то – сколько она их там накопила, мыслишек разных мечтательных… А что, может, и впрямь, хватит уже бока отлеживать? Встать пораньше, сдвинуть мебель в кучу, содрать старые обои со стен… Или поваляться еще немного? Успеется с ремонтом этим, торопиться ей теперь некуда. Все сделает как надо. Тем более все уже куплено-заготовлено, лежит по углам, своего часа дожидается. И обои красивые у нее есть, и шторы новые, и палас, и даже люстра новая куплена – три года уж в коробке на шкафу стоит. Вот устроит себе новое гнездышко и заживет со спокойной совестью. И замуж выйдет обязательно – найдет себе какого-никакого мужикашку, пусть и плохонького. На хорошего-то уж поздно рассчитывать – года не те. Ушли лучшие ее года, пролетели в заботах. Пока девчонок в люди вывела да пристроила, глянь, а уж и сороковник на носу… Да что делать – так уж вышло. Подсунула ей мама-покойница подарочек, от свечи огарочек, прости, господи, за мысли грешные.
Правда, об мужикашке можно было бы и раньше задуматься, конечно, да только куда его приведешь? Квартира у них однокомнатная, за шкафом Сонюшка спала… Вообще, она бы и не возражала, конечно, Сонюшка-то. Она спокойная, нелюдимка по породе. Мать в свое время так и не призналась, от кого ее родила. Ни ей, ни бабушке ничего не сказала. Уехала, проучилась год в своем Литературном институте, потом вернулась – беременная уже. Да бог с ней, она ее уж по всем статьям давно простила, мать свою… Попортила она ей жизнь, конечно, а все равно простила…
Вздохнув, она даже пискнула чуть-чуть на выдохе, в который раз пожалев саму себя. Если б не досталась ей такая мать, все бы могло по-другому сложиться… Вот чего, чего ей не хватало, интересно? И отец ее любил, и дом у них был в леспромхозовском поселке самый лучший, и работать отец маму не заставлял – сиди себе дома около печки, пиши свои стихи, если уж так приспичило… Так нет же – все тосковала, все металась чего-то, все ей не так было. Томочка эти ее стихи с детства ненавидела. К другим девчонкам в дом придешь – пирогами пахнет, щами вкусными, в огороде всякий овощ свое место знает, а у них… Отец, конечно, изо всех сил старался, все хозяйство на себе тащил, а она ему вместо «спасибо» – одни стихи да истерики… Любил он ее очень. Можно сказать – боготворил. И ей, маленькой Томочке, все пытался объяснить, что мать у нее вроде как и не мать вовсе, а существо совершенно особенное, к обычным земным делам неприспособленное, что ей трудно в их некультурной глуши жить…
Ей десять лет исполнилось, когда мать от отца сбежала. Собрала ее как-то, все платьица-игрушки в большой чемодан сложила, сказала, что к бабушке в город погостить едут… И больше к отцу не вернулась. И ее не отпустила. А бабушка, мамина мать, и рада была, что ее доченька к ней вернулась… Всё тетрадки с ее стихами листала да восхищалась до слез, да отца ругала – загубил, мол, талант. И ребенка – ее, Тамару, то есть – тоже вроде как загубил. Ни к чтению вроде она не приучена, ни поэзии настоящей не понимает. Дикая совсем. Она помалкивала, но сердилась про себя – далась им с матерью эта поэзия! Пустой суп да макароны едят, а туда же, поэзия…
В общем, уговорила бабушка маму ехать поступать в Москву, в Литературный институт. А с Томочкой, говорит, я и сама тут справлюсь. У меня, говорит, пенсия есть, да и отец ей будет алименты платить. Он платил, конечно. И продукты всякие привозил. Овощи, соленья, кур битых. Он часто приезжал повидаться. На лето к себе звал, да бабушка не отпустила. А через год мать из своего Литературного института приехала – с пузом…
Перевернувшись на другой бок, она вздохнула, попыталась отогнать от себя нахлынувшие неожиданно воспоминания. Может, и правда уж не досыпать? Может, встать, делами заняться? Иначе, она по опыту знала, как окунешься в свое прошлое, так оно и затянет, и от себя уж не отпустит. Слишком тяжелое оно у нее, прошлое-то. Вот зачем тогда бабушка, скажите на милость, снова мать в Москву отпустила? Сонюшке годик исполнился, и отпустила. Езжай, говорит, доучивайся. А мы уж тут с Тамарой справимся. Сонюшку в ясли определим… Не надо было ей мать от себя отпускать! Все равно она этот свой Литературный институт так и не окончила. Приехала через год – и снова с пузом! Это, говорит, ребенок от любимого человека…
Бабушка так и не дождалась появления на свет третьей своей внучки – померла от сердечного приступа. Мать прямо с похорон в роддом отвезли. Так и остались они – четыре неприкаянных бабы в доме. Тут уж матери не до поэзии своей стало, конечно. Ладно, она, старшая Тамара, к тому времени подросла – в первых помощницах оказалась. И Сонюшку в садик отвести, и на молочную кухню сбегать, и пеленки постирать… И денег у них совсем не было. Поначалу мать колечки да сережки, какие от бабушки остались, все продала – на то и жили. А колечки у бабушки были старинные, фамильные, красоты неописуемой. И сама она была старинного дворянского рода – до сих пор где-то фотография ее хранится. Интересная она там такая, в шляпке. На актрису Веру Холодную похожа. А больше никакой памяти, кроме этой фотографии, и не осталось. И родственников тоже не осталось. Еще удивительно, как сама бабушка в те лихие времена выжила…
Вот Сонюшка, кстати, очень на бабушку похожа! Есть в ней какая-то скрытая стать. Иногда распрямит спину, глянет – ну как есть дворянка, ни дать ни взять! А потом вдруг испугается чего, и сразу – шасть! – голову в плечи, глаза в пол, и скособочится вся, как будто на нее рукой замахнулись. Да и от матери Сонюшка тоже много взяла. Такая же мечтательница-книжница. Хорошо, хоть стихов не пишет. Хотя кто его знает… Может, эта напасть у нее с возрастом проявится, не дай бог… Вот у Вики – у той уж точно не проявится. Та от жизни все возьмет, и сырым, и вареным. И без стихов. Такая свистопляска характерная эта Вика, не приведи господь! Только замуж выскочила, уехала, и звонит сразу – забери, мол, меня отсюда. Не понравилось, наверное, замужем жить! Еще бы. С мужиком, с ним же так… Особо не разгуляешься и характер свой не покажешь…
Зато она, старшая, вся в отцовскую крепкую породу пошла! К сорока годам так разматерела, что на мужика стала смахивать. На диету сесть, что ли… Похудеть хоть маленько, а то ни один мужикашка на нее не глянет… Ладно, это потом. Сначала ремонт в квартире надо сделать! Сто лет уж тут ремонта настоящего не было. Еще матерью, кажется, все стены да потолок прокурены насквозь…
Курила мать и правда очень много. Как она говорила – от жизненного отчаяния. Когда у них даже на хлеб денег не хватало, переходила на дешевую «Приму». Ох и вонища была в доме от этой «Примы»! Но все равно – справлялись как-то. Слава богу, хоть одному полезному занятию мать в своем Литературном институте научилась – на машинке быстро печатать. Тогда еще компьютеров не было, заказов на печатание много было… С утра и до вечера в доме – стук-стук! И ночами тоже… А хозяйственные все заботы на ней, на старшей, были. Мать в этих делах совсем уж бестолковой была. Пошли ее в магазин – истратит все деньги, какие есть. А у нее, у Тамары, полный порядок в этих делах соблюдался – могла и на малых доходах умудриться поэкономить. Где в комиссионку зайдет да на девчонок совсем даром что-нибудь прикупит, где дешевыми косточками на суп отоварится, а где и просроченные консервы можно взять – тоже почти даром… Ничего, ели за милую душу, не графья! Ну, может, по крови где-то и графья, конечно, и тем не менее… Нет, здорово она тогда насобачилась в науке выживания! Потом это даже в некую игру-забаву для нее превратилось, до сих пор от старых привычек избавиться не может. И еще у нее привычка с тех времен осталась – все впрок припасать. На будущую жизнь. Сегодня можно кое-как обойтись, а вот уж завтра… Сонюшка недавно как-то ловко эту ее привычку обозвала… Как же это… А, вот! Отсроченный гедонизм, вот как! Умная выросла Сонюшка, начитанная… И не знаешь – то ли обижаться на нее за этот самый гедонизм, то ли нет… Вот интересно бы было на Сонюшкиного отца поглядеть! Викин-то папашка у них однажды нарисовался – ей тогда, помнится, годика четыре было… Лучше бы уж совсем не приезжал, мать не тревожил…
Она, помнится, сама тогда ему дверь открыла. Глядит – приличный дядька такой стоит, в дорогой куртке, улыбается ей. Вас, говорит, Тамарой зовут, наверное? Тут и мать в прихожую выскочила. Сначала обомлела вся, этого мужика увидев, а потом бросилась к нему – красиво так бросилась, как в кино. Он засмущался сначала, а потом тоже ее обнял – снисходительно маленько, вроде как и без особого желания. А через плечо все на маленькую Вику поглядывал, выбежавшую к ним в прихожую из комнаты…
Потом они все на кухне обедали – гостя этого нежданного принимали. Мать суетилась бестолково, блестела глазами, говорила без умолку… И все журнал к груди прижимала, который ей Борис – так того мужика звали – привез. А потом они долго меж собой разговаривали – она этот их разговор отчего-то надолго запомнила. Грустный такой разговор…
– Кого-нибудь из наших видишь, Боренька? – дрожа нервно губами, спрашивала мать.
– Да вижу, конечно… Когда бываю в Москве, всех вижу.
– И что? И кто где? Печатается кто-нибудь?
– Да какое там… Славка Петровский на рецензиях сидит, кое-как пробивается, Маша Никонова в клубе железнодорожников литературный кружок ведет. Представляешь – в клубе железнодорожников – и литературный кружок! Абсурд какой-то.
– Ну да, абсурд… Насмешка над профессией…
– А есть ли у нас вообще эта профессия, Амалия? А? Ты никогда не задумывалась? Был ли вообще мальчик-то? Может, мальчика-то никакого и не было…
– Не говори так, Боренька… Зачем ты? Я знаю, ты талантливый, и тексты у тебя замечательные…
– А толку? Толку-то никакого… Вот скажи – ты помнишь Митяя Захарчука? Ну, того, из белорусской глубинки… Помнишь, как преподаватели наши с ним носились?
– Да помню, помню… И что?
– А то! Недавно встретил его – дворником работает. Опустился весь, поник, глаза грустные… Нет, несчастные мы все люди, Амалия… И институт этот… лучше бы и не было его вообще! Учились, планы строили, сверкали талантами… А толку? В стол писать? Я вот, например, не хочу…
– Но как же, Боренька… Вот же, в журнале повесть твоя студенческая вышла… И мои стихи…
– Ну, вышла. Ну да. И стихи твои вышли. А только журнал этот, учти, единственный в своем роде. Он весь посвящен только творчеству наших студентов да недавних выпускников. Один раз выпустили, больше не будут. Сами, мол, пробивайтесь. А как, как пробиваться-то? Чтобы пробиваться, надо ж еще жить на что-то. Есть, пить, семью кормить. Мне вот жена второго недавно родила… Заработок постоянный надо иметь, одним словом… Замкнутый круг у нас получается, дорогая Амалия! Так что, может, и хорошо, что ты с четвертого курса ушла. Нет диплома, нет и профессии. И терять нечего. Не так обидно…
Тамара помнит, как откинулась на стуле и смертельно побледнела мать после этих его слов. И прикрыла на минуту глаза. Потом, будто внутренне собравшись, снова вскинулась, плеснула в гостя лихорадочным блеском из глаз:
– Ну чего мы все о грустном говорим, Боренька? Вот, посмотри на лучшее мое произведение, на Викушу мою… Тебе ведь интересно, Боренька? Викуля, беги сюда! – крикнула она в комнату.
Борис осторожно взял приковылявшую и сильно засмущавшуюся Вику на руки, посадил себе на колени, потряс неумело. Потом виновато глянул на мать:
– Какая большая уже… А у меня тоже одни девчонки… Одной восемь, другой почти два годика… Кручусь, как могу, знаешь, чтоб все семейство прокормить! Тут уж не до талантов да не до «божьих даров», сама понимаешь…
– Я понимаю, Боренька. Я все понимаю. Да ты не думай, у меня все хорошо! Живем, как видишь, я дома работаю, заказов много…
– А… фамилия у нее какая? – осторожно погладил он девочку по голове.
– Не бойся, не твоя. Тараканова она. И отчество тоже не твое. Я ее Владимировной записала. Чтоб у всех девчонок фамилия одна была, да и отчество тоже. Мой первый законный муж был Владимир Тараканов… Я и себе при разводе его фамилию оставила. С моей-то, с Гольдберг, далеко не уедешь, сам понимаешь. Нигде и ни одной строчки не возьмут…
– Пишешь что-нибудь?
– Пишу…
– Почитаешь?
– Ладно… Попозже… – тихо проговорила она, стягивая с колен гостя Вику. Потом, обратившись к Тамаре, неприкаянно сидящей за столом, проговорила просительно: – Доченька, может, ты погуляешь с девчонками? Еще не так поздно вроде… Пожалуйста, Томочка…
Ну что ей тогда оставалось делать? Конечно же, собрала девчонок, пошла гулять по морозу. А в душе так было мать жалко! Она ж большая уже девочка была, все понимала… Да на ее бы характер! Да она бы этого Бориса вообще выгнала б от порога! Ишь, заявился… Будь ее воля, она бы вообще всем запретила всякие там стихи да повести писать! Только мозги себе всякими переживаниями засоряют, ей-богу! Работать надо, жить, детей в нормальных условиях растить, а не присобачивать целыми днями строчку к строчке, чтоб складно-ладно было…
Потом, вернувшись домой, они Бориса уже там не застали. Мать стояла у окна, курила молча. Тамара и девчонок спать уложить успела, и посуду перемыть, а мать все стоит, все курит…
– Мам… Ты бы не изводила себя так, а? – обернулась к ней Тома от раковины. – Ну что ты, ей-богу… Борис-то этот ведь прав – никому сейчас стихи твои не нужны! Вон жизнь какая у всех трудная, а ты – стихи…
– Ну что ты говоришь, доченька… Глупенькая ты какая… – тихо прошелестела от окна мать. – Как это стихи никому не нужны? Мои, может, и правда не нужны, а вообще…
– Да и вообще – тоже! – загорячилась Тамара, проворно перетирая чайные чашки полотенцем. – Ну ты вспомни, вспомни, как мы хорошо жили, когда ты за отцом замужем была! В доме все есть, и еда всякая, и платья он тебе покупал новые, красивые такие! Ну чем плохо? Помнишь?
– Помню, дочка. Конечно, помню. Но что сделаешь, если душа высоты требует…
– О господи… – только и вздохнула Тамара, безнадежно махнув рукой в материнскую спину. – Далась тебе эта высота… Ну что нам ее, на хлеб намазывать, что ли?
– Не хлебом единым человек сыт, Тамарочка, – резко повернулась к ней от окна мать. – Запомни это, пожалуйста! На всю жизнь запомни! И никогда не пристраивай никого под свое мировосприятие! Люди все разные, Тамарочка!
– Ага. Разные. А только жрать всем одинаково хочется.
– Хм… – грустно усмехнулась мать, сложив худые руки калачиком под грудью. – Жрать, говоришь…
Потом, помолчав, продолжила:
– Мы сейчас с тобой, Тамарочка, похожи на двух людей, стоящих под кроной огромной березы… Один говорит – посмотри, какая крона шикарная! Какую она тень отбрасывает, как красиво шелестят листья над головой… А другой деловито похлопывает по стволу, щурится и отвечает – ага, мол, шикарная береза… Целых пять кубометров дров…
– Ну и правильно он говорит про эти кубометры! Зато ими можно сколько народу обогреть! А тот, который кроной восхищается, как замерзнет, тоже ведь греться прибежит! Не так, что ли?
– Да так, так… Куда ж он денется, доченька? Прибежит, наверное. Ишь, какой у нас с тобой невзначай философский спор вышел… Устала я что-то. Спать пойду…