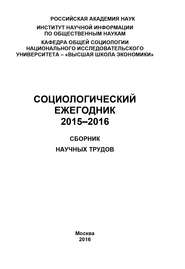
Полная версия:
Социологический ежегодник 2015-2016

Социологический ежегодник / 2015–2016
Социология как индикатор состояния общества: «старые» и «новые» проблемы в современных исследованиях
Предисловие
Н.Е. Покровский, О.А. СимоноваСоциология изучает общества. Это хрестоматийное положение не требует пояснений. Однако гораздо меньше внимания уделяется тому факту, что и сама социология, если оценивать такие ее параметры, как состояние и динамика развития, степень авторитетности в массовом сознании, использование данных социологического анализа в принятии решений любого уровня, популярность профильного образования, развитие социологической культуры широких масс, выступает одной из значимых характеристик общества. По большому счету социология служит мерилом общественной рациональности и управляемости социальными процессами. Социологии в обществе не может быть слишком много, как не может быть «слишком много» медицины, культуры, искусства, спорта и здорового образа жизни. В каком-то смысле социология и есть здоровый образ социального мышления, противостоящего архаике, традиционализму, мифологии, обскурантизму и манипулированию общественным мнением. И в этой области многое на сегодня в стране и в мире внушает серьезное беспокойство.
В зарубежном обществознании набирают обороты два контрастных процесса. С одной стороны, происходит ускоренная политизация социологии, в рамках которой приоритетной функцией данной отрасли научного знания становится оформление борьбы за равенство и социальную справедливость. В зависимости от уровня обобщения социология приобретает черты либо революционной идеологии, либо программы служения обществу на ниве социальных проектов и малых дел. В основе соответствующего подхода лежит представление о том, что преобразование общества силами ученых должно превалировать над его научным познанием. И этот тезис отнюдь не маргинален. Напротив, он проходит красной нитью через программы крупнейших мировых социологических форумов и многочисленные публикации самого различного уровня. В такой подаче вопросы глубины научных исследований, научности как таковой вольно или невольно уступают место реформистской и революционной повестке дня. В своих мягких и полуакадемических версиях вышеописанный подход получил наименование «публичной социологии». Более жесткие варианты подразумевают партисипаторное пребывание социолога именно как носителя этой профессии в самой гуще событий, проповедь социальной справедливости на баррикадах классовых столкновений. Симптоматично, что в рамках обозначенной тенденции развития современной социологии собственно научная, исследовательская составляющая социологии (т.е. главное содержание науки) уводится на второй план «необязательного» знания. Все это порождает исторические ассоциации с весьма бурной деятельностью В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого, в том числе и на ниве теоретизирования.
С другой стороны, обнаруживает себя и противоположная тенденция – погружения социологии в собственный дискурс. Это можно заметить по многочисленным проявлениям повышенного интереса к феноменологическому конструктивизму, конструированию реальности с применением социологических инструментов. В определенном плане объективная («позитивистская») реальность общества словно перестает существовать. Она уступает место феноменологическим конструктам и рассуждениям по поводу социологической эпистемологии и значимости процесса смыслонаделения, якобы творящим образ мира из головы самих социологов. Представляя собой довольно увлекательное путешествие в мир продуктивного воображения, данный процесс тем не менее оборачивается уходом социологии от ее основополагающей задачи – проведения максимально объективного анализа данных с целью его последующего использования в интересах широких слоев общества, а не отдельных рефлексирующих личностей или групп интеллектуалов.
Внутренние противоречия современной социологии, неясность ее генеральной программы, провозглашение полипарадигмальности неизбежным этапом эволюции социального знания – все это усугубляет серьезность ситуации. Как представляется, на сегодняшний день в рядах социологов не сформировалось единого понимания целей и задач своей науки.
Возможно, в этом нет ничего судьбоносно страшного. Однако для завоевания общественного признания социология с неизбежностью должна найти в себе единый язык общения. На протяжении семи лет редколлегия и авторский коллектив «Социологического ежегодника» предпринимали попытки содействовать созданию такого языка. Насколько плодотворными были эти попытки – судить нашим читателям.
Парадоксальным образом в современном мире, таком непостоянном, трансформирующемся, динамичном и сложном во всех отношениях, социология не только фокусируется на процессах социальных изменений, но и возвращается к тем базовым вопросам, с рассмотрения которых началось ее становление как науки, – проблемам социального порядка, социальной интеграции, социальной солидарности и социальной сплоченности. Тематика социального единства актуализируется во многих сферах социологического знания, а также в различных вариантах социальной политики. В современном мультикультурном мире на фоне очевидных трансформаций, революций и войн возрастает роль интегрирующих факторов – религиозности, идеологии, морали. С увеличением степени сложности и разнородности современных обществ перед учеными отчетливо встают проблемы совместного проживания и даже в некоторых случаях выживания людей. Именно поэтому социологи обращаются к исследованию форм современных социальных объединений, выявлению разного рода социальных интеграторов, социальных факторов различных видов единства, солидарности и сплоченности. В теоретико-методологическом плане вновь на обсуждение выносится старая проблема соотношения понятий, обозначающих разные формы социальных связей и единства: к каким явлениям относится сплоченность, что считать солидарностью, в каких случаях используется понятие «социальной интеграции»? В научно-практическом смысле проблема социального единства выходит в мир большой политики: в западных обществах активно разрабатываются социально-политические программы, преследующие цель добиться гармоничного совместного проживания, ориентированные на ценности мультикультурализма. Поэтому важно осознать не только глубину проникновения социологического дискурса в подобные программы, но также характер отражения политического и обыденного понимания социального единства в научном поиске.
Рассмотрению этих актуальных проблем посвящены статьи и рефераты, представленные в первой рубрике настоящего ежегодника: «Проблема социальной сплоченности в социологии». В работе Р.А. Садыкова раскрываются базовые социологические подходы к определению понятия социальной сплоченности и перспективы развития исследований сплоченности. Автор подчеркивает сложность выработки согласованного социологического определения сплоченности в контексте запутанности поисков его основного значения, а также близости этого понятия к ценностным основаниям, наличия у него позитивной смысловой окраски. Определяющей чертой современного понимания сплоченности в социальных науках выступает многомерность понятия и измерения. В данном контексте требуется выяснить: каким образом социологическое исследование социальной сплоченности может внести ясность в объяснение современных процессов; будет ли социология действительно полезна в принятии некоторых социально-политических решений или в социально-инженерных преобразованиях? Нам представляется, что это одна из болевых точек современного общества, область, где социология оказывается актуальной и полезной.
Изучение проблемы социального единства требует проведения конкретных исследований социально-культурных общностей, которые характеризуются той или иной формой, той или иной степенью социальной сплоченности. Речь идет о том, что в современном мире тесно переплетаются традиционные и современные формы сплоченности. Рассмотрение данного вопроса включает в себя описание параметров, позволяющих предсказать перспективы развития социальной сплоченности на основе анализа представлений индивидов о собственной групповой идентичности и установок внутри- и межгрупповой коммуникации. Статья М.А. Козловой и А.И. Козлова частично отвечает на вопрос о том, какие формы сплоченности обладают наиболее ярко выраженным адаптивным потенциалом и обеспечивают наиболее стабильное и долговременное повышение уровня и качества жизни. В качестве групп в данном случае выступают крупные социокультурные общности. В исследованиях, результаты которых обобщаются в данной статье, принимали участие представители этнических общностей, находящихся на разных этапах перехода от традиционного к современному типу социального устройства, – представители коренного населения Севера России. Модернизация приводит к смене эгалитарной социальной структуры коренных малочисленных народов Севера на вертикальную, ослаблению традиционных сообществ поддержки и тем самым выступает мощным стрессогенным фактором, снижающим благополучие общества в целом. В этой ситуации северяне выбирают стратегии индивидуальной и коллективной интеграции через укрепление этнической идентичности и возвращение к традициям, однако неотрадиционализм порождает отнюдь не традиционные, а новые формы сплоченности, сочетающие в себе современные и традиционные свойства.
Рубрику дополняют рефераты актуальных статей о влиянии этнического разнообразия на социальную сплоченность в современных западных обществах, роли религиозных факторов, организаций и общин в сплоченности более широкого сообщества. Этническая и религиозная гетерогенность вовсе не обязательно ослабляет социетальную сплоченность; существуют механизмы договорной интеграции, выработки стратегий внутри и вне этнических и религиозных сообществ, направленных на снижение остроты противоречий и уменьшение конкуренции между ними.
В работах следующей рубрики – «Социология морали и альтруизма» – прослеживается тесная связь с проблематикой социального единства: большая их часть посвящена междисциплинарным исследованиям социальных интеграторов. Особенностью представленных статей, обзоров и рефератов является их связь с современным естествознанием или теми элементами социальной жизни, которые традиционно не были предметом социологии, а относились к сфере биологии, эволюционной психологии и социобиологии, и наоборот. К примеру, в настоящее время очевидна тенденция так называемой «морализации биологии», когда мораль попадает в исследовательский фокус нейронауки, биологии, эволюционной психологии и приматологии. Помимо того, эмоции, которые ранее никогда широко не исследовались в социологии, теперь изучаются социологами как одновременно биологический и социальный феномен, связанный с моральными аспектами социальной жизни и, соответственно, социальной солидарностью. В обзоре последних работ зарубежной периодики, написанном Е.В. Якимовой, феномен морали анализируется в контексте современной биологии и нейронауки. Фактически обзор посвящен достижениям естествознания в изучении морали и их осмыслению, а в некоторых случаях и применению в социальных науках, в частности в социологии и социальной психологии. Данная работа подкрепляется другим аналитическим обзором (М.А. Ядова) проблематики морали в современной исследовательской практике, где рассматриваются избранные исследования морали в зарубежной и отечественной социологической литературе.
Рубрика продолжается статьей М.А. Козловой и О.А. Симоновой, представляющей результаты авторского эмпирического исследования моральных аспектов российского общества. В ней рассматриваются моральные эмоции как своеобразные индикаторы или маркеры сдвигов в трудовой этической системе жителей современного российского села. Моральные эмоции наиболее остро переживаются в ситуациях нарушения привычного уклада жизни, справедливости и в условиях социальных изменений. Жители российского села находятся в сложной ситуации глубоких социально-культурных трансформаций, когда советская трудовая этика «уходит» и не может служить системой ориентации в новых экономических условиях. «Презрение к физическому / сельскому труду» со стороны общества, возникающее в условиях перемен, отчасти обусловливает дезориентацию сельского населения, его социально-экономическую дифференциацию. В данном исследовании анализ моральных эмоций позволил раскрыть специфику субъективного восприятия перемен со стороны сельского населения отдельно взятого региона центральной России. Были выявлены представления сельских жителей о новом экономическом порядке и их роли в нем и, соответственно, видение меняющейся трудовой этики. Здесь авторы фиксировали не столько связи, сколько разрыв связей, воздействие зависти и стыда на отношения между сельскими жителями и формы их (совместной) деятельности в новых условиях.
Настоящий номер «Социологического ежегодника» также содержит такие отражающие актуальную проблематику в различных отраслях социологического знания рубрики, как «Социология образования и профессий», «Социальная теория», «Социально-экологический метаболизм города» и «Социология детства». Все они в той или иной мере связаны с лежащей в основании социологии проблемой социального порядка и социального единства. В рубрике, посвященной социологии образования и профессий, рассматриваются самые злободневные аспекты меняющихся трудовых порядков современных университетов, профессиональная культура которых и вслед за ней организация деятельности академических профессионалов подвергаются глубоким трансформациям. В основе статей, обзоров и рефератов рубрики лежит анализ новейших зарубежных и отечественных публикаций по данной теме. В условиях острого конфликта профессиональной и организационной культуры университетской среды, причиной которого ведущие ученые называют коммерциализацию и менеджериализацию университетов со стороны государства и бизнеса, сама идея университета как особого пространства производства и передачи знаний перестает быть востребованной. Описанию этой проблемы посвящена статья Р.Н. Абрамова, где рассматривается кризис академической культуры и трудовых порядков в их прежнем виде. Такие трансформации университетов и академической профессии требуют анализа развития высшего образования в исторической динамике, что в рамках настоящего издания предлагает в своей работе М.В. Прудников. Завершает данную рубрику реферат статьи, в фокусе которой – кризис и критика неолиберальных реформ государственных университетов в Европе и Северной Америке, а также раздел «Социологическая классика», где публикуется перевод текста Т. Парсонса по социологии профессий.
В рубрике «Социальная теория» читательскому вниманию предлагается статья Ю.А. Кимелева, посвященная социальной онтологии, которая является, по убеждению автора, источником новых концептуализаций в социологии. На примере новейших социально-философских теорий рассматривается такая функция социальной онтологии, как определение исследовательского поля для различных социальных наук, в том числе для социологии. Проблематика, раскрываемая в статье Ю.А. Кимелева, отсылает к главной социологической проблеме социального порядка, поскольку социальная онтология, будучи направлена на постижение строения социального мира и определение его базисных элементов, задает новые ориентиры познания современности. Речь, в частности, идет о фундаментальном сдвиге в сторону рассмотрения социальной реальности с точки зрения деятельности индивидов и предельной изменчивости социального мира. Такой глубокий пласт социологического теоретизирования дополняется обзорами по политической онтологии, подготовленными А.Ю. Долговым и Я.В. Евсеевой, где на примере последних зарубежных публикаций рассматриваются область исследования политической онтологии и основные тенденции в переосмыслении значения данного направления в современной политологии.
Далее следует рубрика, посвященная социально-экологическому метаболизму города, материалы которой также напрямую затрагивают тему социального единства в социологии, но уже в городской среде и в самых сложных ситуациях. В статье О.Н. Яницкого «Критический социально-экологический метаболизм города» анализируется социальная структура городской среды в современном обществе всеобщего риска. Используя подход У. Бека, автор формулирует принципы социально-экологического метаболизма города и предлагает инструментарий для его исследования. Здесь присутствует и перекличка с проблематикой социологии морали, поскольку в статье много внимания уделяется морали и этике в условиях риска и катастроф в городе – к примеру, «мобилизационной этике», которая заставляет сообщества людей не только приспосабливаться к критическим ситуациям, но и эффективно преодолевать их. Статья дополняется обзором (О.А. Усачева) социально-экологического архива Олега Николаевича Яницкого, в котором приводится периодизация этапов творчества видного отечественного социолога, сформулированная на основе анализа его работ разных лет. Продолжает рубрику статья М.А. Ядовой, основанная на результатах индивидуальных интервью с волонтерами, участвовавшими в ликвидации последствий пожара в ИНИОН РАН. В фокусе внимания автора – риски и опасности жизни в столице. Проведенное исследование показало, что большинство опрошенных воспринимают Москву как агрессивный город, угрожающий комфорту и безопасности его жителей.
Современные тренды в социологии детства в одноименной рубрике раскрывает аналитический обзор материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Дети и общество: Социальная реальность и новации» (М.А. Ядова и Я.В. Евсеева), состоявшейся в октябре 2014 г. Анализ целой мозаики докладов показывает: отечественная социология детства быстро развивается, используя потенциал междисциплинарного подхода. Эта область социологического знания довольно тесно связана с разработкой социальной политики. Поэтому рубрика продолжается статьей И.В. Журавлевой и Н.В. Лакомовой о социологических и социально-политических аспектах здоровья детей и подростков в современной России. Забота о молодом поколении в демографических условиях современных обществ требует обширных научных исследований, тем более что, как отмечают авторы, мотивация сохранения здоровья и заботы о нем слабо выражена в современной России. Поэтому социальные институты формирования здоровья нуждаются во всесторонней поддержке. Дело осложняется тем, что и школа, и система здравоохранения в России находятся в состоянии реформирования. Однако авторы предлагают и обосновывают ряд мер, которые следовало бы включить в социально-политические программы по поддержке здоровья, к примеру формирование моды на здоровье, повышение информированности о факторах риска для здоровья, увеличение объема медико-психологической помощи подросткам и др.
Рубрика «IN MEMORIAM: Памяти Ульриха Бека» отдает дань всемирно известному социологу. Она включает в себя статью о концепции общества риска и ее развитии, а также реферат одной из последних работ Бека, посвященной «освободительному катастрофизму». К.А. Гаврилов подчеркивает глубокое понимание У. Беком нового социального порядка перед лицом глобальных катастроф – от угроз окружающей среде и терроризма до экономических кризисов, – выстраиваемое через призму концепта «риска». Обращение именно к столь дискуссионным проблемам придавало теории Бека новизну, злободневность и провокационность, хотя в своей основе творчество немецкого ученого было тесно связано с общей социологической традицией. Реферат статьи Бека дает понять, насколько афористичным был язык его теории и какими могут стать общество, его социальная структура и культурные представления в ближайшем будущем.
Очередной выпуск «Социологического ежегодника», где мы стремились представить как новую, так и ставшую традиционной для данного издания проблематику, призван отразить наиболее актуальные тренды в социальных науках, проявившиеся в работах зарубежных и отечественных авторов.
I. Проблема социальной сплоченности в социологии
Статьи
Социальная сплоченность: критика определений и возможности для новой концептуализации 1
Р.А. СадыковВведениеСоциальная сплоченность (social cohesion) остается одним из наиболее активно употребляемых терминов в обществоведческих исследованиях и при этом не имеет ясного концептуального определения [см.: Siebold, 1999; Chan, Тo, Chan, 2006; Drescher, Burlingame, Fuhriman, 2012]. Неоднозначность данного понятия вкупе с его популярностью предоставили отдельным авторам повод называть его «еще одним умным словечком» в лексиконе ученых и политиков, вроде термина «глобализация» [Chan, Тo, Chan, 2006, p. 273], или квазиконцептом, «концептом согласия» [Bernard, 2000, p. 2–3]. Правильнее сказать, что сегодня «социальная сплоченность» – это не один концепт, а множество разных. В одних работах социальная сплоченность понимается как эквивалент солидарности и доверия, в других она обнаруживается в разных отношениях к таким понятиям, как инклюзия, социальный капитал, социальное разнообразие, бедность. В трудах, носящих теоретический характер, социальная сплоченность связывается с понятиями социальной и системной интеграции [Chan, Тo, Chan, 2006, p. 274]. В одном из последних обзоров исследований социальной сплоченности авторы выделяют несколько подходов к пониманию последней, а именно: трактовка сплоченности как приверженности общему благу; сплоченность как средство социального закрытия группы; сплоченность как ресурс власти; сплоченность как взаимная выгода; сплоченность как ресурс взаимопонимания; сплоченность как равенство и инклюзия [Ярская-Смирнова, Ярская, 2014].
Содержательное наполнение определения социальной сплоченности варьируется не только между дисциплинами, но и внутри дисциплин, от одного автора к другому. За многообразием трактовок следует многообразие исследовательских тактик и походов к измерению данного социального феномена. Использование различного инструментария в исследованиях сплоченности затрудняет сравнение результатов, полученных авторами разных проектов.
В последние годы термин «социальная сплоченность» пользуется большей популярностью у политических деятелей, нежели у социальных ученых [Chan, Тo, Chan, 2006, p. 273]. Интерес политиков к сплоченности связан прежде всего c трансформацией традиционной модели государства всеобщего благосостояния в условиях глобализации, масштабной миграции, кризиса мультикультурализма, возрастания уровня бедности [Chan, Тo, Chan, 2006; Hulse, Stone, 2007]. Перечисленные факторы угрожают старому социальному порядку и требуют активизации ресурсов общества для достижения нового консенсуса. Так, Совет Европы формулирует проблему сплоченности в терминах политического и гражданского участия. В свою очередь, такие организации, как Всемирный банк и ОЭСР, рассматривают социальную сплоченность в качестве фактора экономического развития, исходя из представления о том, что высокий уровень сплоченности в обществе может вести к экономическим выгодам.
В политическом дискурсе понятие сплоченности оказывается термином, призванным вместить определения множества актуальных социальных проблем, поэтому в западных странах без него уже редко обходится постановка широкой социально-политической повестки дня. С другой стороны, социальная сплоченность – это еще и наиболее общая формулировка общего блага, идеал, на достижение которого следует направить усилия государства и населения. Например, в обсуждении этнически фрагментированных обществ определение социальной сплоченности концентрируется на достижении чувства принадлежности к целому у всех членов общества [Vergolini, 2002, p. 198].
Хотя подходы к определению социальной сплоченности в политическом и академическом дискурсах явно различаются, концептуальные трудности в обоих случаях идентичны. Однако, несмотря на эти трудности, интерес к сплоченности не ослабевает. Постоянно предпринимаются попытки выработать более продуманную концепцию сплоченности и предложить новый набор индикаторов, соответствующих целям исследования.
В настоящей работе мы не ставим перед собой задачу дать исчерпывающий обзор способов категоризации социальной сплоченности, вместо этого мы сфокусируемся на распространенных трудностях в определении данного понятия и обратимся к наиболее репрезентативным в данном контексте исследованиям по теме; после этого мы попытаемся очертить контуры альтернативного подхода к определению сплоченности. Хотя ключевая проблема в исследовании социальной сплоченности – сложность ее концептуального определения – вряд ли может быть окончательно преодолена, мы тем не менее считаем, что понятие сплоченности обретет специфичность и бо́льшую ясность, если в поисках ресурса для его определения обратиться к обыденной языковой практике его использования.
Классические теоретические интуиции сплоченностиТрадиционный академический дискурс социальной сплоченности произрастает из представлений о целостности общества, связности его элементов. Воплощение этих взглядов видно в таких ключевых для социологии ХХ в. концепциях, как солидарность, интеграция, социальные системы. Среди ранних теоретиков сплоченности чаще других цитируются работы Э. Дюркгейма, хотя ни он, ни другие выдающиеся социологи его времени не занимались специальной разработкой понятия сплоченности. Сплоченность могла рассматриваться ими либо как условие, либо как следствие других социальных явлений. Например, в «Самоубийстве» Э. Дюркгейма низкая социальная сплоченность выступает фактором роста самоубийств [Дюркгейм, 1994].



