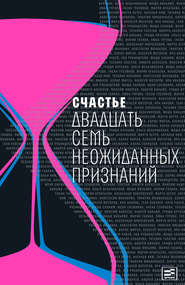скачать книгу бесплатно
– Ты не любишь сыкалат? – спросил он ревниво, рассматривая мой пломбир.
– Нет, люблю. Просто сейчас не хочу, – сказала я и попросила показать руку с татуировкой: дракончик в самом деле был целенький и не смылся.
– Хочешь тоже машину водить? – осторожно спросила я, но Мишка был спокоен.
– Сандро больфой, а я нет, – кротко ответил он.
Кукури где-то плыл по волнам жизни, оторвавшись от семьи. Нам было жаль с ним расставаться, очень жаль.
На обратном пути Сандрик сидел рядом с дедушкой, как мужчина. Он тоже стал немного хозяином машины – потому что умел ее водить.
– У тебя получится, – сказал ему дедуля. – Я знаешь когда водить научился? В пятьдесят лет, представляешь?
Сандрик смеялся и сиял глазами.
Машина везла нас в длинное, длинное лето, где будет еще бесчисленное множество круглых дней, и только бедный похищенный Кукури потерялся и без слез плакал в разлуке.
– Так зачем тебе дедушкина машина? – спросила я бесцеремонно. – Куда ее девать? Деду было опасно ее оставлять, он мог попасть в аварию, понимаешь? Это не ради денег, господи, смешно даже. Она стоила меньше копеек, но дело не в этом.
– Вы не должны были ее продавать, – только и сказал Сандрик.
Я всегда думала, что он довольно прохладный внук и мало что помнит из своего младенчества. А он помнит.
Папа сидел рядом с моим новорожденным сыном на широком балконе, и на них падали лучи солнца сквозь затейливые виноградные листья и ветки, забравшиеся на высоту с земли по решетке.
Папочка дремал, но даже сквозь дрему качал коляску – совсем слегка, ровно так, как нужно, чтобы младенец уютно надышался свежего воздуха и слегка умотался при качке. В деревне не бывает, чтобы тишина: даже если хрустнула ветка где-то на дороге, длинное эхо подхватит этот звук и пересчитает им все заборы и деревья, и принесет сюда, чтобы разбудить моего маленького. И он немедленно начинал возиться, и коляска, взятая у родственников с соседней горы на время, покачивалась уже не равномерно, а тревожно – дедушка, начинай заново!
Дедушка машинально продолжал качать, напевая что-то бессмысленно-успокоительное – на-на-а-а, на-на-а-а, на-ни-на-а-а, чеми паца багана-а-а. Этот багана думал немножко – уснуть опять или хватит уже хорошей жизни, но дедушка пел животом, большим и теплым, и сон накрывал нас всех тяжелой прозрачной сеточкой, впереди маячило лето, и только индюк-генерал внезапно начинал курлыкать ровно под священным балконом.
Сынок вздрагивал и хныкал, бабушка поминала индюкову родню и весь его род до двенадцатого колена, а дедушка обещал накормить нас всех этим индюком, сваренным в сациви.
Как хорошо, что все это было, как же хорошо. У этого сыночка теперь картинка на телефоне – тот дом, где дедушка охранял его сон, а индюк нагло его разбивал, призывая чувствовать каждую минуту той прекрасной капсульной жизни.
Там во дворе непременно стояла та самая машина, да. Я глажу эту картинку и прикладываю к сердцу.
На-на-а-а, на-на-а-а, на-ни-на.
Лев Рубинштейн. Тридцать три счастья[2 - Лев Семенович Рубинштейн (род. в 1947 г. в Москве) – поэт, эссеист. Окончил филологическое отделение Педагогического института. Литературой занимается с конца 60-х годов. В разные годы – участник многих поэтических и музыкальных фестивалей, художественных выставок и акций. Тексты переведены на основные европейские языки. Автор книг «Регулярное письмо» (1996, 2012), «Случаи из языка» (1998), «Домашнее музицирование» (2000), «Погоня за шляпой», «Духи времени», «Словарный запас», «Знаки внимания», «Скорее всего», «Причинное время». Автор статей и колонок в изданиях «Итоги», «Большой город», «Эсквайр», Grani.ru и др. В настоящее время постоянный колумнист интернет-издания InLiberty. Лауреат премии им. Андрея Белого и премии «НОС».]
Ну с заголовком же все понятно, да?
Понятно же, что заголовок этот – перефразированный фразеологизм (ух, как хорошо сказано!), как бы перекодирующий (опять хорошо!) привычное, ставшее практически родным, вроде как растоптанные тапки, состояние хронической епиходовщины в нечто прямо противоположное.
Уф! Я уж думал, что эту самую фразу мне не удастся завершить никогда. Но она, сам не знаю почему, важна для меня. Так что пусть остается. А впредь я обещаю таких неуклюжих и громоздких речевых конструкций не допускать. Тем более что речь тут пойдет вовсе не о тридцати трех, а всего лишь о трех счастьях. Но где три, там и тридцать три. Об этом, в общем-то, и заголовок.
Короче говоря, я расскажу теперь именно три простенькие истории, более забавные, чем поучительные.
А потом, если конечно останется время и будет желание, мы вместе попробуем решить, что же эти истории между собой объединяет. Ведь такие они разные, не связанные друг с другом, казалось бы, ничем – ни общим пространством, ни общим временем, ни тем более схожими сюжетными ходами.
Или же давайте так. Пока я буду рассказывать, мы параллельно задумаемся о том, чего так не хватает нам, вольным или невольным потребителям тяжелой и безысходной информационной пищи, не обещающей просвета, пригибающей к земле, вызывающей кислое ощущение подползающей катастрофы.
В общем, первая история такая.
В детской районной поликлинике, куда мы с мамой пошли, чтобы сделать мне анализ крови, меня на нервной почве вырвало на мамину юбку.
Пока она в туалете отмывала свою юбку, я рассматривал на стенах коридора плакаты про то, что надо мыть руки, фрукты и овощи перед едой.
Когда мы наконец вышли из поликлиники, на рукав ее светлого пальто тотчас же нагадил голубь. Когда она отыскивала в сумке носовой платок, чтобы стереть голубиную какашку, из сумки прямо в весеннюю грязь выпал ее паспорт.
Я в первый и в последний раз услышал, как мама выругалась матом. Для меня это было настолько сильным потрясением, что я сделал вид, будто этого не услышал.
А почему я все это запомнил? А всего лишь потому, что сразу же после этого мама вдруг сказала: «А давай-ка зайдем в булочную и купим торт!»
Это предложение стало для меня еще большим потрясением, чем поразивший меня идиоматический эксцесс. Не бывало ведь такого, чтобы вдруг! Торт! В будний день! Без какого бы то ни было праздничного повода! Ни с того ни с сего! Просто так!
Не бывало такого.
И мы купили торт! Тот самый, любимый, с роскошной ярко-зеленой маргариновой розой, цветущей посреди любовно ухоженной бисквитной клумбы. Я знал уже, кому достанется эта пышная роза, я знал уже, кому выпадет счастье с трепетом и вожделением сорвать этот невинный цветок, и я не ошибся.
Счастье ведь? Кто осмелится сказать, что нет?
Теперь вторая история.
С физикой в школе у меня было неважно. То есть даже не неважно, а просто плохо.
А физичка Эльвира Васильевна почему-то относилась ко мне хорошо и ангельски снисходила к полной моей невосприимчивости к своему предмету.
За то, что я все время вертелся на уроке, она называла меня «Вечным двигателем». Вполне, впрочем, добродушно. За то же самое, кстати, учительница географии Ирина Абрамовна называла меня «Круговорот воды в природе», хотя по географии-то я как раз учился хорошо и даже отлично.
А вот с физикой, повторяю, было как-то не очень. Когда я на уроках не вертелся и не болтал то с Шуховым, то со Смирновым, я попросту читал какую-нибудь книжку, держа ее под партой, а Эльвира Васильевна это, разумеется, видела, но виду не подавала.
И я всегда имел у нее твердую надежную тройку. «Сердечное вам спасибо, Эльвира Васильевна», – говорю я здесь и сейчас. Пусть и с большим опозданием, но зато от всего сердца.
Все было, в общем-то, хорошо, но в какой-то момент настало время сдавать выпускные экзамены.
Пришлось сдавать также и физику. А на экзамене всегда присутствовала так называемая комиссия, то есть учителя из других классов, в том числе и по физике, а иногда даже и директор.
Я вытянул билет. Первым вопросом не помню что было. А вот второй вопрос помню хорошо. Он был практическим. То есть мне нужно было из предложенного мне комплекта каких-то деталек, проводков и винтиков собрать детекторный радиоприемник.
Я обреченно сел за парту, перещупал и повертел в руках все эти непонятные штучки-дрючки и наконец в пароксизме панического вдохновения стал наобум соединять что-то с чем-то, в результате чего у меня получилось что-то. Точнее – кое-что. В общем, нечто.
Несомненным признаком успеха показалось мне как минимум то обстоятельство, что ни одной лишней, неиспользованной детали в наличии не оказалось.
Это совсем не то, что уже давняя, но постоянно воспроизводимая в семейных преданиях история о том, как мой старший брат, когда ему было лет восемь, то есть еще до моего рождения, разобрал будильник, а обратно собрать его уже не смог, потому что все время оставалась бесхозной какая-нибудь одна деталь – то одна, то другая, то третья.
А я-то – вон чего!
«Я собрал», – сказал я дрожащим голосом, сам не вполне еще веря в реальность свершившегося чуда.
Эльвира Васильевна быстро подошла ко мне, бегло посмотрела на плоды моей инженерной деятельности, слегка тревожно оглянулась по сторонам и громко, так чтобы услышали члены комиссии, сказала: «Молодец! Правильно!»
Эта похвала настолько меня взбодрила, я настолько уверовал в тот момент во всесилие человеческого разума вообще и моего в частности, что, не пожелав останавливаться на достигнутом, я решил испытать это чудо техники, для чего напялил на себя наушники и стал нажимать на какие-то кнопки и вертеть туда-сюда какие-то рычажки и кружочки. Не услышав ничего, даже характерного потрескивания, а просто совсем ничего, я зачем-то на весь класс произнес с некоторым даже как бы вызовом, с некоторой даже как бы претензией, относящейся, впрочем, непонятно к кому. Я сказал: «А почему это ничего не слышно?»
Эльвира Васильевна, мгновенно покрывшись пунцовыми пятнами, ринулась ко мне и, не разжимая зубов, прошипела: «Немедленно разбери».
Я как-то сразу все понял. И разобрал.
И комиссия так ничего и не заметила! Или сделала вид, что не заметила – какая разница!
Хорошо помню, что из класса я выходил окрыленный. Еще бы: все закончилось наилучшим образом. А что я так и не собрал приемник, так на черта он мне нужен!
На черта он мне нужен, когда такое счастье – тройка по физике, о самом существовании которой я прямо уже сейчас имею полное право забыть навсегда. Счастье! Счастье в химически… нет, в данном случае в физически чистом виде.
Ну и наконец.
Мой знакомый, житель Вологды, однажды приехал в очередной раз в Москву и в первый же вечер пошел в какой-то ресторан.
Человек он был, в общем-то, выпивающий и в этом состоянии довольно, надо сказать, конфликтный, чтобы не сказать скандальный.
В общем, он там, в этом ресторане, умудрился очень быстро поругаться с одним из посетителей, сидевшим за соседним столом, и они отправились в уборную, чтобы без свидетелей выяснить характер внезапно вспыхнувших между ними неравнодушных отношений.
Сначала, без особых предисловий, ударили его. Потом, соответственно, он. Двинув своему оппоненту по скуле, он с ужасом увидел, как из головы ударенного выпал небольшой шарик, звонко ударился о кафельный пол, пару раз задорно подпрыгнул и шустро закатился под раковину.
Это был глазной протез.
Мой знакомый настолько перепугался, что мигом протрезвел, тут же стал мириться, и они вдвоем принялись рыскать под раковиной в поисках утерянного ока.
И они его нашли! И глаз этот был торжественно инсталлирован на свое законное место. А его совместные и, главное, успешные поиски стали волею обстоятельств причиной не только бурного примирения конфликтующих сторон, но и наметившейся задушевной дружбы, за что и было немедленно выпито по бокалу шампанского.
Впрочем, это мой знакомый сказал, что по бокалу. Зная его, я думаю, что не по бокалу. И думаю, что не шампанского. Впрочем, какая разница, когда такое счастье, когда вот же он, мир во всем мире и благорастворение воздухов!
Ну вот…
Так чего не хватает нам? Правильно, нам остро не хватает жизненных сюжетов, которые бы хорошо заканчивались. Не хватает нам историй, пусть и не вполне гладких, пусть даже драматических и временами болезненных, но таких, чтобы непременно со счастливым концом.
Их смертельно не хватает, как не хватает светлого времени суток, как постоянно не хватает нам солнечного света.
Диккенса нам ужасно не хватает. Не хватает нам рождественских сказок. А пуще всего – своих же собственных историй, в силу их мнимой ничтожности и малозначимости не удостоенных входного билета в так называемую Большую Культуру.
Но мы вспоминаем их время от времени, осознав вдруг, что нам это совершенно необходимо.
Потому что счастье надежнее всего прячется до поры до времени в складках и потайных кармашках нашей легкомысленной, безответственной и часто неряшливой памяти, и его не так-то просто отыскать среди мятых бумажек, горелых спичек и засохших яблочных огрызков. Но зато, когда оно вдруг обнаруживается, оно обдает таким жаром!
Давайте вспоминать.
Ира Нахова. Мука, Гагарин, булочка и резиновый клей[3 - Ира Нахова – один из первых русских художников, начавший заниматься искусством инсталляции в России, создав в середине 1980-х в своей квартире серию проектов «Комнаты». В 2013 году Нахова стала лауреатом премии Кандинского в номинации «Проект года». А в 2015 году – первой женщиной-художницей, представившей Русский павильон на Венецианской биеннале. Живет и работает в Москве и Нью-Джерси (США).]
Счастье коллективное и счастье индивидуальное
Булочка
Чем дольше живешь, тем представление о счастье становится все более телесным: ничего не болит, температура окружающей среды хорошая, ветерок шевелит за ухом приятно, да и достигается это счастье все больше и больше химическим путем. Таблетками.
Если говорить о предрасположенности людей к счастью, то я – счастливый человек. Мне достался счастливый баланс серотонина, дофамина и эндорфина. Скорей всего, от Исай Михайлыча, моего папы. Мама была человеком, склонным к депрессии, и постоянно была удручена и чем-то недовольна. Я и запоминаю только хорошее, плохое начисто вылетает из головы довольно быстро. Может быть, поэтому я помню не так много из детства?
Что прошло, то будет мило. Но что прошло, и запомнилось. А запомнилось не так чтобы очень много чего. Я иногда пересматриваю папины фильмы 50–60-х годов (8 мм). В этих фильмах я выгляжу счастливой, но из того, что я смотрю, я физически – сердцем и нутром – ничего не помню. Больше всего помню то, что ближе к телу, то есть свою одежду: ее расцветку, колючесть, удобность или неудобность. Помню хлопковые застиранные белые подмышники, которые пришивались к шерстяным тесным кофточкам, из которых я уже выросла, и было противно их надевать, но казалось, что их так и положено носить до застиранного усевшего предела. Правда, в одном кусочке фильма помню Ниду: огромные дюны, горы песка, обдуваемые ветром, и себя, карабкающуюся вверх к вершине. И тепло, и приятность ветра, и хруст песка на зубах, впервые жующих копченого угря, принесенного взрослыми на гору, чтобы торжественно разрезать на мелкие кусочки и попробовать на вершине. А потом сесть на картонку и бесконечно съезжать с горы вниз – вниз – до бесконечности. Как во сне.
Счастье бывает двух видов: счастье приобретения и счастье избавления. В СССР оба счастья присутствовали в несбалансированном виде. Маленькое счастье доставания сервелата не балансировалось счастьем избавления от соседей-алкоголиков, и счастье приобретения новых друзей не сравнится со счастьем избавления от физкультуры на весь учебный год. Каковое освобождение было получено с помощью медицинской справки пятилетней давности. Было разумно сохранить за собой репутацию болезненного ребенка после перенесенного в детстве нефрита. Сохраняя болезненный статус, я безболезненно прогуливала школу, виртуозно писала записочки от мамы в течение всех оставшихся лет, до окончания учебы в 44-й школе с преподаванием ряда предметов на английском языке, и особо не обременяла себя присутствием в классе. В освободившееся время я проскальзывала между наблюдателями (школой, родителями, родственниками, друзьями) в пространство, принадлежащее только мне. И там, в этой образовавшейся волшебной самостоятельности, и пребывало удивительное чувство независимости и свободы, где все чувства открывались: вкус становился вкусом, запах – запахом, зрение – зрением. И все предметы запоминались, образы впечатывались в память, и запах прелой листвы в Нескучном саду остался любимым на всю оставшуюся жизнь.
Выход из здания школы сопровождался чувством освобождения, я медленно, принимая вид истомленного болезнью ребенка, проходила школьный двор и, как только меня уже нельзя было увидеть из школьных окон, быстро поворачивала направо к парку и мимо минералогического музея, через дворы проскальзывала на Ленинский проспект к булочной. Ритуал требовал купить батон белого хлеба за 13 копеек и уже с этим батоном отправиться в путешествие по парку, и этот батон непременно съесть.
Было столько невероятно интересных занятий вне обязательного. Это «надо» и «ты должна» всегда воспринималось мной как чужое, наложенное на меня кем-то другим, не мое, а потому враждебное и насильственное. Только занятия, желанные мной, придуманные мной, заслуживали полного внимания, концентрации и времени. Пожалуй, только это время и осталось в моей памяти, все остальное как-то не регистрировалось, и неприятности, связанные с чужим, благополучно улетучивались, выветривались, стирались. Может, поэтому я и не помню свое детство как целое, как отрезок времени. Там все отрывочно, бессвязно, неосознанно. Остались одни ощущения и отрывочные картинки счастья. Наверное, эти картинки – ожившие фотографии, много раз рассматриваемые, а потому впечатанные в память как свои, как собственные воспоминания, а не чьи-то взгляды на окружающее.
С момента осознания себя как самостоятельного и автономного организма, существующего отдельно от всех, в том числе и от родственников, от распорядка дня, школы, счастье полезло изо всех углов, дырок, щелей, затмило собой серость неразличения, сделало все значимым, запоминаемым, насыщенным цветом и запахами, вкусом. Все из ничего стало всем: счастьем узнавания, запоминания, отдельности и неповторимости. Правда, с этим счастьем пришло и осознание конечности и даже возможности смерти.
Мука, Гагарин
Коллективное счастье довелось испытать мне в детстве два раза, и приблизительно в одно и то же время. Я помню вход в подвал дома на Донской около нашего подъезда. Бабушка взяла меня с собой как взрослого полноценного человека, на которого можно получить один килограмм муки.
Я полна гордости за себя и за ответственное дело, в котором принимаю участие. И еще помню удивительную мягкость белого хлопкового мешка, в который то ли мука пересыпалась уже дома, то ли изначально в нем выдавалась. Ощущение пушистости, временности и ценности. А другое коллективное счастье – это мы с папой, другие родственники почему-то не запомнились, идем из квартиры через двор и выходим на Ленинский проспект. Там море людей и ощущение общей радости, подъема и нетерпеливого ожидания. Люди с флажками, шариками, толкаются, сама мостовая отгорожена от людей барьерами, теснота на тротуаре. У папы киноаппарат. Может, я и помню этот день по папиной съемке? Он подсаживает меня, и я становлюсь ногами на этот барьер, кто-то меня поддерживает сзади. Гул нарастает, и мимо нас медленно, как во сне, с быстротой мгновения проезжает кортеж машин, где в первой машине стоит и приветствует нас первый человек, побывавший в космосе, Юрий Гагарин. Единение с толпой и счастье быстро спадает. Минут через пять народ расходится, все исчезает.
Дома бабушкины маленькие пирожки с мясом или ореховый пирог плавно переводят настроение в обычное.
Во взрослом состоянии испытать такой коллективный подъем радости и счастья удалось мне в 1991 году на баррикадах у Белого дома, где я и мои друзья в счастливом экстазе пребывали в течение трех дней и ночей – термосы, бутерброды, беготня от Белого дома и обратно домой на Малую Грузинскую, опять же чувство выполнения чего-то важного, значимого, больше, чем ты сам, счастье оказаться в потоке истории, которая делается и тобой. Правда, это коллективное чувство счастья, так же, как и в детстве, полностью испарилось дней этак через пять-шесть, когда стало понятно, что ничего радикально не изменилось и героическая твоя сущность уже никому не нужна, да и тебе самому тоже, отряхиваешь ты ее с некоторым сожалением, но и с облегчением безверия и скептицизма. Всё на своих местах.
Резиновый клей
В начале 80-х ощущение было самое препоганое. Чему-то я уже научилась, а именно – как избегать внешнее, были отлаженные приемы. Но подавлять депрессию отлаженных приемов не было. Поэтому и счастья не было. Раньше было, в 70-е. А в 80-е как-то нет. В 70-е счастье наплывало неожиданно, в моменты встреч с друзьями, гормоны молодости действовали независимо от политических и домашних обстоятельств, неудач и общего беспросвета. И еще это было время узнавания и возможностей существования художника. Занятия искусством воспринимались не как ремесло или что-то отдельное от всего остального, но как возвышенная судьба, романтическое представление о себе как об избраннике, которому даровано что-то необыкновенное. Что, собственно, и поддерживалось не только узким кругом друзей, но и неосведомленной публикой, которая подозревала, какими секретами демиургов обладали художники андеграунда, но точно не знала. Мы были как бы в отдельной тонкой действительности, некими эльфами-мотыльками порхали сквозь тяжкую действительность, не поддаваясь ей и ускользая от всего реального.
В 1983 году, когда брежневская стагнация, вероятно, достигла своего апогея, грязной серой зимой я предприняла попытку наладить свою молодую жизнь. Выволокла из моей рабочей комнаты-студии (другая комната – спальня и склад) всю мебель, а именно стол, стул, мольберт и все большие картины, накопившиеся к тому времени. Купила много больших листов белой бумаги (тогда они были очень дешевыми) и начала абсолютно бессознательно обклеивать стены и пол этой бумагой, начиная буквально все с чистого листа. Наверное, это было предвиденье перестройки. Это была моя собственная перестройка. Я обклеила все стены и пол, превратив комнату в белый кубик (4 х 4 х 2.6 м). Надо заметить, что я и не представляла, что белые пространства – это пространства западных галерей. Для меня белый куб моей комнаты стал чистым полем трехмерного холста, который каждый год в течение нескольких доперестроечных лет превращался в совершенно иную действительность, которую я собственноручно могла создавать, и некоторое время, правда, не очень долгое, в нее заходить. Это было пространство свободы, созданное своими руками. Оно давало мне счастье. Пушкин говорил: ай да молодец! Видимо, у меня возникало такое же чувство. И звенело во мне, пока я работала. Митя Черногаев, в то время еще 16-летний подросток и сын моей подруги Гали, помогал мне обклеивать мое созидательное пространство. Работать вместе – это было абсолютное счастье и веселье. Мы кружились, пели, шутили, приплясывали и радовались. Резиновый клей лился рекой. Тогда его можно было купить в больших, закупоренных пробкой ведрах, этак килограмм по двадцать. Только много лет спустя, когда стало известно, что подростки нюхают клей из пакетиков, до меня стало доходить, что, возможно, наше приподнятое настроение было связано с химией этого момента в большей степени, чем с состоянием художественного подъема.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: