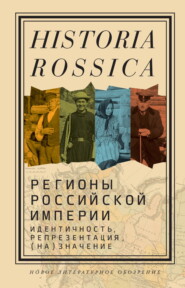скачать книгу бесплатно
Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография
Коллектив авторов
Е. Болтунова
В. Сандерленд
Historia Rossica
Регион – одно из тех фундаментальных понятий, которые ускользают от кратких и окончательных определений. Нам часто представляется, что регионы – это нечто существующее объективно, однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что многие из них появляются и изменяются благодаря коллективному воображению. При всей условности понятия регион без него не способны обойтись ни экономика, ни география, ни история. Можно ли, к примеру, изучать Россию XIX века как имперское пространство, не рассматривая особенности Сибири, Дона, Закавказья или Причерноморья? По мнению авторов этой книги, регион не просто территория, отмеченная на карте, или площадка, на которой разворачиваются самые разные события, это субъект истории, способный предложить собственный взгляд на прошлое и будущее страны. Как создаются регионы? Какие процессы формируют и изменяют их? На чем основано восприятие территории – на природном ландшафте или экономическом укладе, культурных связях или следовании политической воле? Отталкиваясь от подобных вопросов, книга охватывает историю России от 1760?х до 1910?х годов. Среди рассмотренных регионов представлены как Центральная Россия, так и многочисленные окраины империи – Северо-Западный край, Кавказ, Область войска Донского, Оренбургский край и Дальний Восток.
Регионы Российской империи. Идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография
Посвящается Анатолию Викторовичу Ремнёву
Благодарности
Мы выражаем благодарность всем коллегам, присоединившимся к нам в работе над этой книгой, прежде всего участникам международных конференций «Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение» (21–24 октября 2019 года; НИУ «Высшая школа экономики», Москва) и «Tsars’ Regions between Literary Imaginations and Geopolitics» (12–13 декабря 2019 года; Университет Хоккайдо, Саппоро (Япония)). Именно во время этих встреч мы начали дискуссию о роли и значении российских регионов. Мы хотели бы отдельно поблагодарить Юрия Акимова, Пола Верта и Сёрена Урбански, которые выступили в роли дискутантов на московской конференции, и Норихиро Наганаву, который много сделал для организации нашей встречи в Саппоро.
Мы признательны Владимиру Макарову, который перевел несколько статей с английского языка, а также Наталии Бересневой, которая помогала нам с подготовкой и техническим оформлением текста.
Эта книга не появилась бы на свет без внимания и постоянной поддержки со стороны Ирины Прохоровой, которая увидела перспективу в исследованиях исторической регионалистики много лет назад, когда в издательстве «Новое литературное обозрение» были опубликованы работы Анатолия Ремнёва, памяти которого посвящена эта книга. И для нас особенно ценно, что книга будет выпущена в том же издательстве.
Екатерина Болтунова
Виллард Сандерленд
Виллард Сандерленд
Введение. Регионы Российской Империи
Проблемы дефиниции[1 - Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Перевод с английского Владимира Макарова.]
Согласно определению Национального географического общества США, регион – это «территория, объединенная общими признаками», которые «могут быть природными или созданными человеком. Определяющим в этом отношении являются язык или особенности управления, а также религия, флора, фауна или климат. Соединенные Штаты чаще всего разделяют на пять регионов по их географическому положению на американском континенте: Северо-Восток, Юго-Запад, Запад, Юго-Восток и Средний Запад. Географы-регионоведы находят немало других географических и культурных сходств и различий между этими территориями»[2 - The US National Geographic Society // https://www.nationalgeographic.org/maps/united-states-regions/ (дата обращения: 10.06.2021).]. Под этим текстом на сайте Общества помещена карта США, на которой отмечены указанные выше регионы, разделенные жирной чертой. На врезке слева внизу – Аляска и Гавайи. Оба штата маркированы как «Запад», хотя и отстоят от него чрезвычайно далеко, а Гавайи вообще не находятся «на американском континенте».
Эта ситуация интуитивно понятна читателю: ведь США – государство, а государства делятся на хорошо различимые регионы. Если какие-то территории (как те же Аляска и Гавайи) и не соответствуют этой схеме, их необходимо в нее вписать.
Определение Национального географического общества, как мы видим, предполагает лишь простые и четкие критерии соответствия. Регион – это территория, обладающая некой внутренней связностью, «естественной» (флора, фауна, климат) или «созданной человеком» (язык, религия, особенности управления). С подобной замечательной в своей простоте схемы и начинается проблема определения такой категории, как регион. На первый взгляд система кажется логичной, однако нетрудно понять, что подобную установку едва ли можно считать окончательной. Мы принимаем ее лишь потому, что она кажется естественной.
Сложность определения понятия «регион» состоит отчасти в том, что границы территорий могут со временем меняться; к тому же в одно и то же время разные наблюдатели могут идентифицировать их по-своему. Особенно трудно увидеть, где заканчивается и где начинается тот или иной макрорегион, то есть пространство, включающее в себя территорию сразу нескольких государств. Можно ли считать Россию или, например, Турцию частью Европы? Является ли Япония «Западом»? Следует ли нам причислять Австралию к историческому региону, сформировавшемуся вокруг Индийского океана? Да, этот океан омывает все западное побережье Австралии, но термин «Индо-Тихоокеанский регион» появился в документах австралийского правительства лишь в 2013 году[3 - Defending Australia and Its National Interests. Defense White Paper (Australian Government, Department of Defense, May 2013). P. 7 // https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2013/australia-wp-2013.pdf (дата обращения: 10.06.2021). См. также: Wilkins T. S. Australia and the Indo-Pacific: A Region in Search of a Strategy, or a Strategy in Search of a Region? // Instituto per gli Studi di Politica Internazionale (04.06.2018) (https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/australia-and-indo-pacific-region-search-strategy-or-strategy-search-region-20694) (дата обращения: 10.06.2021).]. В дискуссиях относительно меньших по размеру регионов также кроется неопределенность. В тех же Соединенных Штатах Бюро переписи населения делит страну на 4 региона, Административно-бюджетное управление – на 10, система федеральных судов – на 11, Федеральная резервная система – на 12, Управление экономического анализа – на 8, а Военно-топливное управление – на 5[4 - Abadi M. Even the US Government Can’t Agree on How to Divide up the States into Regions // Insider. 10.05.2018 (https://www.businessinsider.com/regions-of-united-states-2018-5#lastly-the-petroleum-administration-for-defense-uses-this-map-of-five-regions-originally-drawn-up-in-1942-to-ration-the-countrys-gasoline-10) (дата обращения: 10.06.2021).]. Каждая из этих категоризационных схем основана на собственной логике. Если попытаться совместить все предлагаемые обоснования, то станет ясно, что единая система просто невозможна.
Регионы нельзя определить в ясных и исчерпывающих категориях: базовых признаков оказывается слишком много, они неравномерны и неравнозначны. Целый ряд из них существует как идея или даже как «пространства сознания» (Bewusstseinsr?ume[5 - Stuch S. Regionalismus in Sibirien im fr?hen 20. Jahrhundert // Jahrb?cher f?r Geschichte Osteuropas. 2003. № 4 (51). P. 550.]), а не как реальная территория. Отдельные регионы связаны скорее общей территорией, нежели единой культурой, а у некоторых территорий мало или вовсе нет так называемых объединяющих признаков. Мы знаем регионы размером как меньше, так и значительно больше одного государства; существуют огромные регионы, объединяющие сразу несколько стран, однако есть и такие, куда входят лишь определенные территории отдельных государств.
Ситуация оказывается еще сложнее, когда мы начинаем понимать, что регионы сами по себе историчны. Со временем они меняются – растут, уменьшаются или обретают иной статус. Некоторые становятся отдельными государствами, другие, напротив, теряют свою независимость, и их название дает имя новому региону. Мы знаем, что существуют региональные идентичности как национального, так и субнационального уровня. Помимо этого, важно помнить, что понятие «регион» всегда основывается на отношениях последнего с другими территориями. Иначе говоря, регион не может существовать вне реального или воображаемого сравнения хотя бы еще с одним регионом – и в этом соотношении территории начинают определять друг друга. Без юга нет севера, без центра – периферии, Европа не существует без Азии и так далее. Иными словами, регионы таят в себе немало чудес. Политологи часто жалуются, что понятие «регион» недостаточно «проблематизировано»[6 - Van Langenhove L. What is a Region? Towards a Statehood Theory of Regions // Contemporary Politics. 2013. № 4 (19). P. 2.]. Намного более значимо, на наш взгляд, то, что это понятие само по себе проблемно.
ПРОБЛЕМА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
То, что происходит с определением регионов Российской империи, – отражение этого общего состояния. Существует слишком много регионов и слишком много способов их идентифицировать, поэтому подобрать единый критерий зачастую не удается. Одни регионы определяются почти исключительно географически: Крым – это полуостров, а Алтай – горная цепь. Другие несколько менее привязаны к географии: Русский Север, Азиатская Россия, Россия за Уралом, Центральная или Средняя Азия. Границы и состав каждого из этих регионов исторически менялись. Некоторые регионы входили, по крайней мере какое-то время, в состав одной или нескольких губерний, а значит, их принадлежность тому или иному региону определялась административными особенностями территории и составом ее населения. Таков, например, регион «черты постоянной еврейской оседлости». Часть территорий определялась в рамках экономических установок (Центральный промышленный район, Центрально-Черноземный район), тогда как другие территории осмыслялись главным образом через культурные проекции («Восток» или «провинция»).
Названия регионов также образуются по-разному. Одни получают условно прямые наименования (Оренбургский край, Донская земля), а другим нужны приставки и суффиксы (Подмосковье, Прибалтика, Закавказье). Есть и особые модели: Сибирь, Черная Русь, «центр». У некоторых регионов нет даже своего названия: такова, например, территория вокруг Транссибирской магистрали. Мало кто считает, что железной дороги достаточно, чтобы объединить вокруг себя территорию. Но если существует, например, Поволжье, почему мы не можем говорить о Помагистралье?
Причина этой поразительной сложности в том, что регионы Российской империи, как и во всем мире, – это не территории с раз и навсегда зафиксированными границами, а динамические и изменчивые системы отношений. Как отмечала группа исследователей американских регионов, «регион – это земля и климат, но это и комплекс взаимодействий между этническими и конфессиональными группами, это особые отношения с федеральной властью и экономикой, наконец, это сфера культуры. Но все эти элементы, даже влияние территории и климата, постоянно изменяются. Соответственно, варьируются и взаимоотношения этих позиций друг с другом. То, что получается в результате, и составляет региональную историю»[7 - Ayers E. L., Onuf P. S. Introduction // All Over the Map: Rethinking American Regions (ed. by E. L. Ayers, P. Nelson Limerick, S. Nissenbaum, P. S. Onuf). Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 1996. P. 5.].
В этом сборнике мы предлагаем обзор региональной истории России. Мы не стремились описать всю систему регионов – не просто потому, что книга получилась бы слишком объемной, а потому, что фундаментальное описание этого «лоскутного одеяла» невозможно. Выше мы уже перечислили достаточно причин, которые мешают подвести все под единый знаменатель. В сборник вошли статьи, посвященные отдельным взглядам на политические, культурные, социальные и экономические отношения, определившие российские регионы в разные периоды существования Российской империи. Наша цель не в том, чтобы дать исчерпывающий ответ на вопрос «Что такое регион Российской империи?»: наше стремление состоит в том, чтобы подчеркнуть, что регион – чрезвычайно важная категория исторического анализа. В многочисленных исследовательских работах он часто выступает не более чем площадка, на которой разворачивается история, воспринимается лишь как территория, отмеченная на карте. В этом сборнике мы рассматриваем регион как субъект, способный представить свой взгляд на имперское прошлое России.
Начнем с простого замечания: любой регион – это конструкт. Регионов не существует, пока индивиды и группы не увидят их, не включат их в нарративы о самих себе и не придадут им множество черт и смыслов. Регион, однако, не появляется «из ниоткуда». Конструкты такого рода основаны на природном ландшафте и определены реальными отношениями между человеком и тем, что его окружает. Эти основания придают региональной перспективе осязаемость. Иными словами, подобно нациям и государствам, регионы формируются в рамках сложного взаимодействия между изобретенным и реальным, между идеей и материей. Со временем возникает форма, воспринимающаяся как нечто устойчивое и почти неизменное. И мы считаем такое положение вещей естественным, хотя знаем, что в его основе лежит сконструированная система.
Понять, насколько сложным был и остается процесс изобретения регионов, легче всего следующим образом. Представьте себе Россию без регионов. Вообразите, что в Российской империи нет ни Сибири, ни Дона, ни Севера, ни Закавказья, ни Причерноморья – только пустое имперское пространство. Думаю, вы убедились в невозможности такого построения, ведь переплетение политики, экономики, культуры и окружающей среды, взглядов изнутри и извне, которое создает пространство империи, одновременно творит и ее регионы. Если есть Российская империя, то есть и ее региональное многообразие, и наоборот.
Но как же эта сложная динамика между реальным и изобретенным «работает» в конкретных ситуациях? Кратко рассмотрим это на примере одного региона – Новороссии – и ее положения в конце XVIII – начале XIX века. В отличие от других регионов, у Новороссии есть «день рождения» – 22 марта 1764 года, когда ее создание было провозглашено императорским указом. Последний, кроме того, определил ее административные границы. Данное региону выразительное название отражало представления о потенциале новоприобретенного пограничья и стремление не отставать в имперской гонке: слово «Новороссия» построено по образцу «Новой Англии», «Новой Франции» и «Новой Испании»[8 - Об указе 1764 года и ранней истории Новороссии см.: Nolde B. La formation de l’empire russe: Еtudes, notes et documents. Vol. 2. Paris: Princeton University Press, 1953. P. 242–258; Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. М.: Изд. Академии наук СССР, 1959; и Le Donne J. P. Ruling Russia: Politics and Administration in the Age of Absolutism, 1762–1796. Princeton: Princeton University Press, 1984. P. 299–306. Об имперском обычае давать новым регионам имена старых с добавлением «Новый» см.: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso, 1983. P. 187–188. Американский специалист по топонимам Дж. Стюарт полагает, что начало этому положила Испания, назвав Мексику «Новой Испанией» и тем самым открыв «новый способ наименования» (Stewart G. Names on the Land: A Historical Account of Place-Naming in the United States. Boston: Houghton Mifflin Company, 1967. P. 23).].
В последующие десятилетия границы Новороссии расширялись по мере того, как империя росла и приближалась к черноморскому побережью. В начале 1800?х годов губерния превратилась в Новороссийский край, который включал в себя три новые губернии – Херсонскую, Таврическую и Екатеринославскую, а к 1812 году – еще и Бессарабию.
Одновременно с пространственным расширением в конце XVIII – начале XIX века Новороссия менялась и в дискурсивном отношении, обрастая новыми ассоциациями – как реальными, так и воображаемыми. В Новороссии стали видеть территорию степей, землю, где прежде обитали дикие кочевники и вероломные татарские ханы. Ее начали воспринимать как пространство имперских щедрот (земельные владения, розданные Екатериной II) и имперской мечты (например, потемкинские деревни), территорию пшеничных полей и пастбищ. Жители этого края описывались как конкретные «типы»: малороссийские чумаки, одесские евреи, немецкие колонисты. Но важнее всего, что Новороссию определяли и превозносили как регион, где происходит быстрая, почти чудесная трансформация. Французский наблюдатель в начале 1800?х годов отмечал, что Новороссия прежде «пустовала», а теперь «вырвана из забвения», поля ее возделаны, она населена колонистами, застроена городами и стремительно идет по пути прогресса[9 - Castelnau G. de. Essai sur l’histoire ancienne et moderne de la Nouvelle Russie. Vol. 1. Paris: Rey et Gravier, 1820. P. 11. О развитии Новороссии в начале XIX века см.: Дружинина Е. И. Южная Украина в 1800–1825 гг. М.: Наука, 1970. См. также: Herlihy P. Odessa: A History 1794–1914. Cambridge: Harvard University Press, 1986. P. 21–141; и Martin T. The Empire’s New Frontiers: New Russia’s Path from Frontier to Okraina // Russian History/Histoire Russe. 1992. № 1–4 (19). P. 181–201.].
«Новороссизация» Новороссии была бы невозможна без участия множества акторов – поэтов, археологов, картографов, пейзажистов, натуралистов (например, П.-С. Палласа и В. Ф. Зуева). Свою роль сыграли губернаторы и управленцы (Г. А. Потемкин, А.-Э. Ришелье, М. С. Воронцов), историки, этнографы, лингвисты, авторы травелогов, а также региональные организации (например, Одесское общество истории и древностей, основанное в 1839 году). Их усилиями Новороссия в прямом и переносном смысле была нанесена на карту, получила свою «региональность», которую не утратила даже после того, как Новороссийский край в 1874 году перестал существовать как административная единица.
В ходе создания Новороссии как нового региона империи историческое прошлое территории было в значительной мере разрушено или стерто с лица земли. Ногайцев, кочевавших в степях, принудили перейти к оседлому образу жизни, запорожское казачество распустили, тюркские названия рек, бухт и деревень заменили на русские или основанные на греческих корнях. В целом тюрко-исламское культурное наследие региона было либо уничтожено, как множество мечетей в Крыму, либо приспособлено к ориенталистскому взгляду, как ханский дворец в Бахчисарае.
Вытеснение старого предполагает как физическое изменение территории – насыщение ее имперскими атрибутами, так и формирование новой риторической модели, которая объясняет и оправдывает этот процесс. Итогом стало возникновение региона, который представлялся естественной частью России. Его фантастически быстрое развитие в первой половине XIX века в составе Российской империи кажется логичным в перспективе развития всего государства. Новороссия и имперское пространство всей России словно бы сливаются в счастливом союзе. Как писал в 1840?х годах «Нестор Новороссии» А. А. Скальковский, «в России, благодаря мудрому и благодетельному правительству, все улучшается, все совершенствуется, все идет вперед: и промышленность, и торговля, и народная образованность. Предоставляя другим, более сведущим, говорить о севере и западе империи, нашего великого отечества, я обращаю внимание читателей на юг, на Новороссию, представлявшую в половине прошедшего столетия пространную, глухую степь, кочевье враждебных нам Татарских орд или жилища буйных ватаг Казацских. Возьмем для примера эпоху довольно к нам близкую, рассмотрим беспристрастно все то, что сделано в этом крае, менее чем в полвека (1800–1840), и глаз историка-наблюдателя изумится от гигантских успехов, невиданных в других, более древних, частях не только России, но и прочих государств Европы. Америка, говорят, преуспевает еще более, делает шаги быстрее – быть может; но это так далеко от нас, ее пример так неподражен для нашего полушария, что мы рады и тому, что у нас перед глазами»[10 - Скальковский А. А. Сравнительный взгляд на Очаковскую область в 1790 и 1840 годах // Записки Одесского общества истории и древностей. 1844. Т. 1. С. 257–258.].
СТРУКТУРА КНИГИ
Авторы статей в нашем издании обращаются как к реальным, так и к сконструированным признакам регионов Российской империи на обширном материале: здесь и внутренняя политика созванной при Екатерине II Уложенной комиссии, и национальный траур после смерти Александра I, и региональные аспекты юридической и административной реформы Александра II; связь между региональным и биографическим, индустриализация в пределах одного региона, споры о национальной истории, имперской принадлежности и, наконец, о «желтой опасности». Временной диапазон статей – от 1760?х до 1910?х годов, а из регионов в тексте представлены как Центральная Россия («внутренняя Россия», по словам Николая I – «сердце России»[11 - Gorizontov L. The «Great Circle» of Interior Russia: Representations of the Imperial Center in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries // Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930 (ed. by J. Burbank, M. v. Hagen, A. Remnev). Bloomington: Indiana University Press, 2007. P. 69.]), так и многочисленные окраины империи – Северо-Западный край, Кавказ, Область войска Донского, Оренбургский край и российский Дальний Восток.
Во всех работах ощущается влияние центростремительной версии российской истории. Этот мощный нарратив и его основные элементы определяют взгляд большинства историков на прошлое страны еще со времен карамзинской «Истории Государства Российского». Да и не только историков: без его влияния представления об истории всех российских интеллектуалов были бы совсем иными. Например, популярный писатель Б. Акунин не так давно с уверенностью заявил: «Россия – это прежде всего государство»[12 - Акунин Б. История Российского государства. Т. 1. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы. М.: АСТ, 2013. С. 3. Интересную критику государственнического подхода Акунина см.: Герасимов И. L’Еtat, c’est tout: «История Российского государства» Бориса Акунина и канон национальной истории // Ab Imperio. 2013. № 4. С. 219–230.]. За этим высказыванием стоит хорошо знакомая идея: государство – главное действующее лицо российской истории. Центр – императоры, Политбюро, партия, правительство – определяет жизнь народов либо благотворно, либо разрушительно, и в этом состоит вся российская история. Как писал В. Маяковский, «начинается земля, как известно, от Кремля»[13 - Маяковский В. В. Прочти и катай в Париж и в Китай // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений. В 13 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1955. С. 257.]. В таком нарративе регионы, конечно, имеют некоторое значение, добавляя в общую картину разнообразия и колорита, но основной их функцией становится лишь детализация общей проблематики. Такой подход характерен для любого историописания, в центре которого стоит единая нация[14 - Более широкий обзор того, как национальная история обесценивает региональный взгляд, см.: Applegate C. A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern Times // American Historical Review. 1999. № 4 (104). P. 1157–1182.]. В статье Владислава Боярченкова о спорах между историками-государственниками и регионалистами в середине XIX века показано, как работает этот стереотип.
Авторы статей нашего сборника не согласны с этим подходом, но не идеален и регионалистский подход, который наделяет регион собственной ценностью, нередко преувеличенной. Если историки, уделяющие основное внимание центру и нации, склонны игнорировать взгляд из регионов, то регионалисты не готовы преодолеть установленные ими самими узкие рамки и интерпретировать историю своей территории исходя из более широких аналитических парадигм; они также часто предлагают контрнарратив версии, принятой в центре. В этом смысле региональная история часто бывает зажата между краеведением, с одной стороны, и романтическим антицентризмом – с другой. Отметим: эти крайности не однозначны. Краеведение, например, может быть выражением естественной гордости за свой регион, но центр может использовать его как инструмент насаждения государственного патриотизма[15 - О том, как советское правительство в хрущевский период развивало местное и региональное историческое знание как фактор усиления патриотизма, см.: Donovan V. «How Well Do You Know Your Krai?» The Kraevdenie revival and Patriotic Politics in Late Khrushchev-Era Russia // Slavic Review. 2015. № 3 (74). P. 464–483.]. Писать региональный нарратив как альтернативу нарративу централистскому, нарративу единой нации – задача сложная и требующая филигранного исполнения. Из проектов, в рамках которых она была в полной мере реализована, можно назвать цикл «Окраины Российской империи» (серия Historia Rossica) издательства «Новое литературное обозрение», авторы которой, говоря о регионах, предлагают новый взгляд на проблемы изучения Российской империи как таковой[16 - Западные окраины Российской империи (под ред. М. Д. Долбилова и А. И. Миллера). М.: Новое литературное обозрение, 2006; Сибирь в составе Российской империи (под ред. Л. М. Дамешек и А. В. Ремнёва). М.: Новое литературное обозрение, 2007; Северный Кавказ в составе Российской империи (под ред. В. О. Бобровникова и И. Л. Бабич). М.: Новое литературное обозрение, 2007; Центральная Азия в составе Российской империи (под ред. С. Н. Абашина, Д. Ю. Арапов и Н. Е. Бекмахановой). М.: Новое литературное обозрение, 2008; Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи (1812–1917). М.: Новое литературное обозрение, 2012. Критическое осмысление целей, достижений и ограничений серии см. в комментариях в журнале Ab Imperio (2008. № 4. P. 358–519).].
В нашем сборнике мы стремимся к пересмотру централистских нарративов и обращаемся к исследованию особости российских регионов. Однако мы не ищем уникальность ради ее самой, она не является для нас самоценной или более значимой, нежели целостное понимание механизмов развития империи. Нашим ориентиром на пути изучения региона как структуры, одновременно отличной и связанной с другими элементами, станут работы нашего коллеги А. В. Ремнёва. Как историк, исследовавший региональную и имперскую историю, Ремнёв всегда умел продуктивно совмещать интерес к изучению конкретных территорий со стремлением к более широкой проблематизации. Будучи специалистом по истории Сибири и Дальнего Востока, Анатолий Викторович «уверенно мог писать обо всем пространстве империи и почти во всем находить параллели и взаимовлияния»[17 - Gorizontov L. Anatolii Remnev and the Regions of the Russian Empire // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2015. № 4 (16). P. 908.]. Он понимал, что само изучение регионов Российской империи требует постоянного сравнения и сопоставления – хотя бы потому, что регионы как «субнациональные пространства» были теснейшим образом взаимосвязаны. Каждый регион – это отдельный мир, который все же не принадлежит лишь самому себе, а его история не обязательно противопоставлена той, что может быть написана в столице империи. Регионы Российской империи, как и территории других государств, сопротивлялись попыткам поместить их в рамки единого определения и одновременно формировали это единое целое. В сборнике мы стремимся описать это региональное переплетение – панораму империи, в которой каждый элемент уникален, но связан с другими. Это, в свою очередь, заставляет задуматься, что же объединяет и разделяет регионы, какие именно отношения между ними возникают и как все они взаимодействуют с империей как единым целым.
Статьи, представленные в сборнике, как нам кажется, помогают дать нетривиальный ответ на три основных вопроса о регионах Российской империи: когда они возникают, под действием каких сил или обстоятельств формируются и, наконец, какова механика этих процессов? Можно сформулировать вопросы и несколько иначе: как регионы влияют друг на друга, на всю структуру империи и на складывание русской и других национальных идентичностей? Читая статьи одну за другой, можно увидеть, что предлагаемые ответы как пересекаются друг с другом, так и значительно отличаются, подчеркивая тем самым огромное разнообразие регионов России.
В рамках этой работы основным для нас был вопрос о том, когда регион становится регионом. Ведь признание, что у истории региона есть начало, лучше всего доказывает, что регион – это конструкт. Представленные исследования охватывают период в полтора столетия и демонстрируют, что регионы возникали в разные моменты, по разным причинам и благодаря усилиям разных людей. Сложная и многообразная жизнь региона наполнялась самым разным смыслом для разных индивидов, а значит, регион для них, вероятно, возникал в разное время. Новороссия стала российской губернией в 1764 году, но целый ряд элементов, предписанных ей, возник существенно позже. При этом сам термин «Новороссия» появился значительно раньше – в письме сенатора И. К. Кирилова императрице Анне Иоанновне в 1735 году – и относился не к степям Причерноморья, а к Оренбургу[18 - Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. Ithaca: Cornell University Press, 2004. P. 47.].
В статье Ольги Глаголевой показано, как в 1760?е годы на фоне созыва Уложенной комиссии Екатерины II дворяне европейской части России начинают проявлять собственную региональную принадлежность. Последняя при этом оказывается сложнее, нежели представления о ней имперских властей. В статье Владислава Боярченкова о «провинциализме» в российской историографии катализатором для чувства региональной принадлежности становится дух реформ первых лет царствования Александра II. В работе Сёрена Урбански о синофобии в Сан-Франциско, Владивостоке и Сингапуре в конце XIX – начале XX века, напротив, российский Дальний Восток формируется в глазах российского общества и чиновничества как регион в том числе и по мере роста страха перед «желтой опасностью». Критически важными точками здесь оказываются Боксерское восстание и Русско-японская война. В каждом из этих случаев внешние факторы играют ключевую роль в зарождении определенного взгляда на регион.
В статье Марка А. Содерстрома об историке П. А. Словцове регион становится категорией более личной. Сибирь для Словцова – в значительной степени имперское пространство, а империя в его нарративе – великая творящая добро сила, действием которой «и русские и племена подвластные» собираются в единую счастливую имперскую семью. Одновременно с этим Сибирь – «участок» личных эмоций Словцова, его дом велением судьбы. В итоге ему удается свести воедино собственную биографию и историю огромной территории. Он представляется читателю как сын Урала: «На Нижнесусанском заводе, да простит читатель эгоизму, я родился в 1767 году». Именно мигранты из «старой Сибири» и обширных земель вокруг Великого Устюга начали процесс русификации «новой Сибири». Словцов замечает с некоторой гордостью за сопричастность к этому процессу: «Без устюжан в Сибири не обойдется некакое дело». Для него Урал «не отделял… Сибирь от России», не был «гранью между государством и колонией» прежде всего потому, что он не был подобной гранью для самого Словцова. Страна, разрастаясь, перешагнула через Урал, и сам Словцов перебрался в Сибирь, считая себя одновременно и русским, и сибиряком.
В других случаях и в гораздо более поздний период речь могла идти не столько о познании или самопознании, сколько о создании региональной перспективы. Так, в статье Евгения Крестьянникова об окружных судах в Сибири правовое поле «захватило» Камчатку лишь за несколько лет до падения империи. При этом создание в 1912 году в Петропавловске-Камчатском окружного суда, требовавшего больших затрат, вызывало множество вопросов как у местных, так и у столичных властей. Евгений Крестьянников доказывает: появление суда на Камчатке было обусловлено стремлением обозначить присутствие империи на дальневосточных окраинах. В рамках рассуждений государственных чиновников территория Северо-Восточной Сибири была огромна, ее природные условия – суровы, а Камчатка была крайне мало заселена: лишь немногим из здешних обитателей окружной суд был в действительности нужен. Однако решения имперских чиновников определялись не потребностями населения, а прежде всего рассуждениями геополитического порядка.
Приведенные в статье Евгения Крестьянникова многочисленные факты показывают, что существует множество причин, благодаря которым регионы возникают в тот или иной момент и в той или иной форме. Целый ряд концепций был создан властями, другие, напротив, рождались на низовом уровне; часто мы имеем дело с объединением двух позиций. В статье Алексея Волвенко о донских землях значимым фактором становится и название региона. Донские казаки именовали территорию, где жили столетиями, «Землей войска Донского», однако в 1870 году в Петербурге было принято решение переименовать «землю» в «область». Военный министр Д. А. Милютин полагал, что в эпоху унификации официальное название казачьих земель должно соответствовать «общепринятым наименованиям в Империи». Инициируя новое наименование, министр, однако, был обеспокоен реакцией местного населения. Возражений не последовало, но сам по себе эпизод оказался примечателен: в столице опасались, что казаки «относятся весьма недружелюбно ко всяким изменениям старых порядков». По сути, Милютин зафиксировал свойственный казачьему региону потенциально опасный традиционализм. То, что смена названия произошла почти без возражений, не означает, что Милютин был неправ: скорее можно говорить о том, что право центра менять название региона – не самый важный элемент региональной идентичности.
В статьях Амирана Урушадзе и Дарюса Сталюнаса подчеркиваются схожие смещения и противоречия между тем, как власть видит регионы из центра, и тем, как территорию представляют сами жители. Фундаментальное противоречие лучше всего выражается приведенной Урушадзе фразой Николая I «В царстве другого царства быть не может». Именно так император ответил на доклад графа П. Д. Киселева в 1844 году[19 - В докладе П. Д. Киселева акцент был сделан на казахской Букеевской Орде, которая в XIX веке располагалась в широком пространстве между Волгой и Уралом. Более подробно об интересном докладе Киселева и об управлении этим регионом в позднемосковский и имперский период см.: Трепавлов В. В. «В царстве другого царства быть не может»: Вассальные владения в составе России (XVII – начало XX в.) // Российская история. 2015. № 3. С. 3–14.]. Позиция императора, на первый взгляд, была недвусмысленна: регион может быть только таким, каким его хочет видеть центр. Однако никто из российских монархов, не исключая Николая I, никогда не предлагал четкого плана перехода к подобной системе и, конечно, не определял в этой связи никаких сроков. Административные реформы при этом часто оказывались неясными и даже парадоксальными. Амиран Урушадзе демонстрирует это на примере неудачной реформы управления Кавказом, которую предложил барон П. В. Ган в начале 1840?х годов. Проект Гана полностью соответствовал духу николаевской политики, но при этом потерпел неудачу. Император посчитал, что идею интеграции лучше всего реализовывать не посредством выстраивания централизованного управления Кавказом, как предлагал Ган, а через создание нового наместничества, контроль над которым был передан в руки князя М. С. Воронцова. Однако, пожалуй, важнее то, что план барона Гана, централистский, ориентированный на действия сверху, оказался не менее патерналистским и безапелляционным, как и все имперское управление в XIX веке.
В этом же русле разворачиваются рассуждения Дарюса Сталюнаса, который анализирует попытку имперских властей создать идею Западной России (впоследствии – Западного края) как особого региона. Подобные действия мотивировало стремление нивелировать влияние конкурирующей идеи Великого княжества Литовского и снизить польское влияние в регионе. Автор показывает, что эта попытка отчасти удалась. Термины, которые власти ввели в русскоязычные учебники и бюрократические документы, вошли в повседневный язык недоминирующих этнических групп. Сама идея, однако, не прижилась: «ментальные карты» литовцев продолжали включать в себя привычные исторические названия региона и его частей. К тому же, продвигая идею «Западного края», имперские власти испытывали целый ряд сомнений, опасаясь, что жители региона увидят в этом признание особости этих земель в составе империи.
Одним из главных выводов сборника можно считать утверждение, что уже к концу XVIII века административные границы и практики управления действительно серьезно способствовали определению регионального пространства и становлению его идентичности. Едва ли можно говорить о том, что центр сам по себе формировал традиции и идентичность региона. Центру часто были неподвластны расстояния – даже в эпоху телеграфа и железной дороги. Центр не мог как по волшебству увеличивать или уменьшать население территории – по крайней мере, это не могло быть осуществлено с той скоростью, о какой мечтали иные чиновники в Петербурге. В этом смысле официальные проекты региональных реформ всегда оставались в чем-то оторванными от реальности конкретной территории. Это происходило, впрочем, не потому, что судьбу региона определяли «областные массы народа» (термин А. П. Щапова). Практический потенциал государства в регионах был всегда ограничен, а язык, с помощью которого власть стремилась «прочесть» территорию, был несовершенен и оперировал множеством стереотипов и неочевидных установок[20 - Об этом см.: Scott J. C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998.].
Это становится очевидным в работе Сергея Любичанковского, который исследует репрезентацию Оренбургского края в отчетах губернаторов территории конца XIX – начала XX века. Автор демонстрирует, что в своих обращениях к центру гражданские губернаторы выдвигали на первый план позиции экономического порядка, подчеркивая значение сельского хозяйства. Из местных этнических групп они традиционно выделяли башкир, не придавая существенного значения значительно большим по численности этническим группам (русским и татарам). По сути, в губернаторских отчетах из Оренбургского края, утратившего в 1881 году статус генерал-губернаторства и превратившегося в губернию, прослеживается намерение представить регион в категориях, не привязанных к позиционированию уникальности территории. Такие документы мало отражали взгляд региона на себя, но соответствовали ожиданиям имперского центра, который в конечном итоге стремился к достижению единообразия и постоянства на всей территории страны.
Статья Ивана Поппа о волостных судах демонстрирует отчасти схожие выводы. Автор отталкивается от утверждения Дж. Бурбанк, назвавшей волостные суды «триумфом имперского государства». На первый взгляд, рассуждает автор, исследовательница права, ведь новая система позволила включить только что получивших свободу от крепостной зависимости крестьян в систему имперского правосудия. Однако конкретный региональный материал заставляет усомниться в рассуждениях такого рода. Изучая реакции губернаторов разных территорий и, предметно, функционирование волостных судов в Пермском крае, Иван Попп показывает, что система, с одной стороны, не удовлетворяла потребности местного населения, а с другой, в соответствии с установками центральных властей, оставалась автономной, то есть неинтегрированной в основную систему судопроизводства.
Еще одна важная для нашего сборника тема – взаимоотношения между регионами и формирование особых территориальных иерархий. Известно, что власти Российской империи всегда мечтали о «слиянии» разных элементов государства в единое целое. Реалии имперской жизни, однако, скорее поощряли сосуществование территориальных различий. Контекст при этом мог быть самым разным – удаленность от центра, близость к небезопасным или неопределенным границам, особость этноконфессионального состава населения и, наконец, природные условия и наличие (или отсутствие) полезных ископаемых.
В этом сборнике исследованы разные уровни иерархий. В статье Ольги Глаголевой о формировании региональной дворянской идентичности периода созыва екатерининской Уложенной комиссии, например, показано, что Комиссия «стала первым в истории России публичным обсуждением проблем империи и регионов – особенностей и привилегий внутренних и пограничных регионов, проблем русификации и унификации…». Символично, что статья начинается с анализа процессии депутатов, представляющих губернии по степени их важности. В Успенский собор первыми входят депутаты от Москвы, а последними – от Новороссии. На следующий день в Грановитой палате они рассаживаются согласно этому же принципу. Процессия демонстрирует, что у регионов есть по крайней мере три уровня символического статуса: помимо значимости самого факта участия в действе отмечено их место в церемонии и положение по отношению к другим регионам такого же типа (внутренним, пограничным, историческим, новым и т. д.) Зримая иерархия неизбежно приводит депутатов к осознанию своего статуса и определяет выбор используемых ими презентационных стратегий.
В статье Екатерины Болтуновой проанализирована схожая практика формирования региональной статусности и форм ее презентации. Речь идет о региональных траурных процессиях, устроенных в 1826 году во время перемещения гроба с телом Александра I из Таганрога, где император скончался в декабре 1825 года, в Петербург. Путь в 2 тысячи километров от берегов Азовского моря к Балтике занял два месяца. По пути в Северную столицу тело монарха провезли по территории нескольких российских губерний и через ряд крупных городов европейской части страны (например, Харьков, Белгород, Курск, Тула, Москва и Новгород). Автор показывает, как вокруг гроба покойного монарха выстраивались шествия, собиравшие вместе людей конкретной территории, демонстрируя, как процессии сами по себе становились для каждого конкретного региона возможностью рассказать о себе. Самопрезентация каждой территории имела как общие, так и уникальные черты, создавая эффект «живых картин». Зачастую презентация региональных социальных иерархий могла существенно разниться от региона к региону. Один из самых показательных выводов в статье связан с указанием на единообразие, которое демонстрировали центральные территории империи, и вариативностью подобной презентации в регионах более удаленных от центра, в частности в Слободско-Украинской губернии.
Анализ взаимоотношений между регионами занимает ключевое место и в статье Кэтрин Пикеринг Антоновой. Это единственная статья сборника, где на первый план выходит экономика, а конкретно – регионы, где в XIX веке существовало развитое ткачество и текстильное производство (Москва, Иваново, Оренбург). Автор подвергает критике устойчивое представление о том, что история производства – это своего рода линейный процесс, в основе которого лежит переход от ремесленных технологий к протоиндустриализации и, наконец, индустриализации. Такая система, по мнению Кэтрин Пикеринг Антоновой, постулирует отсталость России от Британии и других развитых стран. Автор статьи предлагает рассматривать историю российского текстильного производства с позиции «региономики», то есть анализа региональной экономической деятельности, которая определяется соотношением разных форм ручного и/или механизированного труда, специализации в производстве той иной продукции и ее поставки на рынок. Экономическую деятельность в регионах Пикеринг Антонова называет не протоиндустриальной, а параиндустриальной, ведь у каждого региона в этой выборке своя система связей между теми или иными местами производства, деревней и городом, свой брендинг ткацкой или текстильной продукции, основанный на терруарных особенностях региона. Такой подход не требует непременного указания на стадии развития, которые, в свою очередь, формируют черно-белую перспективу – отсталость vs развитие. Параиндустриальный подход видит в производстве характерное для конкретного региона соотношение между продукцией, рынками и пространством производства и потребления.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Выводы, к которым приходят авторы статей, предлагают новую региональную оптику для исследования Российской империи. Мы полагаем, что новые изыскания, написанные на основе материалов региональных архивов, могут изменить наш подход к прошлому России и помочь выбраться из тисков традиционного восприятия региона[21 - Pickering Antonova K. Discovering Russian Regions: Fruits of the Archival Turn in Imperial Russian History // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2020. № 4 (21). P. 892. Несколько новейших работ по теме на английском языке: Lounsbery A. Life Is Elsewhere: Symbolic Geography in the Nineteenth-Century Russian Novel. Ithaca: Northern Illinois University Press, 2019; Russia’s Regional Identities: The Power of the Provinces (ed. by E. W. Clowes, G. Erbsl?h, A. Kokobobo). New York: Routledge, 2018; Smith-Peter S. Imagining Russian Regions: Subnational Identity and Civil Society in Nineteenth-Century Russia. Leiden: Brill, 2018.].
Следует отметить, однако, что этот новый подход не предлагает кардинального изменения всей перспективы. Региональная история не может существовать без общегосударственной истории или истории политического центра: противопоставлять эти установки было бы слишком большим упрощением. Но переосмыслить значение регионов в общероссийском контексте – чрезвычайно важно, это позволит пересмотреть поле исторических исследований. В конце концов, в 1914 году территория Российской империи составляла примерно 21,8 миллиона кв. км, что в 2 раза больше, чем площадь США, и лишь немногим меньше, чем Британская империя в 1870?е годы. Сложно представить, что региональный подход к истории столь огромной страны не продемонстрирует ничего нового[22 - Saunders D. Regional Diversity in the Later Russian Empire // Transactions of the Royal Historical Society. 2000. Vol. 10. P. 144.].
Основная цель сборника – не в том, чтобы предложить (и уж тем более обосновать) некий прежде не существовавший региональный взгляд на империю. Наши задачи скромнее: мы стремимся достигнуть более глубокого анализа истории регионов как таковых. Многие историки и социологи в России и в мире, заявляющие, что нация – это «воображаемое сообщество», видят в регионе нечто неотрицаемо реальное. Возможно, это происходит потому, что регион как субнациональная единица обычно меньше по размеру, нежели государство. К тому же он менее абстрактен и, соответственно, кажется более реальным. На самом деле регион, как мы уже говорили, – это в такой же степени конструкт, как и любая другая определенная человеком часть пространства. Он сочетает в себе реальные и воображаемые политические, социальные, культурные и экономические отношения и функционирует в рамках целого ряда возможностей.
Авторы статей этого сборника исследуют разные аспекты комплексного и неоднозначного развития регионов Российской империи. В ряде статей вводятся в оборот малоизвестные архивные материалы, в других представлены новые исследовательские концепции. Хотя все статьи (за исключением работы С. Урбански) остаются в рамках собственно Российской империи, а не компаративных трансграничных моделей, некоторые авторы анализируют регионы в рамках мультирегиональных или межрегиональных установок[23 - О ценности межрегионального подхода в контексте истории Российской империи см. новаторские труды А. И. Куприянова: «Культура городского самоуправления русской провинции. Конец XVIII – первая половина XIX в.» (М., 2009) и «Выборы в русской провинции (1775–1861 гг.)» (М., 2017).]. Мы надеемся, что представленные в работах выводы будут полезны для поиска новых ответов на старый вопрос: как оценить роль регионов в истории России, как измерить их влияние на развитие страны.
В этом отношении мы идем по пути, который почти 20 лет назад наметил Анатолий Викторович Ремнёв, полагавший, что «если признать, что Российская империя была не простым конгломератом народов и территорий, а сложной системой, включавшей в качестве элементов разнопорядковые с асимметричным статусом… регионы, имеющие различные социально-экономические, политические и социокультурные характеристики, то необходимо будет изменить ракурс исторического исследования, который потребует существенного расширения тематики и понятийного аппарата»[24 - Ремнёв А. В. Региональный нарратив в новой имперской истории // Вестник Омского университета. 2004. № 4. С. 7.].
В определенном смысле это издание – продолжение тех идей, которые высказывал наш друг и коллега. Именно поэтому мы посвящаем ему нашу книгу. Мы надеемся, что эта работа внесет свой вклад в процесс переосмысления регионов в истории Российской империи, подтверждая тем самым, что регион – это не только физическое пространство или субъективный образ территории и ее жителей, но и важное действующее лицо российского прошлого.
Часть 1. Понятия, категории, исследовательский взгляд
Владислав Боярченков
«Русская история в самой основе своей есть… История областей»
Провинциализм, народность и колонизация в историческом дискурсе федералистов эпохи Великих реформ[25 - Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.]
Если не общепринятым, то, безусловно, самым эффектным способом публичного представления нового преподавателя университетской корпорации в России середины XIX века была организация вступительной лекции, посетить которую могли все желающие. Именно в такой обстановке – не в обычной аудитории, а в переполненном зале, где проходили торжественные собрания, в присутствии руководителей учебного округа во главе с попечителем, – состоялся дебют на кафедре русской истории Казанского университета А. П. Щапова 11 ноября 1860 года. Вниманию публики был предложен «Общий взгляд на историю великорусского народа».
Несмотря на то что текст этой лекции представлял собой своеобразный экстракт курса гражданской истории, который на протяжении нескольких предшествовавших лет читался Щаповым в Казанской духовной академии, для университетских слушателей ее содержание стало подлинной сенсацией. Присутствовавшие на лекции спустя годы отмечали в один голос небывалый ажиотаж, охвативший аудиторию с момента появления лектора перед кафедрой и удерживавший ее на протяжении всего примерно двухчасового выступления, которое завершилось оглушительной овацией[26 - Л. Р. [Лаврский К. В.] Из воспоминаний казанского студента // Первый шаг: Провинциальный литературный сборник. Казань, 1876. С. 406–413; Смирнов И. В Казанском университете. 1860–1861. (Страничка из жизни и мечтаний 60?х годов) // Русские ведомости. 1905. № 45.], а сам текст впоследствии долгое время циркулировал в среде казанского студенчества, благодаря чему сохранился[27 - Чернышев Е. И. Предисловие: Щапов А. П. Неизданные сочинения // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1926. Т. 33. Вып. 2–3. С. 1.]. Чем же так увлек казанскую публику молодой адъюнкт, если не брать во внимание его необычную внешность и энергичную манеру изложения материала?
Вероятно, прежде всего слушавших подкупала новизна предлагаемых Щаповым подходов к осмыслению прошлого России. С первых слов лектор заявил о неприятии господствующих взглядов на русскую историю, в основе которых лежали идеи государственности и централизации; в противовес этим принципам им предлагались начала народности и «областности»: «Русская история в самой основе своей есть, по преимуществу, история областных масс народа, история постепенного территориального устройства, разнообразной этнографической организации, взаимодействия, борьбы, соединения и разнообразного политического положения областей до централизации и после централизации. Только в русской истории вы встретите своеобразное, территориальное и этнографическое самообразование областей путем колонизации»[28 - Щапов А. П. Общий взгляд на историю великорусского народа // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1926. Т. 33. Вып. 2–3. С. 13–14.].
Вместо истории государства на первый план была вынесена история народа, вместо идущих на смену друг другу столиц – области, стихийно образующиеся на всем пространстве Российской империи в процессе непрерывной колонизации. Собравшиеся на вступительную лекцию ощущали себя свидетелями рождавшейся буквально у них на глазах новой концепции русской истории, идущей вразрез с привычными представлениями. Не пройдет и года, как эта концепция без существенных изменений будет представлена на суд читателей петербургских «Отечественных записок», в щаповской статье «Великорусские области и Смутное время», а затем и в других его работах на страницах столичных периодических изданий. Сам их автор тоже окажется в Петербурге, хотя и не по собственной воле: он будет доставлен в Третье отделение в связи с участием в панихиде по погибшим во время Бездненского восстания крестьянам, а затем – до окончательного решения вопроса о его будущем – получит место в Министерстве внутренних дел.
В то же время в Петербурге обосновались Н. И. Костомаров и П. В. Павлов, преподававшие историю в университете и в училище правоведения соответственно, а также К. Н. Бестужев-Рюмин – сотрудник «Отечественных записок», регулярно помещавший там критические разборы новинок исторической литературы. Все они во многом совпадали с Щаповым в представлениях о том, какие задачи стоят перед исследователями русской истории и что нужно сделать для их достижения, – настолько, что это давало повод некоторым современникам видеть в их трудах, а также в работах некоторых московских ученых – таких, как Ф. И. Буслаев и Д. И. Иловайский – очертания наиболее перспективной концепции русского прошлого[29 - Григорьев А. А. [рец. на: ] Костомаров Н. И. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. СПб., 1863 // Время. 1863. № 1. С. 93; Бестужев-Рюмин К. Н. Сочинения К. Д. Кавелина. Статья I // Отечественные записки. 1860. № 4. С. 75–76; Бестужев-Рюмин К. Н. Философия истории и Московское государство // Отечественные записки. 1860. № 11. С. 8.]. «Провинциализму» – следам обособленной прежде жизни различных частей Российской империи – предлагалось в этой концепции уделить первостепенное значение. Хотя в вопросе о происхождении и границах самих этих частей между учеными были расхождения, характер связи между территориями все они были склонны именовать федеративным. Это повышенное сочувственное внимание к федерализму сближало их между собой и ставило особняком в глазах современников.
Примечательно, что к сходным взглядам эти исследователи пришли независимо друг от друга: они не были знакомы между собой до того, как в течение короткого временного отрезка – с 1859 по 1860 год – их первые работы в защиту недооцененной предшественниками истории областей нашли дорогу к публике. Однако едва ли не более озадачивает другое совпадение: всего через несколько лет каждый из них – кто-то резко и безоглядно, как Щапов, кто-то постепенно, как Костомаров, – свернул с намеченного пути, открывавшего, казалось, широкий простор для изучения истории регионов. При желании можно отыскать в их позднейших трудах отголоски прежних увлечений, но ни сами бывшие федералисты, ни другие историки, которые тогда считали себя их последователями, не поставили бы свою подпись под приведенными выше словами Щапова из вступительной лекции в Казанском университете.
Чем же, помимо выяснения места этой федералистской концепции в ряду сменявших друг друга в историографии теорий и парадигм, интересен сегодня этот недолгий опыт осмысления прошлого России как истории составивших ее частей? Наверное, наивно было бы ожидать, что ключ к решению злободневных проблем региональной истории может быть обретен в процессе чтения исторических трудов полуторавековой давности, даже если у федералистов той поры и встречаются идеи, созвучные тем, которые вдохновляют современных исследователей. Вместе с тем обращение к этому давнему опыту представляется поучительным хотя бы в силу того, что ни до, ни после федералистов начала 1860?х никто не пытался с такой решительностью противопоставить историю областей тому основополагающему взгляду, который готов отводить российским регионам лишь роль периферии, положение которой определяется в центре. Как же получилось, что «провинциализм» был вынесен на передний край исторического дискурса в России середины XIX века, и почему конструкции, где этот концепт служил краеугольным камнем, оказались столь недолговечны?
* * *
Первое, что обращает на себя внимание при рассмотрении выступлений защитников «провинциализма» в русской истории, – это их хронологическое совпадение с эпохой широкомасштабных преобразований, развернувшихся в начале царствования Александра II. Щапов, Костомаров и их единомышленники в этом вопросе впервые обратились к публике со словами о важности местной исторической жизни вскоре после того, как в печати стало возможным обсуждение предстоящей крестьянской реформы. Известия о польском восстании 1863–1864 годов, воспринятые правительством как сигнал к сворачиванию преобразований, прозвучали приговором для федеративных проектов, историческим обоснованием которых были поглощены упомянутые исследователи. Поэтому едва ли продуктивно рассматривать заявку федералистов на создание собственных исторических теорий в отрыве от дискурса Великих реформ с характерным для него противопоставлением новых принципов отжившей свой век рутине.
Все эти авторы, хотя и в разной степени, не были чужды публицистике, которую, судя по всему, считали подходящим местом презентации результатов своих научных изысканий. Современного исследователя не должны вводить в заблуждение названия статей того же Щапова, так похожие на монографии: «Великорусские области и Смутное время», «Земские соборы в XVII столетии. Собор 1642 года» и др. Так, свое намерение познакомить читателей с прошлым областей в XVII–XVIII веках он объяснял актуальностью «провинциализма, областного начала в исторической и современной жизни русского народа», а при описании деятельности Земских соборов не чурался использовать явные анахронизмы, когда обнаруживал в ней проявление «права общественного земского народосоветия» и «областной челобитной гласности»[30 - Щапов А. П. Великорусские области и смутное время // Щапов А. П. Сочинения. В 3 т. СПб.: Изд. М. В. Пирожкова, 1906. Т. 1. С. 653–654; Щапов А. П. Земские соборы в XVII столетии. Собор 1642 г. // Там же. Т. 1. С. 710.]. Такие приемы оправдывались, в частности, тем, что публикации федералистов адресовались широкой публике «толстых» журналов. Стоит ли удивляться, что некоторые их работы даже в этот относительно благоприятный с точки зрения цензурных условий период не были допущены к публикации.
С другой стороны, насколько бы Щапов и Костомаров, Павлов и Бестужев-Рюмин ни были вовлечены в идейную борьбу, сопровождавшую отмену крепостного права и другие преобразования начала 1860?х годов, содержание их научных работ невозможно редуцировать к отклику на публицистическую злобу дня. Как уже отмечалось в литературе, эти ученые сами были в первом ряду тех, кто формировал у публики запрос на федерализм и критику централизации[31 - Starr F. S. Decentralization and Self-Government in Russia, 1830–1870. Princeton: Princeton University Press, 1972. P. 90–106.]. Точно так же упрощением была бы и попытка объяснить прекращение поисков федеративного начала в российском прошлом исключительно давлением извне.
Пометы цензоров на сохранившейся в фонде цензурного ведомства корректуре щаповской статьи «Областные земские собрания и советы» свидетельствуют о том, что нарекания у них вызывала не интерпретация областной истории в федеративном ключе, а критика существующих порядков и рекомендации по их усовершенствованию, которые нередко приобретали характер прямой агитации в пользу «необходимости ближайшего, непосредственно-местного дознавания и представительства народных нужд»[32 - РГИА. Ф. 777. Оп. 26. Д. 69. Л. 4.]. Не похоже, чтобы и министр внутренних дел П. А. Валуев, усматривавший в текстах своего подчиненного пугачевщину, разумел под ней обращение к местной истории до московской централизации или провинциальные сюжеты более поздних времен[33 - Валуев П. А. Дневник министра внутренних дел. В 2 т. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 1: 1861–1864. С. 138.]. Иначе говоря, политический радикализм, присущий некоторым из выступлений федералистов, не было основания воспринимать как неизбежное следствие их исследовательской программы. Более того, погружение в прошедшую жизнь областей, к которому они так горячо призывали на рубеже 1850–60?х годов, могло помочь им обрести своего рода убежище в тот момент, когда выяснилось, что о скором наступлении для России федеративного будущего нечего было и думать. Тем не менее этого погружения не произошло: по мере того как перспективы федерализма становились все более туманными, каждый из них в поисках новых тем для своих исследований все дальше отходил от решения исторической проблемы регионального прошлого.
Такое одновременное разочарование в научной привлекательности проблемы «провинциализма» в условиях сворачивания реформ нельзя, очевидно, объяснить простым совпадением. Утверждение в публичном пространстве риторики сильного политического центра, преодолевшего собственный кризис, – неважно в данном случае, насколько она соответствовала истинному положению вещей, – не могло не способствовать определенной девальвации ценности областной истории, которая изначально предлагалась как альтернатива «централизации». Однако только обращение к самому дискурсу федералистов, как представляется, позволит выяснить, почему эта девальвация в данном случае оказалась столь стремительной и необратимой.
Каков бы ни был общественный резонанс работ авторов, не скрывавших своих симпатий к федерализму в российском прошлом и будущем, острие их критики было направлено против учения наиболее авторитетной в те годы «новой исторической школы», к которой причисляли к исходу 1850?х годов С. М. Соловьева, К. Д. Кавелина, Б. Н. Чичерина и их последователей. Именно их труды имелись в виду в первую очередь Щаповым, Костомаровым и Бестужевым-Рюминым, когда те уличали предшествовавшую и современную им российскую историографию в игнорировании начала провинциализма и областности. Выбор этой мишени был предопределен всей логикой историографической ситуации. Доминирование в исторической литературе в середине XIX века во многом, если не во всем, обусловливалось тем, насколько убедительно автору удавалось представить «начала» – элементы, развитием которых можно было объяснить ход русской истории. Первые же строки одного из ранних манифестов «новой исторической школы» – рецензии Кавелина на докторскую диссертацию Соловьева 1847 года – не оставляли сомнений по поводу того, какое место среди этих элементов было отведено у них областной истории: «Вся русская история, как древняя, так и новая, есть по преимуществу государственная, политическая (курсив К. Д. Кавелина. – Прим. авт.), в одном, нам одним свойственном значении этого слова. Областная, провинциальная жизнь еще не успела сложиться, когда стало зачинаться и расти государство… Конечно, нет христианской страны, где оно принесло бы себе столько жертв; нет новой истории, которая бы представляла такое целостное поглощение провинциализма государственными интересами. Во всем этом давно уже согласились знатоки русской истории»[34 - Кавелин К. Д. [рец. на: ] Соловьев С. М. История отношений между князьями Рюрикова дома. М., 1847 // Кавелин К. Д. Сочинения. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1897. Стб. 277.].
Опровергнуть это авторитетное мнение значило совершить переворот в историографии в свою пользу. В наиболее эксплицитном виде критика «новой исторической школы» представлена у А. П. Щапова, который свои выступления перед казанской студенческой аудиторией и в петербургской печати начинал почти одними и теми же словами, подчеркивающими несоответствие между действительным содержанием русского исторического процесса и «идеей централизации», которая «доселе господствовала в изложении русской истории»: «У нас доселе господствовала в изложении русской истории идея централизации, развилось даже какое-то чрезмерное стремление к обобщению, к систематизации разнообразной областной истории; все разнообразные особенности, направления и факты провинциальной исторической жизни подводились под одну идею государственного развития… Местное саморазвитие, внутренняя жизнь областей оставляются в стороне, а вместо того на первом плане рисуются действия государственности, развитие единодержавия, централизации»[35 - Щапов А. П. Общий взгляд на историю великорусского народа. С. 12; Он же. Великорусские области и Смутное время. С. 648.].
Олицетворением этого неприемлемого для Щапова подхода является Соловьев, история которого, «несмотря на все огромное научное значение ее, больше – биография царей и князей, а не всецелая биография или история народа»[36 - Он же. Общий взгляд на историю великорусского народа // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1926. Т. 33. Вып. 2–3. С. 17.]. В другом месте он дает понять, что причины неудовлетворительности той точки зрения, согласно которой провинциализм был всецело поглощен государственным строительством, для него лежат далеко не только в теоретической плоскости: «Пусть кабинетная, сухая, черствая, подчас даже бессердечно-холодная отвлеченность рассуждает об абстрактной государственной идее, и глумится над идеей живого народа, а обращаясь к действительному государственному положению наших провинциальных общин, проверя лично, самоопытно, собственным наблюдением действительный, жалкий быт, действительные нужды огромных масс провинциального народонаселения хоть в немногих областных, особенно украинных пунктах империи – и в русских, и в инородческих местностях – мы все-таки никак не можем помирить живого горя-злосчастья народного с безжизненно-абстрактной, кабинетной государственной (курсив А. П. Щапова. – Прим. авт.) идеей!»[37 - Щапов А. П. Областные земские собрания и советы // Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 году. СПб.: Тип. Морского министерства, 1862. Т. 1. С. 31–32.]
Костомаров был более сдержан в своих критических выступлениях в адрес «новой исторической школы», но и он с явным неодобрением говорил о том периоде в развитии русской исторической науки, когда она заключила себя «в сфере государственности, считая массы народных поколений, пережившие столетия, не более как материалом для выражения государственных начал»[38 - Костомаров Н. И. О значении критических трудов Константина Аксакова по русской истории. СПб.: Тип. Н. Тиблена и комп., 1861. С. 4.]. В характеристике многотомного труда Соловьева, который, по его словам, «во всей истории своей стоит на государственной точке зрения, и народная жизнь является у него не главным предметом, а как бы дополнением к государственной»[39 - Там же. С. 28.], Костомаров чуть ли не буквально совпадает с Щаповым, по-видимому, даже не подозревая об этом в тот момент.
Отношение Павлова к идеям Кавелина и Соловьева было более сложным, поскольку поначалу этот историк, по его собственному признанию, разделял их. Со временем, однако, торжество государственного начала в московскую эпоху перестало восприниматься им как безусловное благо. Среди потерь, о которых стоило сожалеть, Павлов называл и «областную самостоятельность», процветавшую на Руси в XI–XIII веках и угасшую не в силу внутренней несостоятельности, как было принято думать, а из?за внешних неблагоприятных обстоятельств[40 - Павлов П. В. О некоторых земских соборах XVI и XVII столетий // Отечественные записки. 1859. № 3. С. 151.]. В очерке, посвященном тысячелетию России (1862), одной из двух попыток «серьезного понимания Русской истории» он называл «теорию государственной централизации», в характеристике которой нетрудно узнать построения Соловьева и Кавелина. Стремясь дать сбалансированную оценку этой теории, Павлов отмечал как ее заслуги перед наукой, которые он видел в постановке вопросов о родовом быте и о централизации, в признании благотворного влияния на русское общество западной цивилизации в XVIII и XIX веках и в поисках прогресса в русской исторической жизни, так и недостатки. Главным из числа последних он считал то, что эта теория «до чрезмерности возвышает начало централизации за счет принципа федеративности»[41 - Он же. Тысячелетие России // Месяцеслов на 1862 год. СПб., [1861]. С. 4–5.], – несомненно, с этим упреком охотно согласились бы и Костомаров, и Щапов.
Сходным образом на рубеже 1850–60?х годов поменял свое отношение к наследию Соловьева и Кавелина Бестужев-Рюмин, чьи научные интересы сформировались в Московском университете под непосредственным влиянием этих профессоров. Если еще в 1858 году продолжающие выходить тома соловьевской «Истории России с древнейших времен» трактовались им как «полная победа того направления, которое… пойдет дальше, и со временем многие эпохи русской истории будут понимаемы совсем не так, как их теперь понимают»[42 - К. Б. Р. [Бестужев-Рюмин К. Н.] [рец. на: ] Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1858. Т. 8. // Отечественные записки. 1858. № 8. С. 55.], то спустя два года он решительно отказывался видеть в трудах представителей «новой исторической школы» последнее слово в историографии.
Поводом высказать накопившиеся претензии в адрес своих бывших университетских наставников и их последователей стала для Бестужева состоявшаяся в 1859 году публикация собрания сочинений К. Д. Кавелина. Критическому анализу этого четырехтомника он посвятил три статьи. Здесь время господства школы, «корифеем которой считается г. Кавелин», однозначно отнесено к прошлому, и поэтому автору представляется уместным ставить вопрос о полной критической оценке ее деятельности, об «указании ее заслуг и увлечений». Помимо видимости нейтралитета, которая обеспечивалась такой позицией критика, сама постановка этого вопроса имплицитно предполагала исчерпанность подходов «новой исторической школы», убежденность в том, что своими силами ей не преодолеть собственные недостатки. Одним из наиболее уязвимых мест критикуемого учения Бестужев-Рюмин считал преувеличение в нем роли государства в русской истории с момента возвышения Москвы[43 - Бестужев-Рюмин К. Н. Сочинения К. Д. Кавелина. Статья I // Отечественные записки. 1860. № 4. С. 75–76, 83.]. Не осталась без возражения и приводившаяся выше кавелинская фраза 1848 года о преимущественно государственном, политическом характере русской истории и не успевшей сложиться в России областной жизни: особую важность Бестужев придает тому обстоятельству, что «мы начинаем понимать, как неполны и неточны уверения, будто у нас не было провинциализма. Существование местных особенностей, неистребленных даже крутыми мерами „собирателей русской земли“, свидетельствует, что местности имеют более значения в русской истории, чем можно было бы предположить»[44 - Он же. Сочинения К. Д. Кавелина. Статья II // Отечественные записки. 1860. № 5. С. 23.].
Едва ли стоит удивляться тому, что, когда другой обозреватель того же собрания сочинений, историк права Ф. М. Дмитриев, осмелился утверждать незыблемость приговора, когда-то вынесенного Кавелиным в отношении местной исторической жизни[45 - Дмитриев Ф. М. [рец. на: ] Сочинения Кавелина. М., 1859. В 4 ч. // Московские ведомости. 1860. № 185. С. 1464.], Бестужев-Рюмин не замедлил вступить с ним в полемику. В отличие от оппонента, он выражал сомнения в благодетельности для русской жизни политики московских князей, избивавших целые города и «тасовавших… народонаселение, как колоду карт: из Новгорода в Нижний, из Нижнего в Новгород»[46 - Бестужев-Рюмин К. Н. [рец. на: ] Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1851–1859. Т. 1–9; СПб., 1860. Т. 10 // Отечественные записки. 1860. № 9. С. 6–9.]. Не был он уверен и в том, что предполагаемый мотив этих действий, «общий государственный интерес, о котором говорит г. Дмитриев, не есть плод позднейшего историко-философского отвлечения»[47 - Он же. Философия истории и Московское государство // Отечественные записки. 1860. № 11. С. 8–9.]. Иначе говоря, по мнению критика, московская централизация обрела смысл и оправдание у Кавелина и его единомышленников лишь в свете учения Гегеля, и эта телеология решительным образом исказила историческую перспективу, в которой следовало бы рассматривать процесс «собирания русских земель».
Один из эпизодов этой полемики, когда на сетования Дмитриева, что Бестужев в своей критике проявляет знакомство «разве только с исторической литературой и не делает никаких исследований»[48 - Дмитриев Ф. М. Ответ г. Бестужеву-Рюмину // Московские ведомости. 1860. № 209. С. 1657.], тот отвечал, что он как журналист и «не обязан непременно, в замен теории, которую находит неудовлетворительною, представить что-нибудь более дельное»[49 - Бестужев-Рюмин К. Н. Философия истории и Московское государство // Отечественные записки. 1860. № 11. С. 1–2.], как будто содержит намек на важный для федералистов источник недовольства сложившимся положением вещей в историографии. Бестужев-Рюмин, который, провалив магистерский экзамен, вместо преподавания в родном Московском университете был вынужден заняться журналистским трудом; Щапов и Павлов, чья ученая карьера протекала вдалеке от столиц; наконец, Костомаров, надолго отлученный от науки во время саратовской ссылки: для каждого из них ресентимент был вполне ожидаемой реакцией на собственное приниженное, если не маргинальное положение в существующей академической иерархии с ее четко выраженными центрами в Москве и Петербурге. Не этот ли ресентимент провинциалов объясняет, почему под прицелом их критики оказались труды тех, чьи привилегированные научные позиции были так прочно увязаны с апологией политической централизации в прошлом?