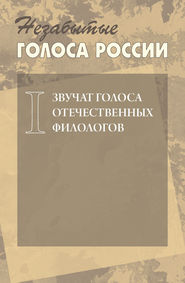скачать книгу бесплатно
Как я уже говорил, когда драматург уже вне классицизма и может перед ним встать такая же задача, когда он должен изображать, такое может быть и у современных драматургов, какой-то конфликт такого типа, то он инстинктивно, не думая ни о каком классицизме, будет тому следовать. Один пример ? это «Горе от ума» Грибоедова. Конечно, вы скажете, что там все происходит в одной квартире и происходит в один день, и уж, тем более, там единство действия. Вы скажете, что пережитки классицизма довлели над ним, тяготел он к классицизму. Ну, хорошо, тогда возьмем другое. «Ревизор» Гоголя. О «Ревизоре» я в следующий раз буду. А «Горе от ума» я вам напомню. Высокохудожественно построено по этим правилам трех единств. Ну, скажите, пожалуйста, начинаем с чего там, в чем конфликт? Вот существует Москва, московское общество. Это Фамусов, Скалозуб и Софья, которая воспитана этим обществом. И существует совершенно другая идеология, другой подход к жизни ? это единственный человек во всей пьесе ? это Чацкий. Он падает просто как ракета с неба туда, в это самое общество. И что же нам интересно, чтобы посмотреть, как он, верный, приехал из-за границы, разбирает свои вещи, чемоданы, вспоминает о Софье, колеблется – нужен ли ей? Это неинтересно, совершенно не это интересно. Или показать, как дошел до жизни такой Фамусов, показать его, как он в молодости был таким-то. Это все может и интересно. Это уже будут в середине XIX века или в конце XIX века. А тут нет, что такое фамусовское общество – все зрители знают, они сами участвуют в этом. Что такое вот этот самый, прилетевший откуда-то из-за границы, они слышали уже о таких, видели таких молодых людей. И вот это происходит: он является туда, и действительно происходит взрыв, и зачем же растягивать это надолго, довольно одного дня. А ведь результат какой! Он обратно улетает: «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок!», «Искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок…» Молчалина теперь выгонят, потому что осрамили Софью. Софью к тетке «в глушь, в Саратов». Лиза, ее, значит, в свинарницы сошлют. А Фамусов хватается за голову: «Боже мой! Что будет говорить княгиня Марья Алексевна!». Вся его репутация потеряна. Вот это самое, это образец. Эта задача была Грибоедовым выполнена по строгим правилам трех единств. А попробуйте-ка их изменить, предложить ему: «Ты прими это или перемени, переведи в другое место! А еще расскажи, там намек-то есть: «А как не полюбить буфетчика Петрушу!». Вот там и Петруша «вечно ты с обновкой», может, и это побочное действие? Так это вы смеетесь, потому что это испортить всю пьесу. Такие пьесы были все пьесы классицизма. Всякого рода отступления от этих правил испортят всю пьесу.
В. В. Виноградов
РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ ПОЭТИКИ И СТИЛИСТИКИ В 20–30-е ГОДЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ИРЯ АН СССР 28 МАРТА 1967 г.
В прошлый раз Виктор Давыдович Левин задал мне такой вопрос: «Что же, так не было никаких конфликтов, столкновений, хотя они, может быть, в какой-то степени нашли отражение даже в печатной продукции наших, ленинградских филологов двадцатых годов?». Что на это я мог бы сказать… Борис Михайлович Эйхенбаум в одной из своих книжек, которые он мне подарил, написал такие стихи:
Враги былые, мы состарились и стихли.
Не так уж важно: проза, драма, стих ли.
Живем не столь идеей, сколько сбытом;
Вы языком питаетесь, я – бытом.
То есть он говорил о том, что он в это время занимался вопросами литературного быта. Так вот, это стихи, правда, в другой книжке, он написал – по-моему, чересчур пышно – о наших отношениях в истории литературы. Вот я и хотел бы подчеркнуть и с этого и начать беседу, что он писал в тридцатых годах, когда еще мы все-таки не так и состарились, «не так уж важно: проза, драма, стих ли». А тогда эти вопросы в первое время для нас были основными. Это и то, что часто разделяло нас. В самом деле, вы просто представьте себе обстановку конца десятых, потому что это уже конец десятых годов и начало двадцатых годов нашего столетия. Академическая наука, то есть та филология, которая преподается, излагается на университетских кафедрах (а между тем, мы могли получать, может быть, даже не меньше зарубежных книг, чем в настоящее время), нас она не удовлетворяет, особенно после ухода, отъез да Бодуэна де Куртенэ и смерти Шахматова. А почему? Потому что, казалось нам, что преподается нам не тот предмет, которым мы хотели бы заниматься. Не тот предмет – почему? Потому что преподавание языковедческих дисциплин свелось, главным образом, к изложению грамматической, шаблонной, стандартной схемы с историческими иллюстрациями или, поскольку эта сторона была самой сильной, к изложению исторической фонетики. Даже в тех случаях, когда был отход от этих традиций и когда ставились проблемы синтаксиса (после Шахматова иногда это бывало), такого изложения синтаксиса, которое давало бы историческую перспективу и было бы связано с разрешением вопросов изучения движения самих, скажем, синтаксических форм в пределах художественных произведений, литературных произведений разных типов, – для этого материала не было. В истории литературы и Шляпкин, профессор, занимавший тогда кафедру, и Дмитрий Иванович Абрамович, и, временно, Кадлубовский, который тогда прикреплен был к Ленинградскому (или Петроградскому) университету и который больше известен тем, что по его имени сформировалось отчество Леонида Арсеньевича Булаховского, которому он был крестным отцом. Кадлубовский занимался житиями святых, но тоже в плане, скорее, такого, культурно-исторического и, отчасти, религиозно-мистического обзора. Но я не буду давать полную картину. Это все-таки нас не удовлетворяло. Нас привлекали иногда случайные, уезжавшие потом за границу преподаватели и доценты университета, скажем, Боткин, который занимался изложением теории Фосслера и критиковал ее, применительно к романской филологии, к романскому материалу, и так далее. Это все можно было делать, потому что в университете ведь не было обязательного посещения тех или иных лекций. Каждый выбирал то, что ему нравилось. Привлекали курсы историков, очень интересные. И Данилевского [А. С. Лаппо-Данилевского. ? Прим. ред.], и академика Платонова, и Середонина с его исторической географией, и так далее, и так далее. Но в пределах своей специальности мы все-таки не находили полного удовлетворения для тех новых задач, которые перед нами возникали в процессе более широкого ознакомления и с языковым, и с литературным материалом. А как я уже сказал и в прошлый раз, ознакомление с этим материалом было обязательно. Почему? Потому что и те, кто были оставлены при университете и готовились к магистрантскому экзамену, дававшему право на чтение лекций в университете, занимались не только языковедческими дисциплинами, но параллельно и самостоятельным исследованием целого ряда литературоведческих тем. И вот первый вопрос был такой, что самый предмет истории литературы пока еще не определен в полном смысле этого слова. Это говорили даже непосредственные ученики академика Веселовского, традиции которого были сильны в университете, но они все-таки сосредоточились в отдельных личностях, потому что академик Веселовский вообще считал, что задача университетского руководителя состоит в том, чтобы отобрать себе наиболее талантливых учеников. Он никогда не рассчитывал на широкую аудиторию. И первые его лекции были настолько сложны, что после них оставалось, как мне говорили (сам я не слушал никогда лекций Веселовского, но мне говорил Владимир Федорович Шишмарев), не больше десятка студентов, с которыми он продолжал дальнейшую работу, затем уже переходя, так сказать, на то, что тогда называлось privatissimo, то есть на домашние занятия; читались лекции уже на дому, где он свободно из своей библиотеки мог иллюстрировать свои лекции и непосредственным разбором, анализом текстов, и все это у него было под рукою. Чем мы хотели заниматься? Мы хотели выяснить специфику самой художественной литературы. В чем состояла эта специфика? Вот возникло еще во внеуниверситетских кругах противопоставление поэтического языка языку практическому. Говорилось так: противопоставление системы поэтического языка системе практического языка. Это то, на что опиралось такое собрание людей, которое получило название (и затем они сами дали себе это название) «Общество изучения поэтического языка»
. Это был довольно пестрый состав людей, среди которых большим филологическим образованием обладал только Лев Петрович Якубинскиий. Ну, система поэтического языка и система практического языка, это, значит, должно было разрабатываться. Но вот дальше перед нами возник вопрос, и это первый вопрос: что такое поэтический язык? Определение не было найдено, были очень неясные, я хотел даже процитировать несколько таких определений. Говорилось о том, что поэтический язык – это установка на выражение, что здесь самые структурные функции очень важны, но при этом все-таки это было довольно уклончивое определение. Вот, Якубинский писал, что если говорящий пользуется своим языковым материалом с чисто практической целью общения, то мы имеем дело с системой практического языка, в которой языковые представления (это психологическая такая терминология, а потом начнется борьба с психологизмом), звуки, морфологические части и прочее самостоятельной ценности не имеют и являются лишь средством общения. Значит, язык выполняет чисто коммуникативную функцию, ну, если хотите, несет какую-то информацию. Но мыслимые существуют и другие языковые системы, в которых практическая цель отступает на задний план, и языковые сочетания приобретают самоценность. Ему вторит Якобсон: «поэзия управляется имманентными законами», – пишет Якобсон
. Функции коммуникативные присущи как языку практическому, так и языку эмоциональному (потому что он еще эмоциональный язык выдви гает). Значит, вот этот дуэт практического и поэтического здесь сводится к минимуму. Так как минимум определить? Поэзия индифферентна к предмету высказывания. Поэзия есть и оформление самоценного, самовитого, как говорит Хлебников, слова. Дальше, естественно, возникал целый ряд вопросов, на которые мы, собственно, нигде не могли найти непосредственного ответа. Почему? Все бросились совсем в другую сторону, изучали трактаты по эстетике: «Философия искусства» Христиансена
, «Эстетика» Гамана
, Мюллер-Фрейенфельс тогда был переиздан, издан в переводе с предисловием Белецкого
и т. д., и другие трактаты соответствующие, они не давали никаких образцов. Легче, конечно, изучать явления эвфонические, т. е. легче изучать стих. Но является ли стих исчерпывающим воплощением поэтического языка? Вопрос сразу получал противоречивые ответы. Противоречивые ответы в двух планах. Прежде всего, естественно, возникал вопрос: «А проза художественная, она же исклю чается из пределов поэтического?». А с другой стороны, все ли стихи, всю ли стихотворную речь можно отнести к поэзии? Я должен об этом сказать прежде всего, потому что этим определяется часть выбора самого предмета изучения. Сразу возникла проблема Некрасова, которая очень остро была поставлена и в работах Эйхенбаума, и в работах Тынянова, и в работах целого ряда других исследователей, вот Шимкевич такой был. Он писал даже целую работу «Некрасов и Пушкин»
. Почему? Потому что вы знаете, что современники Некрасова, многие, начиная с Тургенева, они не считали стихи Некрасова поэтическими. Для этого не нужно даже большого количества примеров, надо знать, что Тургенев прямо заявлял, что поэзия тут и не ночевала. Андреевский
в своих критических статьях, которые имели в свое время очень большое распространение, прямо так и давал сначала почти буквальное изложение прозой стихов Некрасова, например, из «Русских женщин» он приводил пример: «Старик говорит: ты о нас-то подумай, ведь мы тебе не чужие люди. И отца, и мать, и дитя, наконец, ты всех нас безрассудно бросаешь. За что же?
– Отец, я исполню закон.
– Но за что ж ты обрекаешь себя на муку?
– Я там не буду мучиться. Здесь ждет меня более страшная мука. Да ведь, если я, послушная вам, останусь, меня разлука растерзает. Не зная покоя ни днем, ни ночью, рыдая над сироткой, я все буду думать о моем муже да слушать его кроткий упрек».
А потом рядом с этим приводились стихи Некрасова:
Старик говорил: «Ты подумай о нас,
Мы люди тебе не чужие:
И мать, и отца, и дитя, наконец, —
Ты всех безрассудно бросаешь,
За что же?» – Я долг исполняю, отец!
«За что ты себя обрекаешь
На муку?» – Не буду я мучиться там!
Здесь ждет меня страшная мука… и так далее.
Получалось вообще, что разницы никакой нет, и, естественно, возникал вопрос, почему Пушкин пишет, скажем, «Бесы», и там: «Мчатся тучи, вьются тучи…», а Некрасов пишет:
И откуда черт приводит эти мысли? Бороню,
Управляющий подходит, низко голову клоню,
Поглядеть в глаза не смею, да и он-то не глядит,
Знай накладывает в шею. Шея, веришь ли, трещит.
Сопоставляете, с одной стороны, стихи, тот же самый ритм и так далее, тот же размер, он уже воплощается, наполняется другой лексикой и пр. Значит, возникает проблема поэзии: всегда ли стихотворная речь и только ли стихотворная речь может служить средством для изучения поэтических категорий, категории поэтического? Это с одной стороны, а с другой стороны, естественно, возникает вопрос: а что же делать с художественной прозой? Конечно, стихотворную речь легче изучать, и с нее, в общем, и началось изучение поэтического языка. Вот тогда возникли другие проблемы, в первую очередь – что можно изучать? Можно изучать звуковой строй, эвфонию, как будто имеющую специфическое качество для поэтической речи. Изучать ритмику, метрику, мелодику лирического стиха. Вот в эту сторону, так сказать, и направилось изучение, но это, конечно, не могло еще разрешить проблемы поэтического в целом. Почему? Потому что здесь, естественно, возникал вопрос: все-таки как изучать средства? Изучать их в чем? В стихотворении? Т. е. в каком-то, как тогда принято было выражаться, целостном эстетическом объекте? А внутреннее единство к чему приводит? К пониманию чего? Какого-то переживания или, все-таки, внутренней какой-то сущности? Или оно будет все время скользить по поверхности? Это одна сторона, а другая сторона, естественно, возникала в отношении изучения прозы. Появляется целый ряд работ о Пушкине, о его пути от поэзии к прозе. И делаются заявления, что проза и стих – это понятия соотносительные. Вот, я вам приведу еще одну цитату, в этом отношении очень характерную, которая как будто даже не к месту. Это я беру цитату, эту из книги Бориса Михайловича Эйхенбаума «Молодой Толстой». Толстой начинает писать стихи, потому что думает, что, занимаясь упражнением в стихах, он лучше будет писать затем прозаические произведения. Вот что пишет Толстой в своем дневнике: «Ездил верхом и приехавши читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я думал, что это мне будет очень полезно для образования слога». (Интересно, что тем же занимался Руссо, как видно из его исповеди: «Иногда я писал посредственные стихи. Это довольно хорошее упражнение для развития изящных инверсий и для усовершенствования прозы».) Теперь по этому вопросу начинает рассуждать уже Борис Михайлович Эйхенбаум, рассуждает он так: «Проза и стих – отчасти враждебные друг к другу формы, так что период развития прозы обычно совпадает с упадком стиха. В переходные эпохи проза заимствует некоторые приемы стихотворного языка, образуется особая музыкальная проза, связь которой со стихом еще заметна. Так у Шатобриана, так у Тургенева (недаром он начал со стихов). Потом эта связь пропадает – воцаряется самостоятельная проза, по отношению к которой стих занимает положение служебное, подчиненное»
.
В. В. Виноградов
БЕРЕГИТЕ РОДНОЙ ЯЗЫК
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАДИО
«Надо вдумываться в речь, в слова, – говорил Чехов. – Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, хорошей музыке». Чтобы воспитательная работа в области культуры русской речи была действенной и плодотворной, надо определить, с чем бороться, что признать языковыми ошибками и неправильностями, типичными для современности, и главное – надо выделить именно ходовое, типичное, а не развлекаться анекдотами, уродствами индивидуального словоупотребления. Не претендуя на исчерпывающую полноту, можно распределить трудности и неправильности, широко распространенные в современной русской речи, по нескольким группам, или категориям.
Во-первых, самая сложная и разнообразная по составу – группа небрежностей и «неправильностей» в речи, вызванная недостаточным знанием стилистических своеобразий или смысловых оттенков разных выражений и конструкций, а также правил сочетаемости слов. Тут, прежде всего, выделяются случаи нарушения или неоправданного разрушения старых устойчивых словосочетаний и неудачного образования новых. Например, в разговорной речи львиная часть вместо львиная доля, играть значение вместо играть роль или иметь значение; одержать успехи вместо добиться успехов или одержать победу; носить значение вместо носить характер или иметь значение и тому подобное.
Во-вторых, к границам разговорной литературной речи приблизились и иногда беспорядочно врываются в сферу литературного выражения слова и обороты областного или грубого просторечия ложить вместо класть, обратно вместо опять ? обратно дождь пошел; крайний вместо последний; взади вместо сзади; заместо вместо вместо и так далее.
Третье. Еще одно явление в жизни современного русского языка, особенно в разговорной речи, вызывающее у многих тревогу и беспокойство, – это широкое и усиленное употребление своеобразных вульгарных, а иногда и подчеркнуто манерных жаргонизмов. От них веет и специфическим духом пошлого мещанства, и налетом буржуазной безвкусицы. Таковы выражения оторвать вместо достать, приобрести – оторвать туфли с модерными каблуками; что надо, сила в смысле ‘замечательный’; звякнуть по телефону; законно, законный для обозначения положительной оценки; газует в смысле ‘бежит’; категорический привет и даже приветствую вас категорически вместо здравствуйте; дико в значении ‘очень’ – дико интересно; хата вместо квартира и тому подобное. Всех, кто ратует за чистоту русского языка, особенно смущает и возмущает распространение этого вульгарно-жаргонного речевого стиля. Многие готовы квалифицировать его, и вполне справедливо, как осквернение языка Пушкина, Толстого, Горького и Маяковского.
Четвертое. Не менее тяжелым препятствием для свободного развития выразительных стилей современного русского литературного языка является чрезмерное возрастание у нас употребления шаблонной канцелярской речи, ее штампованных формул и конструкций. В этой связи нельзя не вспомнить об ироническом отношении Владимира Ильича Ленина к «канцелярскому стилю с периодами в тридцать шесть строк и с “речениями”, от которых больно становится за родную русскую речь». Жалобы на засилье штампов, канцелярско-ведомственной речи в разных сферах общественной жизни раздаются со всех сторон. Неуместное употребление казенно-канцелярских трафаретов высмеял писатель Павел Нилин в своих «Заметках о языке»:
«В дверь кабинета председателя районного исполкома просовывается испуганное лицо.
– Вам что? – спрашивает председатель.
– Я к вам в отношении налога…
Через некоторое время в кабинет заглядывает другая голова.
– А у вас что? – отрывается от всех бумаг председатель.
– Я хотел поговорить в части сена…
– А вы по какому вопросу? – спрашивает председатель третьего посетителя.
– Я по вопросу собаки, в отношении штрафа за собаку. И тоже в части сена, как они».
Пятое. Естественно, что отсутствие прочных и точных литературных языковых навыков, влияние областного говора и просторечия особенно часто обнаруживаются в произношении, в воспроизведении звуковой формы слов. Сюда относятся и колебания в ударении, а часто – и просто нелитературные ударения в отдельных словах как разговорного, так и книжного происхождения, и в их формах: средства вместо средства; общества вместо общества; облегчить вместо облегчить; документ вместо документ; ходатайствовать вместо ходатайствовать.
Можно закончить эту краткую беседу о русском языке и о некоторых неправильностях в его современном употреблении теми же словами, которыми закончил свою статью о любви к русскому языку покойный советский поэт Владимир Луговской: «Относитесь к родному языку бережно и любовно, думайте о нем, изучайте его, страстно любите его, и вам откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка».
Т. Г. Винокур
УШАКОВСКИЕ МАЛЬЧИКИ
БЕСЕДА С М. В. КИТАЙГОРОДСКОЙ, Н. Н. РОЗАНОВОЙ И Л. К. ЧЕЛЬЦОВОЙ
Я рассказывала, как каждый вечер собирались ушаковские мальчики. Что такое «ушаковские мальчики»? Конечно, не только они собирались, и не только именно вот мальчики; мальчики эти были, как говорил папа в сорок втором году, когда умер Дмитрий Николаевич [Ушаков. – Прим. ред.] и было заседание, посвященное его смерти; публикация была потом, стенограмма; он говорил: «Мы уже все старые, лысые, мы уже все больные, мы все невоеннообязанные», – вот это мальчики. Так что мальчики, конечно, здесь условно…
Собирались все авторы словаря, коллектив словаря
, и еще приходили другие люди, которые тоже, – так или иначе, были ушаковские мальчики, не знаю. То есть, скажем, Абрам Борисович Шапиро, который никакого отношения к мальчикам словарным не имел, но он тоже был учеником Дмитрия Николаевича и тоже он принадлежал к этой среде, и очень многие другие люди. Потом уже, позже, Высотский приходил, и Панов отчасти, и так далее; все было.
Это был такой длинный-длинный большой стол… Была столовая. Столовая была, собственно говоря, очень большая комната, но казалась маленькой из-за того, что ее занимал стол, длинный, длинный стол. Угощение было самое скромное, почти что символическое; но все-таки всегда что-то было. Не нужно забывать, что это были годы изобилия. Тридцать девятый год, вы понять не можете, что это такое было, как тогда было в магазинах, почти как в супермаркетах в вашей – и в нашей – Америке.
Это было довольно смешно, потому что мама говорила: иди в диетический, купи то-то, то-то, то-то, то-то; я шла-приносила огромное количество всяких продуктов… Она говорила: «Почему ты купила ранет? Папа ранет не любит, а любит бельфлер», – яблоки. Это вам не понять, гол?бки мои. Но все равно, угощение было очень скромное, потому что, в общем… жили они очень скромно и внешнему никакого значения не придавали, но все-таки Александра Николаевна [Ушакова. – Прим. ред.][11 - А. Н. Ушакова – жена Д. Н. Ушакова.], хотя она говорила сама, что она плохая хозяйка, но она всегда что-то или пекла, или было какое-то печенье, в общем, что-то было, бутерброды, чай... Никогда никакого спиртного. Тогда вообще не считалось даже не то что пристойным, а просто не было такого узуса – никакого не было спиртного. Люди приходили друг к другу, и угощение было – стакан чаю, с чем-то к чаю: печеньем там, домашним или покупным, это, в общем, не играло роли; и я, между прочим, помню, как – уже это было, году, наверное… Когда же? До – наверное, в сорок девятом? Да, когда Костя Богатырев вернулся из Германии, он рассказывал мне, как его позвали в гости – к его будущей жене: «Представляете? Я пришел в гости, подают чай. Кто, – говорит, – подает теперь чай?!». То есть, без бутылки вина – потом – ведь правда, после войны... Это считалось просто – просто оскорбление. А тогда, наоборот, тогда не было, и я очень хорошо помню, как к папе приходили гости; какие гости, вы знаете, я вам рассказывала, что гости все моей младшей сестрой назывались «студенты-аспиланты», потому что она ничего здесь не понимала; говорила, что «из всех папиных аспилантов я больсе всего люблю Усакова»; все были только такие – и то – подавался, значит, меня посылали, там – потом, когда я была старше, то мама заносила поднос, на котором в подстаканниках обязательно, непременно совершенно, подстаканник-стакан, чашки не подавались, чай, крепко заваренный, душистый, хороший, и какие-нибудь… даже не бутерброды, обычно какое-то печенье…
Но у папы были такие индивидуальные приемы, либо к нему приходили студенты заниматься, аспиранты; тогда это был вообще другой совершенно стиль; в столовой просто занимались за круглым столом, читали рукописи, либо приходили аспиранты поодиночке, их обязательно кормили-поили чем-нибудь, чаем угощали, это у папы в кабинете было, а у Дмитрия Николаевича была вот такая система, так сказать, вечеров этих; причем разговорам таким, гостевым, хаотическим, меньше всего уделялось тогда; конечно, это было, без этого не существует наше общение, – но обычно бывали дела. Дела бывали, с одной стороны, словарные; хотя я говорю, что далеко не всегда были словарные люди там; и обычно бывало так, что папа шел с каким-то материалом туда: сейчас бы мы сказали «наработали», да? Мы говорим «наработать»; то, что они делали за день. Причем первую половину дня обычно – одно время так было, то папа ходил к Виноградову, то Виноградов ходил... Да, то, что они сделали вот за день; значит, в первую половину дня, вообще; в первой половине дня работали или отдельно, или вдвоем. И был период – первый том – когда, например, папа работал с Виноградовым. И он работал, значит; ну, приходил, или Виноградов к нам, это когда я совсем маленькая была еще, или папа ходил к Виноградову; хотя у Виноградова был совершенно роскошнейший кабинет, элегантнейший, он такой пижон был, а у нас было поскромнее, одни книжки, но тем не менее… И я вам уже рассказывала, это я повторила, наверное, у вас есть, как булочки я туда носила... И вот они работали вдвоем, допустим. И то, что сделано в первой половине дня (потом были другие дела, все уже преподавали, работали), вечером у Дмитрия Николаевича непременно обсуждалось. Папа брал конвертик или карточки, или что-то и шел. Но почти всякий раз, несколько раз на неделе, было так, что папа звонит и говорит: «Танька, там на левом, с левой стороны на письменном столе лежит вот такой-то конвертик или такая пачечка – принеси, пожалуйста». А это рядом ведь совсем. И я шла. Для меня это было – праздник, наслаждение было; я скакала туда, обожала я Дмитрия Николаевича безумной страстной любовью, значит, и прийти туда к ним в дом, и там покрутиться, повертеться, это только вот, кроме вообще наслаждения – ничего. Я несла. И иногда вдруг говорили, оставайся, вот чай… Обычно я уходила, потому что это вечером было, и мама говорила – сейчас же иди домой обратно, уроки надо делать, то да се… Но бывали и другие посещения; конечно, днем ходили, катались на собаке, я вам это все рассказывала. И Дмитрий Николаевич мне… Самое было счастье, если он на колени посодит (sic!), тут уже вообще… Как сейчас это говорят, как Лена мне вчера, моя внучка, сказала… Как сейчас говорят?.. Ну?.. «Ваще тащусь!» Круто, да; «ваще», «ваще тащусь». Значит, что? Общение с ним было счастьем действительно. Я, конечно, ничего не понимала, я была маленькая. Потом Надька[12 - Надежда Григорьевна Винокур, младшая сестра Татьяны Григорьевны.] уже выросла. Надька родилась в тридцать пятом году, и она была самая главная уже сидельщица на коленях у Дмитрия Николаевича, потому что это вообще… бороду ему трогать – это вообще все было – ну… кайф!
Так. Теперь, когда вот, я вам рассказывала, по-моему, это только записали, вы потом мне будете… по-моему, вам лишняя это только пленка… Значит, когда Виноградов к нам ходил… И моя была роль такая: они все-таки работали много, и вот пили чай. И у нас внизу была булочная, где продавались очень вкусные, свежие, горячие булочки; вам тоже, девочки, этого не понять, такие совершенно необыкновенно сдобные, стоили, по-моему, пять копеек, если я не ошибаюсь. Вот обычно с этими булочками или с печеньем. Значит, поднос, опять-таки подстаканники, и нужно было идти. ...Все это была такая действительно удивительно интеллигентная среда, где – по сравнению с нашим речевым обиходом – это как, я не знаю, святые звуки музыки и какие-то заоблачные дали, потому что вся речь этих людей, общающихся друг с другом и в общем-то любящих и уважающих друг друга...
– Кстати говоря, музыки ведь много. Вы говорили, что они все очень музыкальны были, исключительно…
...Как раз вот – ну, во-первых, в этом же доме, в этой же квартире, если это можно назвать квартирой, это огромный первый этаж, жил Игумнов, Константин Николаевич, это вам уже может что-то… Интересно то, что Игумнов одновременно был крестником Сережиного отца (моего мужа, Сергея Владимировича), и там такая связь. И маленьким, оказывается, Сережа там бывал. Это была огромная комната, где… совершенно пустая, какая-то аскетическая, где два стояли огромных рояля, где он занимался с учениками и где тоже он меня сажал за рояль и что-то меня учил и так далее; музыка была все время, по-всякому; ну, а кроме того из самих мальчиков-то, например, Рубен Иванович [Аванесов. – Прим. ред.], папа мой и Александр Александрович [Реформатский. – Прим. ред.] частично, были меломанами страстными и действительно тут музыка… Как раз вот – именно он был – Дмитрий Николаевич был, слух-то у него был вообще абсолютный и в речи, но вот эту сторону, этих вкусов я его не знаю; и Наталья Дмитриевна[13 - Н. Д. Ушакова ? дочь Д. Н. Ушакова.], кстати, не знает; а то, что он был живописец, акварелист – вы замечательно знаете. И не чужд он был вообще любому виду искусства. Он был человек – вот прямо нельзя сказать, как говорят – «человек театра», «человек науки», «человек искусства». Он был человек общения. И дальше вы прочтете там… Ну, эта публикация будет, я стенограмму дам, буду публиковать; потом в книжке, которую я сейчас – там вы видели ее, «Винокур – педагог»[14 - Речь идет о книге Г. О. Винокура «Филологические исследования. Лингвистика и поэтика». М., 1991.], там о Дмитрии Николаевиче написано, что он писание научных трудов как самоцель вообще не признавал. Он считал, что лучше научить одного человека, студента или аспиранта, даже не науке, а правильной речи, чем писать книги. Потому что… и это вот – человек общения, и учил он через общение. И вся его лингвистическая сущность выражалась через устное общение, скорее чем… Ну, Вы знаете, Нина[15 - Н. Н. Розанова.], библиография его ведь очень скупая… Поэтому кто… я не буду говорить всякие пошлые слова, «прикасался», там…, но кто вообще так или иначе входил в эту среду (иначе надо сказать), то это потом незабываемо, это какая-то точка отсчета, потом все кажется плохим; это просто несчастье. Надо привыкать, а там я с детства купалась в какой-то такой… Я потом… я-то все только растеряла и забыла, в войну, в жизнь эту собачью всю, в общем, во все это; но какая-то, вот то, что Люся[16 - Л. К. Чельцова.] называет «культура раннего детства» – это, конечно, каким-то необычайно, совершенно таким мерилом… действительно образчиком остается на всю жизнь: или печаль, что ты не можешь следовать, или радость, что ты это имела. Я, кстати, все ищу и не могу найти, хотя мне моя редакторша помогает, по радио, Татьяна Ивановна Абрамова, я хочу найти папину запись. Есть одна запись. Он… И никто сейчас не помнит, было это в сорок пятом или в сорок шестом году, и как я в архив туда они не… Вот – одна запись. На радио он выступал. Я не знаю, с какого боку – мы писали заявку в архив, там что-то сказали, что послевоенный архив только есть, а довоенный – а это вообще должно быть именно в первый послевоенный год, как я понимаю, или сорок пятый там, или сорок шестой. Я не помню сейчас. Когда он ходил и выступал, и потом мы все слушали… И я не знаю, как приступиться к этому. В ЦГАЛИ
там, это я все понимаю, а вот в этих архивах – понять невозможно. Ну Дмитрия Николаевича все-таки, слава Богу, мы слышим, а папа вот… А в ИРИ действительно было удивительно, и все те, кто его слышал, просто оставались под таким обаянием; хотя у папы не было такого чисто московского старого произношения. И уже потом, как-то рефлективно я заметила, что я не только папе, но и Дмитрию Николаевичу подражаю. Я все… так сказать, вот это все – просто чисто подражательные инстинкты… Но все равно: когда, как помню, Сан Саныч [Реформатский. – Прим. ред.] сказал: «Таня, все хорошо», – мы выступаем по телевидению. «Ну, скажем там, “боряца” – ну это я Вам разрешаю, разрешаю, ну ладно» (что здесь «борются» я не сказала). «Ну, разрешаю; это, в конце концов, можно». В общем, все хорошо. Но все-таки, когда эти изысканности московские, типа «жыра» и так далее, все-таки, конечно, если я так говорю, это я играю. Естественно, что этого уже, наверное, нету; хотя всякие [шн] соблюдаются, и вот, например, на днях я по радио записывалась, я никак не могла сказать, что-то было, не «яишня», что-то было… подождите, что-то такое, что в общем [ч’н] может звучать, что же это было, а? Но я все-таки сказала [шн]; что же это было за слово, я сейчас теперь, думаю, будут писать эти слушательницы. – Песо[ш]ница.
Вот такого типа какого-то слово, и я думаю, Господи, ведь это ж пойдет пятьсот писем: что же она нам, сама говорить не умеет, это же вечно…
– Так что для Вас выбора не было, куда идти? Как Вас с такой судьбой…
Нет. Был, как ни странно, был, и очень большой, и тут Рубен Иванович… По-моему, вам тоже это рассказывала. Потому что значит я, как… и действительно… это не вторая профессия, это вторая жизнь была; я росла в музыкальной среде. Все были – либо вторая профессия, либо несостоявшиеся музыканты, либо безумные меломаны; слово хобби ? никто понятия не имел, и вообще, даже смешно, но у всех это хобби было притом. Значит – причем тут смешно: Томашевский был замечательный музыкант, он замечательно играл на рояле. И… у него был очень тонкий слух, и… но это все он как-то загубил-забросил, так жизнь его складывалась; а когда он приезжал… Сергей Михайлович Бонди – это нет слов, какой это был музыкант! И какой тонкий ценитель музыки, и сколько он всего на свете знал. Папа мой был… Да, у нас еще был такой Филипп Матвеевич Вермель, который был арестован, это, в общем, из близких, самым близким был, собственно говоря, у папы один; его как троцкиста арестовали, он был замечательный музыкант, и он аккомпанировал, мы с папой дуэтом пели; он поэт был, хотя вообще он просто в каком-то учреждении работал. Вот они «Чет и нечет» издавали на свои деньги, альманах. Значит, Сергей Михайлович… Ну, про Рубена Ивановича я вообще не говорю, потому что он и композитор, и все на свете, и эта трагедия, когда он в тридцать девятом году потерял слух, это… после дифтерита, который он перенес во взрослом состоянии, и эта история с абонементами; все это все знают, я просто, мне сейчас некогда. Когда он купил – мы с ним ходили на концерты, и последний он купил, на тридцать девятый год, в тот год абонементами бетховенские симфонии все были, и у нас с ним абонемент, и мы должны были ходить. И вдруг я получаю конверт, и там написано: «Дорогая Танечка, вот абонементы, ты ходи с кем-нибудь другим, мне они больше уже никогда не понадобятся». Ну, потом-то этот аппарат, и потом уже, когда я здесь работала, у нас же были бетховенские вечера, у Рубена, каждую пятницу. Он ну у него был особый, очень строгий вкус, для него Бетховен, для него Моцарт; он не очень хорошо знал русскую музыку, он обожал Рихарда Штрауса; он написал оперу, Рубен, уже в последние годы, и как-то уже в восемьдесят втором году, это было перед самой его смертью, то есть, может быть в восемьдесят первом; я вам рассказывала ведь, как мы встретились внизу в коридоре, и он вдруг меня тащит и: «Ты знаешь, – говорит, – я вот; ты помнишь такую-то оперу Штрауса?»; а я уже не помню даже, о чем речь. Я говорю: «Я не помню, я не знаю». Он мне стал громко-громко петь. «Так вот, ты знаешь, у меня ведь была мелодия, которая очень похожа на это», и все прочее… У меня есть романс, подаренный мне и посвященный мне Рубеном Ивановичем, замечательный совершенно. Это была страшная трагедия. Папа мой – неудавшийся певец; то есть не неудавшийся, а ему вот в футболе сломали: он был вратарь, голкипер, мой папа; несмотря на то, что… И они играли в футбол в Сокольниках, и ему мячом засадили в нос и сломали перегородку; у него была сломана перегородка, ему делали операцию гайморовой полости, почему-то оказалось, что это ушло куда-то в лобную па<зуху>, короче говоря, это все отразилось на его слухе: так плохо сделали, что я так и толком не знаю; он на одно ухо не слышал. У него был замечательный тенор, такого собиновского плана, и был итальянец учитель, который у них пел все время. «Не хорошо ты поешь», ? там, я не помню это имя совершенно, он мне постоянно рассказывал: «Надо петь вот – ты поешь так-то, а надо петь так: Прасти-и-ня…». «Какая простыня?» – а оказывается, это было «прости меня». Такой замечательный совершенно итальянец. Папа учился на первом курсе Консерватории. Ну, значит, <нрзб.> очень плох, я лучше его; и поэтому такие были вечера. Приходили – это у Реформанчика[17 - А. А. Реформатского.] есть немножко, что, значит, а у Маши[18 - М. А. Реформатской, дочери А. А. Реформатского.] даже есть, как аккомпанировали, кто пел; мы с папой – дуэт у нас было любимое дело, причем я пела второй… Что пели? Татьяну, Ольгу
, Малека и Лакме из «Лакме»
; Лиза и Полина
, ну мало ли, Господи… Потом дивные дуэты, которых сейчас никто не знает; там изумительные совершенно; папа русскую музыку, наверное, она ему… тем не менее все же почему-то была ближе, хотя я не знаю, все он любил и все он на свете знал. И музыка составляла часть нашей жизни, поэтому я решила, что буду заниматься музыкой профессионально. Я поступила в училище при Консе<рватории>; я кончила Гнесинскую школу, потом поступила в училище при Консерватории, но тут началась война. Пианистки из меня, естественно, никакой и не вышло бы, хотя я и не собиралась, а я хотела учиться на таком историко-теоретическом отделении, преподавать историю музыки. Это была моя мечта. Я писала хорошо. Мне не хватало слуха. У меня слух не абсолютный. Хороший слух, но не абсолютный. Там ужасно было, потому что это отделение было объединено с композиторским, и у всех у них был абсолютный слух, и я сидела там полностью – не для записи – кое в чем, потому что у меня единственной был… не было слуха абсолютного, и мне трудно давалась гармония, а там был такой Способин – жесткий был мужик, очень известный теоретик музыки; но все-таки я училась и все такое прочее, а потом вот война. И вернулась я в училище, а не – еще не на филфак никакой, я не думала; еще экстерном не сдала за десятый класс, и вернулась я в училище и продолжала учиться, это был второй уже или третий курс. И, хоть у меня шло не очень хорошо, мне трудно было, мне не хватало музыкальных способностей. И я, видит Бог, человек не завистливый. Но чему я безумно завидую, черной завистью, не белой, – это, конечно, музыкальному дару. Я просто изнываю. И вот, мне не хватало, а потом еще и жизнь, и голодная жизнь, и мама с Надькой еще в Чистополе, и кормить папу, и бабушка умерла, и все мы несчастные, и как-то все ужасно; училась я плохо там, довольно лениво. А тут мне Рубен Иванович говорит, что вот ты пошла, тем более вот ты говоришь (но он, правда, не верил, думал, что я плюю), что у тебя такие средние способности, ты просто мало занимаешься, но вообще, говорит, я тебе скажу – из любимого дела нельзя делать профессию. Никогда. Должно быть самое любимое дело, и оно не должно быть профессией. И давай, вообще, бросай все это, и будешь у меня диалектологом; он же на меня жутко оскорбился, что я не поехала в экспедицию, что у меня какая-то там стилистика есть… Просто это было возмущение жуткое. И это тоже повлияло. И я пошла на филфак; сдала экстерном за десятый класс и пошла на филфак. Тогда экзаменов-то даже не было. Так что никакого ни блата, ничего, только все очень удивлялись, что Таня Винокур пришла. Конечно, на мне всегда… Этого не надо было делать, потому что на мне всегда было это – что я папина дочка.
Т. Г. Винокур
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НА РАДИО С Т. И. АБРАМОВОЙ
Т. Г. Винокур: Я заранее свела все главные вопросы в такие вот группы, и получилось, что именно из этих групп можно вывести главные правила культуры речевого поведения. Я назвала эти правила заповедями, и они у меня здесь сформулированы. Вот такие десять заповедей, десять заповедей культуры речевого поведения. Не сочтите это название нескромным, ведь автор этих заповедей не я одна. У меня много очень соавторов: наши радиослушатели, другие информанты – все те, чью речь я исследую, с кем я советуюсь. Одним словом, это наши коллективные выводы. И, если помните, Татьяна Ивановна, я уже о них, так сказать, вчерне однажды говорила.
Т. И. Абрамова: Да, конечно, я помню. И тогда эта передача вызвала очень много вопросов, много интересных писем. А с чего бы Вы сейчас хотели начать и какую из названных Вами заповедей Вы считаете самой важной?
Т. Г. Винокур: Ну вот именно начать удобнее всего с того, что наиболее понятно и очевидно и о чем нам очень много пишут. А пишут о неумении говорить кратко, говорить по делу. Поэтому первую заповедь я сформулирую, пожалуй, так: избегай многословия. Старайся это делать во всех случаях жизни. И в официальной, публичной речи, например. Ведь как оратор вредит себе, когда он говорит больше и дольше, чем того требует тема или чем в состоянии воспринять слушатели. Но и в бытовой, домашней речи то же самое. Ведь сколько ходит анекдотов о болтливой теще, о том, как муж пропускает мимо ушей трескотню жены там, и так далее…
Т. И . Абрамова: То есть Вы считаете, что это черта женского характера?
Т. Г. Винокур: Представьте себе, что нет. Английские ученые, психологи английские, доказали, что даже наоборот. Мужчины в общей сложности, оказывается, говорят больше, но, правда, они говорят всегда на определенную тему, а женщины любят просто так болтать, как будто ни о чем. И вот на этом примере я хочу как раз сформулировать сразу и вторую заповедь: всегда знай, зачем ты вступил в разговор, какова цель твоей речи. Вот мы сейчас сказали о вреде многословия, а оно, чаще всего, одновременно есть и пустословие, суесловие. Чем меньше в нем содержательности, тем больше слов, болтовни. А помните у Пушкина, в «Домике в Коломне», есть строчки: «А кто болтлив, того судьба прославит / Вмиг извергом…». Ведь, наверное, у каждого из нас есть среди знакомых или близких такой вот «изверг», правда? Какая-нибудь, например, подружка, которая… Ну вот я сейчас попробую сымитировать. Приблизительно так она рассказывает: «Ну, значит, вот я сегодня утром просыпаюсь так, смотрю, будильник. Господи, будильник-то! Рано еще как-то. Думаю, покемарю еще. Встану, говорю: ой, Миш, вставай, говорю. Ему к десяти, знаешь, сегодня арбитраж, ну, во вторник всегда арбитраж. Ну, ладно, пока завтрак, туда-сюда, конфорочку зажгла… Так, ну что, ну, яишенку, что ли, сделать? Ох, смотрю в это время колотят опять в дверь… Ну, думаю, ладно, пойду сейчас в ЖЭК
, по вторникам там у них нет никого, правда, до двух. Ну, ладно, до двух, думаю…». Представляете, сколько она до двух наболтает вот так ничего ведь, ни из чего.
Т. И . Абрамова: Заметьте, по телефону. Ну, конечно, у всех есть такие собеседники. Это ведь как раз классический пример пустословия, классический еще и потому, что непонятно, зачем все это говорится и кому говорится.
Т. Г. Винокур: Вот насчет «зачем» я с Вами как раз согласиться не могу, Татьяна Ивановна. В том то все и дело: зачем? Мы должны помнить, что без причины никто никогда ни о чем не говорит. Другое дело – что это за причина? Что она может не осознаваться, превращаться в привычку, в потребность, которая реализуется чисто автоматически, – это так. Но какая же это потребность, какая цель у этой, такой, на первый взгляд, бесцельной болтовни? Очень простая: это общение, сам процесс общения. Желание вступить в контакт или поддержать сложившиеся отношения, тут много вариантов. Выказать расположение к соседу, наконец, или что-нибудь в этом роде. А попутно здесь ведь еще одна цель, одна задача – высказаться.
Т. И . Абрамова: Высказаться – значит поделиться с кем-то своими мыслями. А поделиться – значит вступить в общение. Так что круг замыкается.
Т. Г. Винокур: Ну, конечно. Мы сейчас говорим о речевом поведении, а значит, об общении при помощи речи. Конечно, общаться можно и без слов: можно движением, жестом, взглядом очень много сказать. И все-таки, общение и речь неотделимы друг от друга в нашем сознании. Вот, я думаю все и Вы, конечно, помните дивные стихи Тютчева «Silentium!» – «Молчание» по-русски. Там есть такие строки: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?». Это, конечно, вопрос риторический. Ясно, что легче всего высказаться при помощи слов. Правда ведь? Или подобные строчки есть у Фета. Помните? «О, если б без слова сказаться душой было можно…»
Но мы и на это знаем про себя вполне прозаический ответ. Как высказаться? Конечно, при помощи слов. Но вот что важно: слова-то ведь имеют смысл только тогда, когда они обращены к кому-то. Причем этот кто-то может быть не обязательно конкретным живым лицом, человеком. Это может быть воображаемый адресат, может быть, наконец, сам говорящий, обращающийся к самому себе. Вот, у еще одного замечательного поэта, раз уж мы пустились в цитаты, у Гумилева, есть очень интересное замечание в одной из статей о поэзии. Он так пишет: «О своей любви мы можем рассказать любимой женщине, другу, на суде, в пьяной компании, цветам, Богу»
. И вот видите: цветам, Богу. Это, конечно, по сути дела, речь, обращенная к самому себе. Потом еще разговоры с животными… Вы знаете их специфику. Это очень интересно ведь, такой разговор с животным, живым, но бессловесным, однако понимающим тебя.
Т. И . Абрамова: Я как раз хотела напомнить пример из чеховского рассказа «Иона». Помните? Извозчику необходимо поговорить, излить душу. У него умер сын, и он ищет сочувствия, но не находит ни одной отзывчивой души. И тогда он все рассказывает своей лошаденке, а она жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. Помните?
Т. Г. Винокур: Так не только помню, но признаюсь Вам, что я вот эти последние слова всю жизнь не могла читать без слез или, во всяком случае, большого душевного волнения. И как раз эти слова очень хорошо показывают: важен сам процесс речи как процесс общения. И вот, Татьяна Ивановна, что получается: для такой речи многословие не обязательно выступает как отрицательное качество. Вот Ионе, как я помню, хочется поговорить с толком, с расстановкой. Этим же часто отличаются наши любые разговоры по душам, разговоры для разговоров, просто чтобы поговорить. Без таких разговоров ведь общество не существует.
Т. И . Абрамова: То есть, Вы имеете в виду, например, разговоры в гостях, на прогулке, в очереди, в поезде, где-то в общественных местах, да?
Т. Г. Винокур: Не только в общественных местах, но вообще разговоры там, где встречаются люди. Это могут быть и друзья, могут быть и просто случайные встречные. Вот именно такими разговорами мы вообще отличаемся, общество людей отличается от иных живых существ. Сообщество людей, оно без таких разговоров для общения не существует. И в такой речи очень много вариантов, очень большая амплитуда колебаний. Например, ее начальная, простейшая точка, так называемый речевой этикет: обращение, приветствие, прощание, благодарность – мы о них много говорили. Это начало, интродукция, вступление в общение. А вот усложненная, высшая, что ли, точка – это беседа уже. Иногда бывает прямо беседа как искусство. Причем есть такой тип беседы, который, наверное, не без оснований считается особенно характерным для нашего общества и для русского национального характера, то есть, например, за обедом мы можем обсуждать сложные философские вопросы, заводить политические споры, аж до хрипоты.
Т. И . Абрамова: А вот, я читала, американцы очень этому удивляются, у них это не принято. За обедом, в гостях – только какой-то светский разговор о новой машине, о погоде, но не о делах.
Т. Г. Винокур: Может быть даже о делах, но о таких, обычных, не о серьезных, не о проблемах, и это правильно. А вот Вам, пожалуйста, у нас. Я уж тут прямо процитирую опять, чтобы не быть голословной, процитирую очень рассказ хороший. Он называется «Маленькая печальная повесть» Виктора Некрасова. Наверное, Вы читали. Я приведу маленький отрывок: «Уже третий или четвертый час шла их беседа. Нет, это не то слово. И вообще оно почему-то до сих пор не придумано. У Даля сказано: “Беседа – взаимный разговор, общительная речь между людьми, словесное их общение, размен чувств на словах”. Но что это за определение, да простит меня великий Даль? В нем нет главного – души. О каком размене чувств и мысли может идти речь, когда перед тобой рычащий поток, Терек, Кура, камни, водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулемета и трель соловья?». Видите, какой тут накал страстей? Здесь трудно требовать соблюдения нашей первой заповеди – немногословия, потому что хоть, может быть, и много слов произнесено здесь, но не пустых ведь! Значит, важность первой заповеди – «избегай многословия» – зависит от цели речи. А знать эту цель, вступать в разговор, отдавая отчет в том, зачем ты вступил в разговор, – это вот вторая заповедь. И вот теперь скажу о третьей заповеди.
Т. И . Абрамова: И она, эта третья заповедь, тоже будет зависеть от второй, да?
Т. Г. Винокур: Конечно, конечно. Ведь раз есть одна форма речевого поведения, одна его цель – общение, то значит, есть и другая. Эта другая цель и другая форма речевого поведения не общение, а сообщение, информация. И третья заповедь касается информативного речевого поведения. Поэтому она… Вот это как бы другой конец, подтверждение и продолжение первой заповеди. Если первая гласит: «Избегай многословия», – то вторая требует: «Говори не только кратко, но говори просто, понятно и, по возможности, точно». Понимаете, информативная речь в устах культурного человека категорически не терпит ни многословия, ни, тем более, пустословия. Давайте возьмем самый простой пример. Ну, спросите у меня что-нибудь.
Т. И . Абрамова: Ну, например, я хочу спросить у Вас: «Как пройти к метро?».
Т. Г. Винокур: Замечательный пример. Вы спрашиваете, как пройти к метро, а я Вам сейчас на это отвечу так: «Вам к метро? Ну вот так, значит. Пойдете, пойдете, пойдете, значит, увидите там прям налево, прям такой, знаешь, дом, ну, серый такой, ну, пойдете, за ним этот, ну, как его, ну, арка, обойдешь, туда не идешь, а идите за угол…».
Т. И . Абрамова: Это совсем как гоголевская девчонка, которая не знает, где лево, где право.
Т. Г. Винокур: Вот именно. И конечно… Ну а вот такие ответы на вопрос «Как пройти?», наверное, слышите ежедневно. И, конечно, так ведут себя люди, которые не владеют культурной нормой речевого поведения. Если мы имеем информативное задание в чистом виде, то есть что это? Вопрос – ответ, согласие – возражение, сообщение, поучение, разъяснение и прочее, то все содержательно дефектное: длинноты, неточности, логические просчеты, сложные формулировки – все это остается невостребованным, лишним для того, кому адресована речь. Ведь для информации, то есть сообщения, самым важным все-таки остается содержание речи, о чем идет речь. И наоборот, сам факт вступления в общение для этого вторичен. Это только средство для получения или отправления информации. Можно спросить, который час, и можно взглянуть на часы, если они есть. Можно сказать: «Как тебе не стыдно? Отдай!». А можно просто, укоризненно глядя, отобрать взятую без спроса вещь. Средство для сообщения или реакция на него, таким образом, могут быть и не речевыми, не так ли? И не нужно тогда было бы вообще говорить о речевом поведении и его культуре. А следовательно, речевое средство информативного поведения должно быть, если уж оно есть, оно должно быть, как говорит сейчас молодежь, по делу. То есть нужно говорить именно то, что требуется для действия, для дела. И с этим будет связана моя четвертая заповедь. Вот уже она готова, чтобы быть сформулированной.
Т. И. Абрамова: Да, пожалуйста.
Т. Г. Винокур: Она такова: «Избегай речевого однообразия. Выбирая речевые средства, сообразуйся с ситуацией речи. Помни, что положение обязывает, что в разной ситуации тебя слушают разные люди и что в разной обстановке нужно себя вести по-разному и говорить по-разному». Ну, здесь ясная картина: чем выше культура речевого поведения человека, тем большим количеством речевых ролей он владеет. Это относится и к постоянным ролям, как мы говорим, то есть: профессия – учитель, и к переменным: тот же учитель, но в школе и дома. Вот интересный, кстати, приведу Вам пример. Один мой коллега, лингвист, и хорошо чувствует язык, он вообще такой нытик, и его самое любимое выражение – на день по сто раз он повторяет: «Ох, я устал как собака». А вчера мы встретились, оказались вместе в поликлинике, и я очень отчетливо слышала, как он пожаловался врачу. Он так сказал: что у него быстрая утомляемость, то есть, не «устал как собака», а что у него быстрая утомляемость, одно и то же, это синонимическое выражение, но если он может в обстановке привычной, друзьям, сказать «устал как собака», то врачу он так не скажет, он пожалуется на быструю утомляемость.
Т. И. Абрамова: Мне кажется, это был удачный выбор выражения и эта заповедь очень мудрая. То есть тот, кто не умеет выбирать слова согласно обстановке, приближать к ней свой речевой опыт, приближать его к предмету, о котором он говорит, к людям, с которыми говорит, – тот, конечно, не владеет нормами речевого поведения.
Т. Г. Винокур: Знаете, почему особенно важна эта заповедь? Потому что у нас очень много развелось ревнителей чистоты языка, но неумеренно, таких унылых пуристов, которые часто ломятся в открытые ворота. Ну, мы с Вами знаем, что есть студенческий жаргон, молодежный, что не все говорят всегда одинаково, скажем, нормативно, литературно, чисто, но можно ли, например, возмущаться, что студенты между собой, в своей среде, пользуются так называемым молодежным жаргоном? Ведь если они говорят между собой, то, в конце концов, на здоровье. Это может быть не очень, там, эстетически полноценно, не всякий вкус удовлетворит, но они говорят между собой, и это, в общем, довольно их такой, приватный, частный диалог. А если тот же студент к своему профессору придет и скажет: «Здорово, шеф! Я сегодня сваливаю!» или «Отваливаю!», или «Зачет свалил!», или «Чао!», или что-нибудь подобное, – вот это будет и наглостью, и пошлостью, и вообще нелепостью. Так что пуризм, не знающий границ, нам здесь плохой помощник. Помните, Татьяна Ивановна, как в шестидесятые годы пуристы набросились на Солженицына, когда появилась его первая повесть «Один день Ивана Денисовича»? Вдруг, видите ли, выяснилось, что у нас есть тюремный жаргон, что есть зэки, упаси бог, есть параши, которые вряд ли уместно было бы назвать туалетной бочкой, согласитесь. Но, вообще, любой жаргон – это нормальное явление в обществе. Общество всегда неоднородно и не может не иметь социально-групповых особенностей употребления языка, употребление языка не может быть однообразным. Поэтому и надо избегать однообразия, как гласит четвертая заповедь культуры речевого поведения, чтобы всегда быть понятым и всегда понимать других.
Т. И . Абрамова: Когда Вы советуете избегать однообразия, Вы также, наверное, имеете в виду профессиональные языковые привычки?
Т. Г. Винокур: Ну, конечно. Ведь профессия тоже накладывает очень чувствительный отпечаток на речь человека. Об этом, кстати, замечательно сказал Бернард Шоу: «Профессия есть заговор для непосвященных». Музыканты называли себя лабухами, ученики называют лекцию парой: у меня сегодня две пары, фигуристы говорят: мы катали или откатали номер, программу – это все понять постороннему не всегда легко. Или даже не постороннему. А скажите, что это, общая речь или профессиональная? Я вчера по радио слушала: «Необходимо просчитать потребительскую корзину с учетом индексации цен». Ну, в общем, мы приблизительно понимаем, и все же эта потребительская корзина, вот в нашем таком, обывательском, образе представляется, чисто так вот, с точки зрения зрительного ряда, большая такая корзина, чем больше, тем лучше, правда ведь? Это все ведь специфическая профессиональная речь. Знаете, я когда-то специально записывала язык артистов балета. Интересовалась этим, у меня картотека есть. Они себя сами называют «балетные»: «Мы балетные». Ну, это не каждый же поймет, что это значит, например: «Ножку, ножку сильнее вынимай!» Или там: «Спина должна давать апломб». Или вот такое, например, выражение: «Ну, она долго у воды плясала, а потом в корифейки вырвалась». Сами танцоры, скорее всего, не чувствуют ничего особенного, потому что это их рабочая повседневная жизнь, а для других эта речь воспринимается иногда как своего рода кокетство, такое подчеркивание принадлежности к касте, отгораживание от непосвященных.