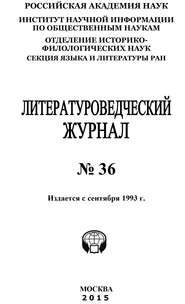скачать книгу бесплатно
Параллельно с темой милосердия в трагедии Шекспира с самого начала развивается тема достойного правителя. В финале они окажутся связаны.
Таким образом, в завязке мы получаем два конфликта: внутренний и внешний, индивидуальный и общественный. И тот и другой предполагают свободный выбор.
Что является предметом тяжбы?
В одном случае – «трон цезарей», в другом – жизнь детей.
В одном случае на чаши весов положено законное наследственное право, право первородства (Сатурнин) и добродетель, приверженность «умеренности, правде и добру» (Бассиан).
В другом случае на чаши весов положены родительские чувства (Тамора) и «римский» обычай жертвоприношения (он должен утолить жажду мщения теней убитых воинов[21 - «T’appease their groaning shadows that are gone» (I, 1, 129).]), близкий к Lex talionis.
Что перетянет?
В обоих случаях свобода выбора (freedom in choice) всецело в руках главного героя, славного воина и защитника Рима. Тит выбирает право первородства и верность обычаю мести.
Он присягает императору Сатурнину и, как покажет время, совершает первую роковую ошибку:
О Рим! Тебя несчастным сделал я
В тот час, как отдал голоса народа
Тому, кто ныне так жесток ко мне.
(IV, 3, 18–20)
В ранней трагедии Шекспира поставлена под сомнение непререкаемость наследственного права при смене правителя. Если бы победила добродетель, все могло пойти иначе. Впрочем, относительность права первородства была показана в Библии. Более умный и находчивый Иаков выкупал это право у своего старшего брата Исава с помощью чечевичной похлебки, а позднее хитростью добывал и отцовское благословение (Быт. 25, 27). В Ветхом Завете приветствуются ум и смекалка. Согласно Новому завету высшей ценностью становится добродетель милосердия. Тит дорого заплатит за свой выбор в споре о «престоле цезарей».
Но еще страшнее будет расплата за другие ошибки героя.
Основной узел конфликта завязывает в трагедии двойное убийство сыновей[22 - В пьесе эти два убийства разделены избранием императора, но я объединяю их в одно событие с точки зрения развития конфликта.]: жертвоприношение сына царицы готов («обряд бесчеловечный, нечестивый») и убийство Титом собственного сына, дерзнувшего ему перечить[23 - В прозаической «Истории Тита» и в балладе в завязке нет ни подобного жертвоприношения, ни убийства. В повести постоянно подчеркивается природная порочность Императрицы: она убийца, прелюбодейка, обманщица, властолюбка. Так что Шекспир в завязке придает Таморе толику человечности и отчасти отбирает ее у Тита.].
«Нерадивость к близким»[24 - «Titus, unkind and careless of thine own» – так характеризует себя Тит в первой сцене трагедии (I, 1, 89).], в которой признается сам Андроник, заключается не в том, что он откладывает человеческое жертвоприношение «неотмщенным теням» своих павших сыновей. Он не медлит и не колеблется ни секунды, отдавая «благочестивый» приказ. «Нерадивость к близким» Тита должна была восприниматься шекспировской публикой как жестокость и отсутствие любви к ближнему, в том числе и к собственным детям.
Убийство сына – чудовищный поступок, разрыв семейных связей, совершенный в буйстве гордыни. Родные будут укорять Тита в несправедливости («you are unjust, and more than so», 297), неправедности («wrongful», 298), нечестивости («this is impiety in you», 360) и варварстве («be not barbarous», 383).
«…Так варваром не будь». В самом деле, в глазах елизаветинцев жестокость Тита отчасти была оправдана тем, что он язычник, лишенный благодати, не знающий пути к ней. Тит не так виновен, как Иеронимо у Кида, знающий заповедь Иисуса Христа, но отбрасывающий ее:
Vindicta mihi!
За зло накажут тяжко небеса
И за убийство зверское отмстят.
Иеронимо, суда их подожди…
…А значит, я за смерть его отмщу!
(III, 13, 1–4, 20; пер. М. Савченко)
В вас сердце содрогнется и заплачет
Нужда в милосердии – центральная тема ранней трагедии Шекспира.
Великодушие – путь к милосердию. Отказ «великодушного победителя» (gracious conqueror) Тита в милосердии порождает ответную жестокость, она в свою очередь – новую… И следа милосердия не остается в мире трагедии.
Лавиния, дочь Тита, будет тщетно умолять Тамору сжалиться:
О, будь ко мне, хоть сердцу вопреки,
Не столь добра, но только милосердна, –
но царица откажет дочери своего врага, она не согласится стать даже «убийцей милосердной»:
Я этих слов не понимаю. Прочь!
(II, 2, 155–157)
Когда сыновей Тита поведут на казнь (III, 1), сам он напрасно будет лить слезы и молить отцов-сенаторов явить жалость: они окажутся безжалостнее камней.
На мгновение в полубезумии, ужаснувшись нескончаемой череде зверств, Тит откажет человеку в праве убить невинную муху[25 - Сцены с мухой (III, 2) нет в ранних кварто, она впервые появляется в тексте Фолио.]:
Мой взор пресыщен видом всяких зверств…
…А если мать с отцом у мухи были?
Как золотые крылышки повесят
И жалобно в пространство зажужжат!
Бедняжка муха!
Жужжаньем мелодическим потешить
Явилась к нам, – а ты убил ее.
(III, 2, 55, 61–66)
Но это лишь на мгновение. Вот уже черная муха приняла облик ненавистного мавра Арона, и милосердие забыто:
Надеюсь я, не так мы низко пали,
Чтоб мухи не убить нам…
(III, 2, 77–78)
В почти однородно «каменный» мир «Тита Андроника», где по определению ничто не противоречит, не входит в конфликт с законами «мира мести», Шекспир вводит идею милосердия. Правда, подобно мухе, оно и на мгновение не успевает расправить свои «золотые крылья», как оказывается убитым. И все же идея милосердия резко оттеняет и проявляет несовершенство и обреченность этого «каменного» мира.
В христианском мире «Иеронимо», где по определению должны были, как минимум, столкнуться противоположные этические установки (закон кровной мести и «Мне отмщенье»), такого конфликта не происходило, и противоречие оставалось неразрешенным. В трагедии Кида христианин подвергал сомнению идею христианского провиденциализма. Он знал, Кто воздаст, но предпочитал счесть себя той силой, через которую осуществляется высшая справедливость, и с тем становился орудием Мести.
В трагедии Шекспира все персонажи – язычники, живущие по закону мести, в последнем акте вспоминают о жалости и сострадании.
Трагедия «Тит Андроник» –
То об убийствах речь, резне, насильях,
Ночных злодействах, гнусных преступленьях,
Злых умыслах, предательствах – о зле,
Взывающем ко всем о состраданье.
(V, 1, 63–66; выделено мой. – Н.М.)
Финальное резюме Марка Андроника (V, 3, 87–94) прямо называет те эмоции и тот терапевтический эффект, на который у зрителей с сердцем «не из камня и стали» рассчитывал этот правдивый и горестный рассказ: «Потоки слез затопят красноречье»; «в вас сердце содрогнется и заплачет» («Your hearts will throb and weep»); «он должен… вызвать сострадание у вас» («lending your kind hand Commiseration»).
Эти несколько строк, очевидно, имели большое значение для драматурга, так как постоянно дорабатывались и совершенствовались от первого кварто ко второму, и затем к Фолио. В каком направлении шла доработка? Терапевтический эффект должен был стать яснее и нагляднее: появляется образ «доброй руки сострадания», появляется образ «плачущего и содрогающегося сердца».
Милосердия и сострадания еще нет в мире «Тита Андроника». Герои трагедии призывают к сочувствию, чтобы оправдать законность мести. Они молят о милосердии для себя, но милосердие к другим не проявляют. Эти «граждане Рима» пока не способы быть милосердными.
Тем яснее должен был осознать нужду в сострадании и милосердии зритель Шекспира.
Зло, взывающее ко всем о сострадании и милосердии – таков предмет единственной трагедии мести в шекспировском каноне. Ее цель: увидеть зло в лицо, показать его людям, чтобы тем вернее научить их избегать и побеждать зло.
Если бы трагедия о Тите Андронике нуждалась в эпиграфе, то лучшим эпиграфом к ней послужили бы эти слова из шекспировского «Короля Лира»:
Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъем и некуда уж падать (IV, 1, 3–4)
Царица готов Иезавель
Вместе с тем в своей первой трагедии Шекспир (устами нового императора Рима) исключает «подобную зверю» Тамору из числа заслуживающих жалости (pity):
Жила по-зверски, чуждой состраданья,
И вызывать не может состраданья, –
(V, 3, 198–199)
оставляя ощущение некоторой непоследовательности. Зритель помнит изначальную мольбу этой героини о милосердии и полученный ею отказ.
Обратим, однако, внимание на следующие слова:
А что до Таморы, тигрицы злобной,
Ни трауром, ни чином погребальным,
Ни похоронным звоном не почтить,
Но выбросить зверям и хищным птицам…
(V, 3, 196–199)
В финале молодой император Люций довольно ясно уподобляет Тамору библейской Иезавели. Брак царя Ахава с ней, прелюбодейкой, истреблявшей пророков и поклонявшейся языческим богам, имел роковые последствия для Израиля, как и брак императора Сатурнина с царицей готов для Рима. Имя Иезавели стало нарицательным и употреблялось уже в Новом Завете как обозначение жестокости и злобы, нечестия и разврата. В смерти ее исполнилось слово Господа, произнесенное через Пророка Илию: «на поле Изреельском съедят псы тело Иезавели и будет труп Иезавели на участке Изреельском как навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель» (4 Цар. 9:36–37). Должно быть, елизаветинцы с самого начала узнавали в царице готов этот прообраз и воспринимали ее соответственно.
Дай тебе Бог и святой Стефан доброго вечера
Вероятно, пьеса «Тит Андроник» игралась на сцене в святки, в праздник святого Стефана. Не случайно единственный персонаж-христианин[26 - Тит воспринимает его как вестника Неба, сам клоун уверяет, что ему «Бог не велит» раньше срока стремиться на Небо, он идет во дворец уладить ссору («блаженны миротворцы»), прощаясь, он благословляет Тита («God be with you, sir», IV, 3, 119), обрекшего его на верную смерть.] в этой языческой трагедии – клоун с корзинкой с голубями, идущий во дворец, чтобы уладить ссору, – приветствует римского императора:
Дай тебе Бог и святой Стефан доброго вечера.
(IV, 4, 42)
А потом с именем Святой Девы на устах разносчик голубей (голубь – аллегория Святого Духа) безропотно отправляется на виселицу.
С таким же смирением, с каким шекспировский клоун отправился на казнь, некогда принял свою мученическую смерть и святой Стефан.
Вечером на святого Стефана (Оn St. Stiuens night), как мы знаем, были поставлены и две другие пьесы Шекспира: «Мера за меру» (игралась в Уайтхолле при дворе Якова I 26 декабря 1604 г.) и «Король Лир», который исполнялся в тот же день два года спустя (26 декабря 1606 г.). Исходя из содержания всех трех пьес, можно допустить, что они изначально создавались для первого исполнения в этот праздник.
Шекспировский театр еще очень тесно связан со своими корнями – средневековым народно-религиозным театром. Разумеется, театральные представления елизаветинцев уже далеки от иллюстративности мистерий и мираклей, как далеки они и от прямолинейной назидательности моралите. Но и елизаветинские спектакли, приуроченные к тем или иным религиозным праздникам, на свой лад (по принципу аллегории, аналогии или метафоры) соотносились с семантикой конкретного праздника[27 - См. подробнее: Микеладзе Н.Э. «Мера за меру» в контексте праздника св. Стефана // Шекспировские чтения – 2010. – М., 2010. – С. 62–70.].
Праздник Святого Стефана, в который исполнялась трагедия «Тит Андроник», следует учитывать как внутренний фактор, обусловливающий содержание и идейный вектор трагедии. И во всех пьесах Шекспира, поставленных на день святого Стефана, в качестве основной разрабатывается тема евангельского милосердия. Но в разных вариациях и не только она одна.
В чем же состоит, в данном случае, связь содержания пьесы с семантикой праздника?
История архидиакона Стефана описана в книге Деяния апостолов (гл. 6 и 7) Нового Завета. Вспомним. Святой Стефан в своей речи в синедрионе, за которую будет казнен, излагает свое понимание евангельского учения Иисуса Христа. Этот «некнижный и простой» человек рисует завораживающую эволюционную картину развития взаимоотношений Бога с его творением Человеком, чье сознание, начиная с Авраамова завета, предстает как постепенно, трудно, но неуклонно возрастающее. Стефану свойствен одновременно исторический подход к проблеме закона. Прежде было одно, но отныне и на веки Закон Господа – это евангельский завет.
Таким образом, Слово Иисуса Христа выше закона Моисея, поскольку неизмеримо совершеннее его. Совершеннее, прежде всего, благодаря новому пониманию взаимоотношений между людьми как основанных на любви и милосердии. Прежний закон не отвергается, из него должно вырасти, как ребенок вырастает из платья.
К этой модели конфликта восходит конфликт «Венецианского купца» и «Меры за меру». С «Титом Андроником» не так. В нем вступают в столкновение не две равно укорененные идеи, но правда наличная и правда нарождающаяся. Та, что есть, и та, в которой нуждается мир.
Эта нарождающаяся правда еще никем впрямую в этой ранней трагедии не выражается. Ведь нельзя же считать рупором идей клоуна, скорее, он становится здесь символом невинной жертвы. Но в трагедии есть выразитель переходной этики Марк Андроник. И есть молодое поколение: дети и внуки.
Новый император Люций (он из поколения «детей»), соблюдающий в начале трагедии культы римских богов, а в финале карающий преступников, если верить молве, «совестлив» и «чтит Бога», знает стыд и жалость, и даже дает клятву «спасти, вскормить и воспитать» ребенка Арона.
Наконец, есть в трагедии ребенок, наделенный слезным даром. Это внук Тита Люций-младший – «нежный отрок», «созданный из слез» и сострадающий близким.
Не верящий в силу слез его дед уверен, что «слезы скоро жизнь его растопят» (III, 2, 51). Но слезы не враги, а друзья мальчику, они помогают ему утешать и поддерживать родных.
Именно через смену поколений, по мысли драматурга, возможно продвижение – постепенное, трудное продвижение – к более милосердному, духовно высокому обществу. Именно в смене поколений, в детях, видит он залог возрастания человеческого сознания. Моисей не даром по слову Господа 40 лет водил свой народ по пустыне, пока не подросло третье поколение, внуки.
Потому так важна «детская» тема в этой кровавой трагедии. Арон в финале соотнесет с детьми саму способность каяться[28 - I am no baby, I, that with base prayers I should repent the evils I have done… (V, 3, 184–185).]:
Я не ребенок, чтоб с мольбой презренной
Покаяться в содеянном мной зле. (V, 3, 184–185)
Сам он, разумеется, не таков – взрослый закоренелый злодей. Но даже шокированный страшными преступлениями Арона зритель испытает хоть каплю сочувствия, видя метания бессердечного мавра в попытках спасти жизнь ребенка.
Я это миру предпочту всему,
Я это миру вопреки спасу. (IV, 2)
Зритель. Это неизменный герой театра Шекспира и его основной адресат, будь то английская королева или простой граундлинг. С первой его трагедии, с первого шага на сцену зритель становится главной заботой драматурга. Именно в нем будет стараться пробудить милосердие Тамора, а после – Лавиния, а вслед за нею Тит, а затем Арон, и, наконец, Марк Андроник. Именно его – зрителя – Шекспир старается сделать лучше, чтобы его сердце сумело «содрогнуться и заплакать», услышав эту горестную историю.
Шекспир – христианский эволюционист (такими были ученики Христа, в том числе св. Стефан, пострадавший за подобную проповедь в иерусалимском храме). Стихийный (интуитивный) или сознательный – не берусь судить. Да это и не важно. Важно то, что Шекспир неустанно пытается достичь слуха и сердца своих современников, людей с все еще «необрезанным сердцем и ушами», как выразился святой Стефан (Деян. 7:51). В этом состоит главный смысл его творчества. Шекспир видит тенденцию роста сознания: как дерево тянется к солнцу, так и люди постепенно и неуклонно тянутся к благодати. Душа, ведь, и вправду, христианка. Медленно, постепенно, но вектор изменения ясен: от беззакония – к закону, и от закона – к благодати[29 - См. подробнее: Микеладзе Н.Э. Преобразование сюжета мести в «Гамлете» // Медиаскоп. 2010. Вып. 4. http://mediascope.ru/node/676]. Так понимает он и человеческую историю: как эволюцию сознания. Такое понимание восходит к Евангелиям, развивается Св. Апостолами и Стефаном, через Св. Августина и Иоахима Флорского достигает Данте и Шекспира…
Едва ли постановку «Тита Андроника» в праздник Св. Стефана можно считать случайным совпадением. Этим религиозно-праздничным контекстом объясняется и весьма недвусмысленный, невзирая на все условности кровавого сюжета мести, воспитательный смысл трагедии Шекспира.
Шекспиру в его творчестве не была чужда традиция религиозно-философского толкования. Однако, едва ли на этапе «Тита Андроника» можно говорить о зрелости шекспировской мысли, о последовательности и полемической выверенности аргументации (как позднее в «Венецианском купце» или «Мере за меру»). Но сама чудовищная картина кровожадного и жестокосердного дохристианского мира была, пожалуй, для многих убедительнее рассуждения о преимуществах христианского миросозерцания. В некотором смысле, к методу, опробованному в «Тите Андронике», Шекспир вернется в своем «Короле Лире»[30 - Не случайно многие видят в его Тите первый набросок характера Лира.]. Но к тому времени он в полной мере овладеет также страстностью и искусностью проповедника, глубиной богослова, непритворной любовью и состраданием христианина.
«Дисгармоничная музыка»: интеллектуал, «тело без органов» и шекспировский «Ричард II»
В.С. Макаров
Аннотация
В статье предлагается новая трактовка «Ричарда II» как «политической пьесы», впервые давшей возможность вписать власть интеллектуала в традиционный контекст королевской власти. С помощью стратегий «ускользания» интеллектуал осознает, что за его желаниями и «органами» его социального тела лежит «тело без органов», дающее свободу «недовольства» и критики нуждающегося в исправлении общества.
Ключевые слова: «Ричард II», «переодетый монарх», тело интеллектуала, тело без органов, «недовольный».
Makarov V.S. «Out-of-tune music»: The intellectual, body without organs and Shakespeare's Richard II
Summary. The article presents a new look at Shakespeare’s «Richard II» as a play which for the first time attempted to inscribe the power of the intellectual on the traditional context of royal authority. Using the Deleuzian strategy of «shifting» between various plains and bodies, early modern intellectuals feels the intangible «body without organs» beyond their desires and organs of their social body. This new form of self-representation provides them with freedom of their «discontent» and criticism of the decayed society in need of reform.
В августе 1601 г., разговаривая с королевским архивистом Уильямом Ламбардом о рукописях, хранившихся в лондонском Тауэре, королева Елизавета (если верить Ламбарду, а точнее – впервые издавшему текст разговора в конце XVII в. Джону Николсу) неожиданно заметила: «Ричард II – это я, разве вы не знаете?»[31 - ‘I am Richard II, know ye not that?’ // Nichols J. Bibliotheca Topographica Britannica. – L., 1780. – Vol. I. – P. 525–526.]. Историки литературы сделали очень много, чтобы вписать эту цитату в контекст трагедии Шекспира. Действительно, как следует из дальнейшего разговора, Елизавета явно связывала постановку «Ричарда II» в канун восстания Эссекса за полгода до беседы с Ламбардом с изменой графа и в целом с политическим кризисом последних лет ее царствования.
В судьбе самой пьесы эта ремарка – при всей ее кажущейся однозначности – сыграла большую роль, возможно, слишком большую. Ламбард умер через несколько недель после разговора с королевой. Неясно, какой документ и каким образом оказался полтора века спустя в руках Николса. Непонятно, почему о нем ничего не было известно современникам. Неизвестно даже, действительно ли имел место этот разговор. В последние несколько лет ученые начали оспаривать аутентичность записанного разговора[32 - Bate J. ‘Was Shakespeare an Essex Man?’ // Proceedings of the British Academy. – 2009. – N 162. – P. 1–28.] или, по крайней мере, то, какое отношение он имел к шекспировскому тексту[33 - Scott-Warren J. Was Elizabeth I Richard II?: The Authenticity of Lambarde’s «Conversation» // The Rev. of English Studies. – Oxf., 2013. – Vol. 64.– N 264. – P. 208–230.].
Я не вижу смысла вдаваться в исторический спор в этой статье. Гораздо интереснее то, как поколения ученых будто бы борются за «полую корону» (the hollow crown, III:2), упавшую с головы Ричарда. «Елизаветинская картина мира», воображенная Ю.М.У. Тиллъярдом, во многом базируется на образе короля-солнца из монологов Ричарда[34 - Tillyard E.M.W. The Elizabethan World Picture. – N.Y.: Vintage Books, 1959. – P. 30–31, 35. См. также: Tillyard E.M.W. Shakespeare’s History Plays. – L.: Chatto & Windus, 1944.]. Основную часть классической работы Э. Канторовича открывает именно анализ «Ричарда II»[35 - Канторович Э. Два тела короля: Исследования по средневековой политической теологии / Пер. с англ. М.А. Бойцова и А.Ю. Серегиной. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – С. 93–112.].