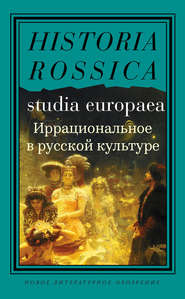скачать книгу бесплатно
Сохранившиеся надгробия в упраздненной церкви Воскресения служили предметом любопытства московских жителей, возможно, еще со времен закрытия храма. Особенно привлекали и неофициально почитались москвичами мощи «неизвестного святого Феодора», находившиеся в разоренном храме. Так, в 1804 году к Московскому митрополиту Платону (Левшину) обратился мещанин Алексей Пуговкин (из старообрядцев), сообщавший, что два года назад он и еще трое старообрядцев исцелились от неизвестной болезни и помешательства после молитвенного обращения к святому Дмитрию Ростовскому и к захороненному на Крутицах «преподобному» Федору. Пуговкин добивался разрешения восстановить храм на Крутицах во имя Федора, а также Андреевский и Варсонофьевский монастыри, для чего просил выдать ему книгу для сбора подаяний, построить часовни по удобным местам для сбора и устроить трехдневный колокольный звон[93 - Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 797. Оп. 28. Д. 217. Л. 21. 40–41]. И хотя требования Пуговкина были оставлены без удовлетворения, слухи о мощах святого Федора быстро распространялись. Так, известно, что в 1805 году священник Успенской церкви на Крутицах отец Василий служил панихиды «по неизвестному рабу Феодору» по просьбам прихожан. К нему также обращался Пуговкин с просьбой о книге для сбора подаяний, но священник ему отказал, так как «тот казался ему помешанным»[94 - Там же, 41.]. Почитание неизвестного святого Федора свидетельствует о том, что интерес к мощам не исчезал в народной культуре, несмотря на то что многие церковные иерархи с XVIII века уже не разделяли веру в то, что неизвестные святые могут явить себя через чудеса и видения[95 - Levin E. From Corpse to Cult in Early Modern Russia // Kivelson V., Greenе R. (Ed.). Orthodox Russia: Belief and Practice under the Tsars. University Park, 2003, 81–103; Greene R. Bodies like Bright Stars. Saints and Relics in Orthodox Russia. DeKalb, 2010.]. Также примечательно, что в данном случае речь идет о городских жителях, а не о крестьянской среде, рассматриваемой в большинстве исследовательских работ[96 - Например, западные исследователи В. Шевцов, К. Чулос, К. Воробек и отечественные исследователи народного благочестия С. Иникова, М. Громыко.].
ВИЗИОНЕРСТВО В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XIX ВЕКЕ В МИРСКОЙ И МОНАШЕСКОЙ СРЕДЕ
Для реконструкции дискуссии о деле Крайнева нам важно установить религиозный и церковно-политический контекст, в котором стали возможными и поведение Крайнева, и последующие действия церковных властей.
Вряд ли можно считать парадоксом, что если в век Просвещения интерес к видениям и пророческим снам был уделом в основном низшего класса и представителей духовенства, то в России XIX столетия толкования снов и визионерство были распространены во всех слоях общества[97 - Wigzell F. Reading Russia’s Fortunes. Print Culture, Gender and Divination in Russia from 1765. Cambridge, 1998. Русский вариант Вигзел Ф. Читая Фортуну. Гадательные книги в России. М., 2007.]. Вдова полковника Агафья Мельгунова стала основательницей одного из самых известных женских монастырей в России, после того как ей явилась Богородица и сказала, что глухое провинциальное Дивеево Нижегородской провинции будет ее, Богородицы, четвертым уделом (после Грузии, Афона и Киево-Печерской лавры)[98 - Архимандрит Серафим (Чичагов) (Сост.). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. М., 2002, 1–5.]. Дворянин-послушник Дмитрий Брянчанинов писал о глубоком влиянии, которое на него оказало видение креста[99 - Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. М., 2002, 61.]. Видения монаха Авеля, предсказавшего смерть Павла и другие катаклизмы, стали частью городских легенд Москвы и Петербурга[100 - Розанов Н. Предсказатель монах Авель в 1812–1826 гг. // Русская старина. Т. 12. № 4. 1875, 815–819.]. Европейский интерес к пророчествам и хилиастическим и апокалиптическим видениям в период Наполеоновских войн особым образом преломлялся в русском обществе с его традиционными эсхатологическими представлениями и пропагандой против Наполеона[101 - Garrett C. Respectable Folly: Millenarians and the French Revolution in France and England. Baltimore; London, 1975; Мельникова Л.В. Русская православная церковь в Отечественной войне 1812 года. М., 2002; Она же. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских войн. М., 2007, 307–308.].
Несмотря на действующее законодательство петровского времени и борьбу Синода с «ложными видениями»[102 - Лавров A.C. Колдовство и религия в России 1700–1740 гг. М., 2000, 413.], свидетельства о видениях в числе других чудесных явлений (в первую очередь для монастырей) были необходимы для составления агиографических свидетельств о подвижниках и чудотворных иконах. Так, монастыри сохраняли письма, сообщавшие о том, что тот или иной неканонизированный подвижник являлся людям во сне с наставлением[103 - Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 1. Оп. 1. Д. 388. Л. 79. Единоверческий священник отец Иоанн Пырьев, знакомый при жизни с Серафимом Саровским, писал игумену Саровской пустыни Нифонту о явлениях старца Серафима после его смерти к нему во сне. См.: Пярт И.П. Провинциальное благочестие. Отец Иоанн Пырьев, Саровская пустынь и судьбы единоверия на Урале, 1830–1850 гг. // Православие в судьбе Урала и России: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2010, 247–250.]. Явления Богородицы и святых могли вести к нахождению («обретению») чудотворных икон: верующий мог увидеть икону во сне и получить указания, как она может быть найдена (под деревом, на поле или у реки)[104 - Shevzov V. Iconic piety in Russia // Porterfield A. (Ed.). History of Modern Christianity. Minneapolis, 2007.]. В 1879 году два мальчика-пастуха в Симбирской епархии видели икону Богородицы в источнике, а в 1893 году четырнадцатилетний мальчик-звонарь из Казанской епархии видел «деву в белом», которая указала ему на икону, небрежно брошенную в церковной кладовой. В ту же ночь он видел во сне ангела, приказавшего сообщить священнику о забытой иконе[105 - Shevzov V. Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution. Oxford, 2004, 176.].
В XIX веке прослеживается разница между видениями спонтанными и видениями культивируемыми, по типологии Барбары Ньюман[106 - Newman B. What Did It Mean to Say „I Saw“? The Clash between Theory and Practice in Medieval Visionary Culture // Speculum. Vol. 80. 2005, 1–43.]. Спонтанное видение с его сосредоточением внимания на сверхъестественном мало заботится об эстетике и медитации как подготовке к откровению, оно сродни ветхозаветным пророчествам. Для визионеров из монашеской среды (не обязательно из высшего сословия) видение – результат духовного поиска, медитативной молитвы, чтения благочестивой литературы. Многие из таких видений насыщены книжными евангельскими образами и отражают интерес к внутренней духовной жизни, имеют значимость для личного духовного опыта и выбора пути, отражая таким образом субъективизацию религиозного опыта. Игумен Парфений (Агеев, 1806–1878), выходец из молдавской старообрядческой диаспоры, послушник на Афоне и впоследствии игумен Гуслицкого монастыря, записывал свои сны, мотивы которых (дьявол, змей) имели эсхатологическое содержание, дань старообрядческой культуре, в которой вырос автор[107 - Из автобиографии игумена Парфения // Душеполезное чтение. № 7–8. 1898.]. Игуменья Таисия Леушинская избрала путь монашества в результате чудесных видений, которые она переживала во время учебы в институте для благородных девиц в возрасте 12 лет[108 - Meehan B. Holy Women of Russia. The Lives of Five Orthodox Women offer Spiritual Guidance for Today. Crestwood, 1998, 85–87.].
Несмотря на то что не всегда можно выяснить мотивацию визионера, почти во всех известных случаях видение получало огласку именно из-за социальной значимости, которую ясновидец придавал своему опыту. По словам Е.К. Ромодановской, «без объявления народу видение не имеет общественной значимости и превращается в личное дело человека, в бытовое сновидение»[109 - Ромодановская Е.К. Рассказы сибирских крестьян о видениях (к вопросу о специфике жанра видений) // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XLIX. СПб., 1996, 151.]. В традиционных видениях общественная значимость настойчиво подчеркивается в структуре самого опыта: Богородица, ангелы или святые требуют от ясновидца, чтобы тот сообщил о переданном ему опыте «народу», в случае неповиновения ясновидца ждет наказание (обычно болезнь, которая проходит, как только задание выполнено). Часто именно это требование, предъявляемое к ясновидцу, ведет к возникновению социального процесса (и как результат дает историку материал для исследования). Ведет оно и к расширению сакрального пространства: распространению информации о видении в окружающей визионера социальной среде, вмешательству церковных и/или светских властей, действиям, направленным или на визионера, или на объект почитания, указанный в видении (икона, мощи святого), или на часть ландшафта, с которой связано явление.
РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА АНУФРИЯ КРАЙНЕВА КАК ПРИМЕР ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ К СПОНТАННЫМ ВИДЕНИЯМ В 1850-Е ГОДЫ
Отношение церкви к (сно)видениям в XIX веке, несмотря на отказ от политики борьбы с суевериями, превалирующий в XVIII веке, оставалось двойственным ввиду существования двух «соперничающих теологий откровения»[110 - Newman B. What Did It Mean to Say „I Saw“, 6.]. C 1830-х годов в синодальной церкви появлялось все больше свидетельств о чудесных явлениях, в которых принимали участие обычные люди. Как указывает исследовательница Кристин Воробец, «в 1830-е годы Синод смягчил свое отношение к незыблемой вере мирян в чудеса, происходящие в ежедневной жизни»[111 - Worobec C. The Miraculous Healing of the Mute Sergei Ivanov 22 February 1833. // Coleman H.J. (Ed.). Orthodox Christianity in Imperial Russia. A Sourcebook on Lived Religion. Bloomington, 2014, 23.]. Появление официально одобренных свидетельств о чудесных исцелениях от мощей святых подвижников, серия статей в 1820–1840-е годы на тему чудес в журнале «Христианское чтение», в которых доказывалось, что чудеса не просто возможны, но необходимы, – все это говорит о том, что для синодальной церкви стало невозможно классифицировать как суеверие или просто игнорировать разнообразные нарративы о вторжении потустороннего мира в повседневную жизнь[112 - О цели чудес Ветхого Завета // Христианское чтение. II. 1844, 268.]. В последнее десятилетие перед реформами 1860-х годов шла подготовка канонизации епископа Тихона Задонского, находила свой путь к читателю агиографическая литература о почитаемых подвижниках с описанием чудес и мистических явлений[113 - О канонизации святого Тихона см.: Chulos C. Converging Worlds: Religion and Community in Peasant Russia 1861–1917. DeKalb, 2003, 72–81. Чулос также пишет о том, что с распространением грамотности среди крестьян рос спрос на духовно-нравственную литературу. Согласно опросу 1894 года среди крестьян Нижнедивицкого района Воронежской губернии, две трети книг, популярных в крестьянской среде, были религиозно-нравственного содержания. Ibid., 83–84.]. Здесь цели и интересы духовенства не следует противопоставлять народной религиозности, так как многие представители духовенства, особенно монашества, могли быть и участниками видений, и создателями популярных текстов о чудесах. Во многих случаях спонтанные «народные» видения, как-то связанные с обретением святыни (иконы), легитимизировались приходским духовенством. В то же время существовала и другая, более осторожная, охранительная тенденция, основывающаяся на теологии «различения духов», о которой речь пойдет далее.
Дело Крайнева позволяет нам выявить три критерия, по которым церковная власть расследовала соответствие видения Крайнева православному вероучению. Во-первых, личность святого, являющегося в видениях, историчность и православность которого было необходимо установить. Во-вторых, соответствие свидетельства о святом православному канону. И, наконец, внимание церковной власти привлекла и духовная личность самого визионера. Мы рассмотрим позицию церковной власти в отношении свидетельства Крайнева, а также богословскую и логическую аргументацию иерархов, делавших вывод о природе и смысле видения, испытанного рядовым.
Историческая личность святого, о котором свидетельствовали видения Крайнева, не могла быть точно установлена. Так, митрополит Филарет указывал на то, что сведения о некоем епископе Федоре были в синодике Крутицкой церкви, составленном в 1834 году на основании фрагментарной информации, содержащейся на надгробиях. Указания на то, что Федор был митрополитом и жил 120 лет назад, как утверждал визионер, не подтверждались. Кроме того, у митрополита Филарета были сведения о предыдущем витке слухов о «подвижнике Феодоре», которые он интерпретировал как провокацию старообрядцев, стремившихся прославить осужденного собором 1666 года раскольника дьякона Федора. Поводом для такого подозрения, выдвинутого митрополитом Филаретом, был факт конфессиональной принадлежности Пуговкина и других старообрядцев, исцеленных по молитвам Федора. Остается непонятным, почему Пуговкин и другие обратились к православному священнику и митрополиту Платону, а также почему они упоминали борца с расколом святого митрополита Дмитрия Ростовского. Митрополит Филарет считал, что последнее было уловкой раскольников, распространяющих слухи о святом Федоре и старающихся именем святого Дмитрия «придать веса» своим рассказам о исцелениях[114 - РГИА. Ф. 797. Оп. 28. Д. 217. Л. 44–45.]. И хотя связи Крайнева с раскольниками не прослеживались, митрополит Филарет, видимо, боялся дать лишний повод связать имя неизвестного святого Федора со старообрядческим мучеником за веру дьяконом Федором.
Личность визионера имела большое значение для принятия тех или иных свидетельств о чудесах. Неграмотный визионер, сын солдатки, выросший в батальоне кантонистов, Ануфрий Крайнев был человеком слабого здоровья, признанным непригодным для строевой службы. Проходя службу в охране и рабочих ротах на строительстве железной дороги, Крайнев был благочестивым христианином, причащавшимся раз в шесть недель. Такая практика считалась частой, так как нормой в имперской России считалось причащение Святых Христовых Тайн в среднем четыре раза в год, в четыре постных периода, а минимумом – один раз в год. Как отмечали и наблюдавшие за Крайневым, его религиозность не была игрой и лицемерием. Встреча с незнакомым святым во снах и видениях стала по сути источником его религиозной идентичности, способом самопознания. Святой из сна Крайнева был явлением «нуминозным», радикально отличающимся от повседневного опыта: он говорил на «высоком» языке, насыщенном церковнославянизмами («иди, младый юноша», «сего храма»). Он карал, предрекал и обещал спасение. Связь визионерства с визуальной религиозной культурой, хорошо изученная на материале западных средневековых видений, прослеживается и на отечественном материале[115 - Так, монашеские сны и видения XIX века свидетельствуют о связи между различными иконографическими культурами и опытом визионерства; об этом будет рассказано в другой статье. Западный материал см., например: Hamburger J.F. The Visual and the Visionary. Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany. New York, 1998.]. Для Крайнева как благочестивого прихожанина образ святого был хорошо узнаваем – он выглядел как иконописный образ любимого русским народом святого Николы Угодника, защитника обездоленных и слабых. Низкое социальное происхождение и юный возраст солдата не были препятствием для серьезного внимания властей и общества к его визионерскому опыту. Многие предшественники Крайнева, визионеры XVIII века, а также современники из католических стран были солдатами, крестьянами, пастухами[116 - Лавров А.С. Колдовство и религия в России в 1700–1740 гг.; Nolan M., Nolan S. Christian Pilgrimage in Modern Western Europe. Chapel Hill, 1992.]. Однако следует иметь в виду, что мистический опыт давал визионеру более высокий символический статус. Так, повышенное внимание к персоне Крайнева со стороны церковных и светских властей и обычных верующих давало молодому человеку уверенность в своей избранности как «импресарио святого» и в обладании особыми духовными дарами[117 - Термин «импресарио святого» взят у: Brown P. The Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1981, 38.]. Пребывая в Троице-Сергиевой лавре под наблюдением опытных монахов, Крайнев играл роль старца и пророка: «<…> он обличал тайные пороки некоторых людей, и предсказывал больным выздоровление или смерть»[118 - РГИА. Ф. 797. Оп. 28. Д. 217. Л. 53.].
В то время как церковные власти отнеслись с серьезностью к утверждениям Крайнева, их задачей являлось проверить соответствие видения православному канону. Митрополит Филарет и наместник Антоний (Медведев) в Троице-Сергиевой лавре, наблюдавший за Крайневым, подвергли сомнениям некоторые утверждения визионера. Филарет нашел традиционный в народных видениях мотив об угрозах за неисполнение наказа маловероятным и неправославным[119 - Мотив наказания за непослушание в рассказах о чудесах встречается и в греческих источниках. В рассказе о явлении иконы Скоропослушницы в греческом монастыре Дохиар монах Нил потерял зрение после того, как не послушал указания Богородицы не коптить ее иконы.]. Так, о наказании рядового голодом он пишет: «<…> трудно представить, чтобы такое действие происходило от святого мужа <…>», а рассказ о наказании слепотой просто сбрасывается со счета, поскольку при явке к митрополиту утром Крайнев вполне хорошо видел[120 - РГИА. Ф. 797. Оп. 28. Д. 217. Л. 48 об. – 49.]. Крайнев также описывал сон о том, что Федор в сопровождении трех ангелов шел по монастырскому двору к своему гробу и по пути испугал часового[121 - Там же, 50.]. Филарет иронично комментировал этот эпизод: «<…> истинно духовные явления имеют свою цель и достигают ее. Какая же благая цель достигнута тем, что три ангела шли по двору и испугали часового?»[122 - Там же, 51.]
В связи со слухами и массовыми паломничествами на Крутицкое подворье Крайнев был удален из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, где его хвалили за поведение, спокойный характер и воздержание в пище. Тем не менее благочестие Крайнева вызывало сомнение, поскольку его духовные подвиги в молитве и посте происходили по личной инициативе, «без совета и наставления», что считалось «обстоятельством не благоприятным особенно для чрезвычайных случаев в духовной жизни». Наблюдавший за Крайневым архимандрит Антоний (Медведев), духовный сын оптинского старца Леонида (Наголкина), характеризовал рядового как человека «свойства нервного», находящегося под властью воображения, не умеющего «обуздывать свою волю и мысли» и потому «безотчетно доверяющего видениям»[123 - Там же, 53.].
В конце концов, исходя из того, что Крайнев сам себе противоречил в своих показаниях, а его сновидения противоречили истине, и поскольку «являющиеся в сновидениях действия и слова святого несообразны с достоинством святого», было сделано заключение, что сновидения Крайнева «не суть истинные духовные явления, а смешенные и мечтательные сновидения, что он находится в состоянии, которое отцы называют прелестью, то есть самообольщением или обольщением от нечистых сил, в котором человек мнит себя достигшим высшего духовного состояния, на самом деле не достигнутого». Наблюдатель рекомендовал послать Крайнева в организованную и уединенную обитель, как, например, Оптина пустынь, к «искусному» духовному старцу, для утверждения в духовной жизни, чтобы «не доверять своему мудровованию (sic!), подчинять свои сновидения и мысли рассуждению опытного в духовной жизни»[124 - Там же, 54 об.]. И хотя у нас нет сведений о пребывании Крайнева в Оптиной пустыни, вполне возможно, что он все-таки попал в какой-либо монастырь под духовный надзор.
АСКЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И МИСТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Чтобы лучше понять принципы, которыми руководствовались церковные власти в деле Крайнева, необходимо обозначить богословский контекст, к которому относятся рассуждения митрополита Филарета и архимандрита Антония (Медведева). Контекст этот был связан в русской экклезиастической традиции Нового времени с направлением «Добротолюбия»[125 - О движении «Добротолюбия» см.: Zamfirescu D. A Fundamental Book of the European Culture. Bucharest, 1991; Tachiaos A.-E.N. The Revival of Byzantine Mysticism among Slavs and Romanians in the 18th Century. Texts Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky. Thessaloniki, 1986.].
Опубликованная между 1794 и 1797 годами антология аскетических сочинений под названием «Добротолюбие», основу которой составили греческое издание и переводы игумена молдавских монастырей Паисия Величковского, сделала доступными для русского читателя «классику православной аскетики» с IV до XIV столетия, включая Антония Великого (251–356), «иноческого жития первоначальника» аввы Евагрия Понтийского (ок. 345–399), «великого учителя созерцательной жизни» Марка Подвижника (IV век), Иоанна Кассиана Римлянина (360–435), Симеона Нового Богослова (949–1022) и др.[126 - Лисовой Н.Н. Две эпохи – два «Добротолюбия». (Преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник) // Церковь в истории России. Сб. 2. М., 1998, 108–178; Paert I. Spiritual Elders. Charisma and Tradition in Russian Orthodoxy. DeKalb, 2010. Chapters 1–2.] «Добротолюбие», выдержавшее шесть переизданий с конца XVIII до середины XIX века и переведенное с церковнославянского на русский в конце XIX столетия, вдохновило многих мирян на практику «умной» медитативной молитвы, поиска мистического опыта, связанного в данном случае с древней практикой восточнохристианской церкви, а не с «импортированными» или сектантскими духовными практиками.
«Добротолюбие» – «паспорт для духовного странствия», по выражению почитаемого старца XIX века иеромонаха Адриана Югского, – стало для многих путеводителем в обучении медитативной молитве, о популярности которой в XIX веке среди монашествующих и мирян говорят письма к старцам, авторы которых рассказывают о технике молитвы, своих переживаниях, откровениях и эмоциональном настрое во время молитвы. И хотя большинство опытов мы знаем только по ответам старцев, можно судить о достаточно широком разнообразии практик. Судя по этим письмам, многие действительно считали, что присутствие Божие, благодать выражаются в физических ощущениях (особенно ощущение теплоты в сердце), в изменении эмоционального состояния (чувство умиления, слезы), видениях во сне и наяву[127 - См., например, выдержки из писем старцев в кн.: Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев. М., 2000, 153–162.].
Реагируя на распространенность таких духовных практик, архимандрит Игнатий (Брянчанинов), настоятель Сергиевой пустыни, и старцы Оптиной пустыни предупреждали о духовной опасности занятий молитвой для людей, ищущих в этом возвышенных и приятных ощущений. Они не рекомендовали читать из «Добротолюбия» главы, в которых говорится о благодати, а мирянам вообще не советовали читать подобные сочинения. Согласно Брянчанинову, получение физического наслаждения в молитве является «уделом только святых», тогда как человек, не очистившийся от страстей, не может отличить божественное от демонического. Прелесть, то есть ложное, фальшивое состояние, в котором находится человечество в результате первородного греха, выражается в самообольщении, неумении различать между добром и злом, между правдой и ложью. «Прелесть действует первоначально на образ мыслей; будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения, овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное Творцом с душою»[128 - Стрижев А.Н. (Сост.). Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. М., 2001. Т. 1, 214.]. Иеромонах Оптинский Макарий (Иванов) ссылается на святого Исаака Сирина, предупреждающего против целенаправленного поиска в молитве «сладостных ощущений духовных», «для преждевременного опыта видения и созерцания божественного»[129 - Иеромонах Макарий (Иванов). Предостережение читающим духовные отеческие книги и желающим проходить умную Иисусову молитву // https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Optinskij/predosterezhenie-chitajushhim-dukhovnye-otecheskie-knigi-i-zhelajushhim-prokhodit-umnuju-iisusovu-molitvu/, 20.06.2019.].
Критика Брянчанинова и Макария строилась не на отрицании духовного опыта как такового, но указывала на возможность другого источника этого опыта, не божественного, но демонического. Неправильный духовный настрой, выражавшийся, по их мнению, в мечтательной молитве, в духовной незрелости, желании получить духовные наслаждения прежде очищения души от страстей, мог привести не просто к духовным ошибкам, но даже к психическим заболеваниям. Об опасности столкновения с духами тьмы при переходе границ видимого и невидимого мира писал позднее отец Павел Флоренский. Эта граница понимается как пространство, в котором интенсифицируется духовная борьба, так что в процессе перехода возникает возможность обмана, обольщения, когда «призраки» и «тени чувственного мира» могут быть приняты за ангелов и явления мира духовного. «Мир цепляется за своего раба, липнет, расставляет сети и прельщает якобы достигнутым выходом в область духовную, и стерегущие эти выходы духи и силы отнюдь не „стражи порогов“, то есть не благие защитники заповедных областей, не существа мира духовного, а приспешники „князя власти воздушной“, прельстители и обольстители, задерживающие душу у грани миров»[130 - Флоренский П. Иконостас, 20–21.].
Брянчанинов писал, что такой род «прелести», в которую впадают практикующие молитву без покаяния, ищущие наслаждения и восторга в своих духовных упражнениях, ведет к ложному представлению о себе, когда приписываются себе несуществующие добродетели и достоинства, что могло вести к сумасшествию и самоубийству. Брянчанинов с иронией рассказывал о некоем афонском монахе, посетившем его в Сергиевой пустыни, который молился «восторженной», «мечтательной» молитвой, носил вериги, почти не спал, мало ел и ощущал в теле такой жар, что не нуждался в теплой одежде. Брянчанинов дал ему совет:
«Смотри, старец! Будешь жить в Петербурге, никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй непременно в нижнем». – «Отчего так?» – возразил Афонец. «Оттого, что если вздумается ангелам, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга на Афон, и они понесут из верхнего этажа да уронят, то убьешься до смерти; если же понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься». – «Представь себе, – отвечал Афонец, – сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что Ангелы восхитят меня и поставят на Афоне»[131 - Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. 1, 223–224.].
История об афонском монахе заканчивается благополучно: вняв совету архимандрита Игнатия, монах перестал использовать свое воображение в молитве и «погружался весь во внимание словам молитвы». Как результат, его видения пропали, он стал больше есть, больше спать и перестал испытывать жар в теле[132 - Там же.].
Еще примеры: некая сестра Елена, из духовных дочерей оптинских старцев Леонида (Наголкина) и Макария (Иванова), сообщала другим сестрам о своих видениях Богородицы и образов креста над всеми причащающимися сестрами в монастыре. Иеромонах Макарий считал, что она является «прельщенной», и призывал других не доверять ее видениям[133 - Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 213. Оп. 80. Д. 1. Л. 154.]. Иеромонах Амвросий (Гренков), комментируя переживания одного своего корреспондента, мирянина, писал: «Видения бывшие тебе и представлявшиеся не истинны, как-то: видение воскресшего Господа, видение Божией Матери и прочее подобное. Впредь не верь ни снам, ни видениям. Все это опасно и обольстительно и не увенчивается добрым концом»[134 - Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. Ч. 3. 1-е изд. Сергиев Посад, 1908, 141–142.]. Отец Амвросий связывал видения с неправильным «мечтательным» способом молитвы, видимо, описываемым его корреспондентом, и советовал: «Прежний образ молитвы оставь и не дерзай восходить умом на небо и представлять непостижимое Божество во образе. Благоговейно поклоняйся на иконе образу Святой Троицы, но не представляй умом Божество в таком виде…»[135 - Там же.]. В последнем случае визионерский опыт связывается с техникой молитвы, в которой задействовано воображение.
Методика духовной борьбы, зародившаяся в опытном аскетическом богословии монахов и пустынников в IV–VI веках на христианском Востоке, в западном средневековом богословии была развита в теологический дискурс о «различении духов» (discretio spirituum) и стала использоваться инквизиторами в делах, связанных с визионерами и мистиками. И хотя учение о различении духов могло использоваться и в целях легитимации визионерского опыта, все-таки во многих случаях этот богословский дискурс использовался как инструмент духовного контроля. Так, в деле Жанны д’Арк этот дискурс послужил к осуждению визионерки: судьи подвергли сомнению божественный источник ее видений, настаивая, что слышимые ею голоса были демоническими духами. Инквизиторы руководствовались следующими критериями: а) характером инструкций, полученных от духов (согласны ли они с Писанием, каноническим правом и с учением церкви), и б) характером и поведением визионерки[136 - Christian W. Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain. Princeton, 1981, 191. Вслед за бенедиктинским ученым монахом Пасхалем Боландом, опубликовавшим свой труд в 1959 году, ученые оценили значение discretio spirituum в Европе Средних веков и раннего Нового времени: Boland P. The Concept of Discretio Spirituum in John Gerson’s „De Probatione Spiritumm“ and „De Distinctione Verarum Visionum a Falsis“. Washington, 1959; Voaden R. God’s Words, Women’s Voices: The Discernment of Spirits in the Writing of Late-Medieval Women Visionaries. Woodbridge, 1999; Andrew W.K. Inventing the Sacred: Imposture, Inquisition and the Boundaries of the Supernatural in Golden Age Spain. Leiden, 2005; Yoshikawa N.K. Margery Kemp’s Meditations: The Context of Medieval Devotional Literature, Liturgy and Iconography. Cardiff, 2007.]. «Различение духов» оставалось важным принципом христианского воспитания, хотя и не применялось в качестве репрессивной меры против визионеров, и после католической реформы, особенно среди последователей Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов, знакомого и с трудами восточнохристианского аскетического богословия.
И хотя в православии не было аналога западноевропейскому дискурсу о различении духов, в своей практике и понимании «прелести» многие духовники руководствовались схожими рассуждениями. О настороженном отношении к видениям свидетельствуют русские монашеские патерики XVI века[137 - Как цитируется из Волоколамского патерика в: Алексеев А. [Рец. на кн.] Пигин А.В., 257–261.]. В XIX веке архимандрит Игнатий (Брянчанинов) и иеромонах Макарий (Иванов) придерживались традиции безобразной молитвы, главным теоретиком которой был авва Евагрий Понтийский. Используя платоническое учение о тройственном строении души, состоящей из вожделеющей, яростной и рассудительной частей, Евагрий писал, что демонические помыслы (????????) воздействуют на вожделеющую и яростную части, возбуждая чувства привязанности и желания, культивируя страсти и уводя человека от его истинной цели – богообщения. Именно поэтому Евагрий и другие аскетические писатели относились с подозрением к визуализации божественной реальности в созерцательной активности, за что Евагрий и был прозван «радикальным духовным иконоборцем»[138 - Les six centuries des «Kephalaia gnostica» d’Еvagre le Pontique / еd. critique de la version syriaque commune et еd. d’une nouvelle version syriaque, intеgrale, avec une double trad. fran?aise par A. Guillaumont. PO 28.1. No. 134. Paris, 1958, цит. по Konstantinovsky J. Evagrius Ponticus. The Making of a Gnostic. Farnham, 2009, 28.].
Интересным вопросом, остающимся за пределами данной статьи, остается соотношение традиционного дуалистического аскетического подхода к духовным явлениям и понимания некоторых необычных явлений как результата физиологических процессов. В западном средневековом дискурсе о видениях используются рассуждения Августина Гиппонского о психосоматических причинах некоторых видений[139 - De Genesi ad Litteram цит. по: Newman B. What Did It Mean to Say „I Saw“, 7.]. Нам неизвестны ссылки на эти сочинения Августина у православных богословов XIX века. В связи с интересом теологов к научным и медицинским открытиям можно было бы предполагать, что более рациональные объяснения будут доминировать над аскетическим подходом. Тем не менее в эпоху Серебряного века происходит возрождение и включение в академический дискурс аскетического богословия, как это нашло отражение в работах профессора Московской духовной академии И.В. Попова и отца Павла Флоренского[140 - Попов И.В. Идея обожения в древневосточной церкви. М., 1909; Флоренский П. Столп и Утверждение Истины. Опыт православной феодицеи в двенадцати письмах. М., 1914.].
Таким образом, дело Крайнева служит примером того, как аскетическое богословие использовалось некоторыми церковными иерархами в оценке явлений народного благочестия. Это дело достаточно уникально, и нам пока неизвестны аналоги этого случая, хотя мы знаем, что «экспертиза» признанных Синодом старцев часто была востребована в случаях с монастырскими беспорядками, «ересями» и прочими «нестроениями»[141 - Например, во время Валаамского дела в 1838 году или в деле имяславцев в 1913 году. См.: Paert I. Spiritual Elders, 92.]. Использование в церковной практике эпохи модерности «архаичных» дискурсов – понятия «прелести» или различения духов – не должно вызывать удивления: на самом деле этот критерий позволял в лучшей мере рационализировать визионерство и другие сверхъестественные явления, избежав соблазнов скептицизма или позитивизма.
Более того, следует иметь в виду, что применение дискурса различения духов и прелести в церковной политике было явлением ограниченным, сводясь к «Оптинской школе», которая несмотря на свою значимость (из нее вышли четыре иерея и несколько настоятелей и благочинных достаточно влиятельных в России монастырей) все-таки не преобладала в церковных «верхах»[142 - Запальский Г.М. Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825–1917 годах. М., 2009, 142–144.]. Митрополит Филарет, безусловно, был тесно связан с этой «школой», активно участвуя в издательской деятельности Оптиной пустыни и опираясь на ту же традицию «духовного трезвения», характерную для оптинцев. С точки зрения церковной политики,, проблема «видений» не существовала как отдельная тема, а была связана с другими, более распространенными проявлениями «народного благочестия» – иконопочитанием, почитанием мощей и святых.
Кроме аскетического подхода церковных деятелей к сверхъестественным явлениям существовали и другие, возможно, более доминирующие подходы, как, например, скептицизма и здравого смысла, часто зависящие от образовательного уровня и позиции того или иного церковного деятеля. Публикация житий и жизнеописаний популярных святых сопровождалась взвешенным обсуждением того, насколько описанные «чудеса» соответствуют православному богословию. Православный цензор выступал в роли трезвого критика, не отрицающего чудесное явление, но находящегося в согласии с шотландским философом Дэвидом Юмом, который писал, что «всякое свидетельство чуда, даже весьма возможного, всегда намного меньше, чем доказательство». Так, в 1854 году архимандрит Иоанн (Соколов) рецензировал жизнеописание Серафима Саровского, составленное иеромонахом Иоасафом (Толстошеевым). Известное предание о явлении Божией Матери Серафиму описывалось цензором так:
Из этих явлений только одно описывается довольно обстоятельно, но при этом излагаются некоторые слова Богоматери, не совсем понятные и странные: «это лежит нашего рода». О прочих же явлениях Ея говорится без всяких объяснений и доказательств. Так как столь многократного посещения матери Божией не видно в жизни и великих и прославленных Церковью святых, то – с одной стороны, чтобы прежде официальных начальственных исследований о лице Серафима, от этого не возбуждались какие-либо недоумения относительно жизнеописания Серафима, а с другой – чтобы и не отрицать видений Серафима без дальнейших исследований, я полагаю, исключив отдельные сказания о четырех видениях, оставить одно замечание, что старец Серафим по вере был удостоен явления Матери Божией[143 - РГИА. Ф. 807. Оп. 2. Д. 1492. Л. 23.].
Следует заметить, что такой церковный скептицизм, достаточно распространенный среди иерархов, получивших образование в духовных академиях, не отрицает возможности чудесного, но оперирует категориями здравого смысла, очищая и исправляя поток «сказаний», свидетельств и опытов, находящихся на границе между вероятным и абсурдным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обычно считается, что церковь имеет дело с иррациональными явлениями чаще, чем другие институты общества. Таинство евхаристии и обряды, связанные с освящением предметов материального мира, являются в чем-то обыденным явлением церковной жизни. Рассматривая православную церковность как явление более широкое, включающее и «народное», и «официальное» благочестие, Шевцов пишет об «иерофантном»[144 - От слова «иерофант» (термин, часто встречающийся у Мирчи Элиаде), которое образовано из греч. ????? (hieros) – «священный» и ??????? (phainein) – «являть», и которое можно перевести как «манифестация священного».] характере священного объекта (например, иконы), диктующем почитание и признание сверхъестественного как «реальности»: таково было, по словам исследовательницы, типичное отношение к подобным объектам со стороны иерархов[145 - Shevzov V. Russian Orthodoxy, 208.]. Даже если они ограничивали или преуменьшали сферу действия объектов, ассоциирующихся с иерофантным чудесным действием иконы, они не отрицали сам факт чудесного[146 - Ibid., 74.].
Тем не менее визионерство как явление харизматическое взрывает рутинность ежедневной церковной жизни, свидетельствуя о близости «границы» видимого и невидимого и подвигая общество на какое-то социальное или духовное действие (покаяние, почитание святыни). Именно социальное значение видений ведет к столкновению разных дискурсов и позиций. Видение может стать источником противоречивых интерпретаций, а разные структуры власти вовлекаются в разворачивающиеся события.
Дело Ануфрия Крайнева, которое находится в центре нашего рассуждения, служит примером того, как пережитый опыт повышает социальный статус, облекает властью и делает известным простого верующего. Визионер не является слабым и безгласным мирянином, его связь со святым дает ему большую власть. Таким образом, участие церковной власти в этом процессе нельзя рассматривать как подавление спонтанного духовного творчества мирян, ищущих личных контактов со святостью.
Также было бы несправедливо интерпретировать действия власти как рационализацию нуминозного опыта. Личное свидетельство визионера, о котором мы можем судить только через призму официального источника, осмысляется и интерпретируется через призму позднеантичного аскетического учения о «различении духов» и прелести. В данном случае мы имеем дело не столько с официальной политикой синодальной церкви, которая в этот период не противодействовала проявлениям народного благочестия, таким как чудесные явления икон или видения, сколько с особым направлением в восточнохристианском богословии, практиковавшимся в некоторых монашеских общинах допетровской и послепетровской России и только к концу XIX века инкорпорированным в академическое богословие. Близость митрополита Филарета к этому направлению (условно обозначенному как направление «Добротолюбия») способствовало тому, что в случаях проявления мистицизма и заявления о чудесах иерарх мог обращаться к авторитету опытных монахов Оптиной пустыни или Троице-Сергиевой лавры. В литературе часто присутствует понимание богословия «Добротолюбия» как мистического и «иррационального». Представленные рассуждения показывают, что одним из важных аспектов «Добротолюбия» было духовное трезвение, то есть внимательное отношение к происхождению духовных явлений, определение их источника или как божественного, или как демонического. В то же время представители церковной иерархии пользовались и другими оценочными категориями для описания проявлений народного благочестия: они применяли скептицизм петровского времени, расценивая некоторые «чудеса» как сознательную манипуляцию или обман (говоря словами той эпохи – «пустосвятство» и «ханжество»), а также использовали здравый смысл.
«ЧУДОТВОРНЫЕ» СПОСОБНОСТИ «БРАТЦА» ИОАННА ЧУРИКОВА С РЕЛИГИОЗНОЙ И СВЕТСКОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1894–1917)
Пейдж Херлингер
Судя по всему, вера в возможность иррациональных событий, особенно таких, как чудесные исцеления и пророчества, на рубеже XIX и XX веков получила в России чрезвычайно широкое распространение. Россияне православного вероисповедания как по отдельности, так и от лица целых общин с поразительным постоянством сообщали о случаях своих собственных или чужих исцелений, необъяснимых или непостижимых без ссылки на небесные силы. Несмотря на распространение и совершенствование медицинских методов лечения, верующие сплошь и рядом обращались к святым и к чудотворным иконам, надеясь на божественное вмешательство, которое избавит их от болезней и вызванных ими страданий. Кроме того, ежегодно сотни тысяч паломников посещали святые места либо в знак благодарности за ответ на свои молитвы, либо в надежде на то, что контакт с мощами своего святого покровителя (воспринимавшимися как точка, где земля встречается с небом) положит конец их мучениям[147 - Исследования в рамках работы над данной статьей были выполнены на грант, щедро выделенный Национальным фондом содействия гуманитарным исследованиям (National Endowment for the Humanities). Любые взгляды, результаты исследований и сделанные из них выводы, представленные в данной статье, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения NEH.Greene R.H. Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Orthodox Russia. DeKalb, 2010, chapter 2; Kenworthy S. The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism, and Society after 1825. Oxford, 2010, chapter 5; Worobec C. Miraculous Healings // Steinberg M., Coleman H. (Ed.). Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia. Bloomington, 2007, 22–43.].
По большей части православная церковь не только одобряла, но и активно насаждала страстную веру паствы в возможность чудесных исцелений. Как указывают исследователи, церковные власти в конце XIX века стали менее скептично относиться к чудесам – в немалой мере из-за того, что сами верующие по-прежнему признавали их даже при отсутствии одобрения со стороны церкви[148 - Как указывал Грегори Фриз, канонизации, проводившиеся в начале XX века, отчасти представляли собой предпринятую православным государством попытку восстановить свою сакральность; при этом чудесные события по сути увязывались скорее с религиозной или светской – а не божественной или эмпирической – властью: Freeze G.L. Subversive Piety: Religion and the Political Crisis in Late Imperial Russia // Journal of Modern History. Vol. 68. No. 2. 1996, 308–350.]. Последней стало ясно, что, отказывая людям в чудесах, она идет на риск обращения своих прихожан в другую веру. Так, если за весь XIX век были проведены всего четыре канонизации, то в годы правления Николая II церковь инициировала канонизацию еще шестерых человек[149 - Worobec C. Miraculous Healings, 23.] – включая Серафима Саровского, Питирима Тамбовского и Иоасафа Белгородского. В ходе канонизационного процесса церковь призывала верующих фиксировать подробности своих исцелений; далее церковные власти изучали рассказы о «чудесах», и те из них, которые были сочтены правдивыми, публиковались в церковной печати. Даже в тех случаях, когда верующие не имели возможности добиваться официального признания чудес, – обычно из-за больших сложностей, связанных с предоставлением доказательств божественного вмешательства, – духовенство старалось не подвергать рассказы верующих сомнению, вместо этого предпочитая поощрять больных и умирающих к использованию как религиозных, так и медицинских методов лечения. И несмотря на выдвигаемые против церкви обвинения в неуместном стремлении наживаться на народной вере, церковные власти в ответ на желание людей получить помощь от святых санкционировали в святых местах активную торговлю религиозными товарами, включая свечи, святую воду, освященные масла и другие предметы, якобы обладающие «целительной силой», потому что к ним прикасались святые, – включая и землю, по которой те ходили.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: