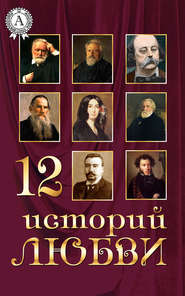скачать книгу бесплатно
Кити с гордым видом, не помирившись с своим другом, взяла со стола коральки в коробочке и пошла к матери.
– Что с тобой? Что ты такая красная? – сказали ей мать и отец в один голос.
– Ничего, – отвечала она, – я сейчас приду, – и побежала назад.
«Она еще тут! – подумала она. – Что я скажу ей, Боже мой! что я наделала, что я говорила! За что я обидела ее? Что мне делать? Что я скажу ей?» – думала Кити и остановилась у двери.
Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Кити. Она подняла голову.
– Варенька, простите меня, простите! – прошептала Кити, подходя к ней. – Я не помню, что я говорила. Я…
– Я, право, не хотела вас огорчать, – сказала Варенька улыбаясь.
Мир был заключен. Но с приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась; почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться; кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила; ей мучительны показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми.
Но любовь ее к Вареньке не ослабела. Прощаясь, Кити упрашивала ее приехать к ним в Россию.
– Я приеду, когда вы выйдете замуж, – сказала Варенька.
– Я никогда не выйду.
– Ну, так я никогда не приеду.
– Ну, так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание! – сказала Кити.
Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести ее стали воспоминанием.
Часть третья
I
Сергей Иванович Кознышев хотел отдохнуть от умственной работы и, вместо того чтоб отправиться, по обыкновению, за границу, приехал в конце мая в деревню к брату. По его убеждениям, самая лучшая жизнь была деревенская. Он приехал теперь наслаждаться этою жизнию к брату. Константин Левин был очень рад, тем более что он не ждал уже в это лето брата Николая. Но, несмотря на свою любовь и уважение к Сергею Ивановичу, Константину Левину было в деревне неловко с братом. Ему неловко, даже неприятно было видеть отношение брата к деревне. Для Константина Левина деревня была место жизни, то есть радостей, страданий, труда; для Сергея Ивановича деревня была, с одной стороны, отдых от труда, с другой – полезное противоядие испорченности, которое он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для труда несомненно полезного; для Сергея Ивановича деревня была особенно хороша тем, что там можно и должно ничего не делать. Кроме того, и отношение Сергея Ивановича к народу несколько коробило Константина. Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и часто беседовал с мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в пользу народа и в доказательство, что знал этот народ. Такое отношение к народу не нравилось Константину Левину. Для Константина народ был только главный участник в общем труде, и, несмотря на все уважение и какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы-кормилицы, он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищенье от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если б у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ так же, как и вообще людей. Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог, потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог противопоставлять себя народу. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам как хозяин и посредник, а главное, как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться), он не имел никакого определенного суждения о народе, и на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, и беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые. Сергей Иванович напротив. Точно так же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противоположения. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения.
В случавшихся между братьями разногласиях при суждении о народе Сергей Иванович всегда побеждал брата именно тем, что у Сергея Ивановича были определенные понятия о народе, его характере, свойствах и вкусах; у Константина же Левина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих спорах Константин всегда был уличаем в противоречии самому себе.
Для Сергея Ивановича меньшой брат его был славный малый, с сердцем, поставленным хорошо (как он выражался по-французски), но с умом хотя и довольно быстрым, однако подчиненным впечатлениям минуты и потому исполненным противоречий. Со снисходительностью старшего брата он иногда объяснял ему значение вещей, но не мог находить удовольствия спорить с ним, потому что слишком легко разбивал его.
Константин Левин смотрел на брата, как на человека огромного ума и образования, благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем старше он становился и чем ближе узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, которой он чувствовал себя совершенно лишенным, может быть, и не есть качество, а, напротив, недостаток чего-то – не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни, того, что называют сердцем, того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более замечал, что и Сергей Иванович и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим. В этом предположении утвердило Левина еще и то замечание, что брат его нисколько не больше принимал к сердцу вопросы об общем благе и о бессмертии души, чем о шахматной партии или об остроумном устройстве новой машины.
Кроме того, Константину Левину было в деревне неловко с братом еще и оттого, что в деревне, особенно летом, Левин бывал постоянно занят хозяйством, и ему недоставало длинного летнего дня, для того чтобы переделать все, что нужно, а Сергей Иванович отдыхал. Но хотя он и отдыхал теперь, то есть не работал над своим сочинением, он так привык к умственной деятельности, что любил высказывать в красивой сжатой форме приходившие ему мысли и любил, чтобы было кому слушать. Самый же обыкновенный и естественный слушатель его был брат. И потому, несмотря на дружескую простоту их отношений, Константину неловко было оставлять его одного. Сергей Иванович любил лечь в траву на солнце и лежать так, жарясь, и лениво болтать.
– Ты не поверишь, – говорил он брату, – какое для меня наслажденье эта хохлацкая лень. Ни одной мысли в голове, хоть шаром покати.
Но Константину Левину скучно было сидеть, слушая его, особенно потому, что он знал, без него возят навоз на неразлешенное поле и навалят Бог знает как, если не посмотреть; и резцы в плугах не завинтят, а поснимают и потом скажут, что плуги выдумка пустая и то ли дело соха Андреевна, и т. п.
– Да будет тебе ходить по жаре, – говорил ему Сергей Иванович.
– Нет, мне только на минутку забежать в контору, – говорил Левин и убегал в поле.
II
В первых числах июня случилось, что няня и экономка Агафья Михайловна понесла в подвал баночку с только что посоленными ею грибками, поскользнулась, упала и свихнула руку в кисти. Приехал молодой болтливый, только что кончивший курс студент, земский врач. Он осмотрел руку, сказал, что она не вывихнута, наложил компрессы и, оставшись обедать, видимо наслаждался беседой со знаменитым Сергеем Ивановичем Кознышевым и рассказывал ему, чтобы высказать свой просвещенный взгляд на вещи, все уездные сплетни, жалуясь на дурное положение земского дела. Сергей Иванович внимательно слушал, расспрашивал и, возбуждаемый новым слушателем, разговорился и высказал несколько метких и веских замечаний, почтительно оцененных молодым доктором, и пришел в свое, знакомое брату, оживленное состояние духа, в которое он обыкновенно приходил после блестящего и оживленного разговора. После отъезда доктора Сергей Иванович пожелал ехать с удочкой на реку. Он любил удить рыбу и как будто гордился тем, что может любить такое глупое занятие.
Константин Левин, которому нужно было на пахоту и на луга, вызвался довезти брата в кабриолете.
Было то время года, перевал лета, когда урожай нынешнего года уже определился, когда начинаются заботы о посеве будущего года и подошли покосы, когда рожь вся выколосилась и, серо-зеленая, не налитым, еще легким колосом волнуется по ветру, когда зеленые овсы, с раскиданными по ним кустами желтой травы, неровно выкидываются по поздним посевам, когда ранняя гречиха уже лопушится, скрывая землю, когда убитые в камень скотиной пары с оставленными дорогами, которые не берет соха, вспаханы до половины; когда присохшие вывезенные кучи навоза пахнут по зарям вместе с медовыми травами, и на низах, ожидая косы, стоят сплошным морем береженые луга с чернеющимися кучами стеблей выполонного щавельника.
Было то время, когда в сельской работе наступает короткая передышка пред началом ежегодно повторяющейся и ежегодно вызывающей все силы народа уборки. Урожай был прекрасный, и стояли ясные, жаркие летние дни с росистыми короткими ночами.
Братья должны были проехать чрез лес, чтобы подъехать к лугам. Сергей Иванович любовался все время красотою заглохшего от листвы леса, указывая брату то на темную с тенистой стороны, пестреющую желтыми прилистниками, готовящуюся к цвету старую липу, то на изумрудом блестящие молодые побеги дерев нынешнего года. Константин Левин не любил говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел. Он поддакивал брату, но невольно стал думать о другом. Когда они проехали лес, все внимание его поглотилось видом парового поля на бугре, где желтеющего травой, где сбитого и изрезанного клетками, где уваленного кучами, а где и вспаханного. По полю ехали вереницей телеги. Левин сосчитал телеги и остался довольным тем, что вывезется все, что нужно, и мысли его перешли при виде лугов на вопрос о покосе. Он всегда испытывал что-то особенно забирающее за живое в уборке сена. Подъехав к лугу, Левин остановил лошадь.
Утренняя роса еще оставалась внизу на густом подседе травы, и Сергей Иванович, чтобы не мочить ноги, попросил довезти себя по лугу в кабриолете до того ракитового куста, у которого брались окуни. Как ни жалко было Константину Левину мять свою траву, он въехал в луг. Высокая трава мягко обвивалась около колес и ног лошади, оставляя свои семена на мокрых спицах и ступицах.
Брат сел под кустом, разобрав удочки, а Левин отвел лошадь, привязал и вошел в не движимое ветром огромное серо-зеленое море луга. Шелковистая с выспевающими семенами трава была по пояс на заливном месте.
Перейдя луг поперек, Константин Левин вышел на дорогу и встретил старика с опухшим глазом, несшего роевню с пчелами.
– Что? или поймал, Фомич? – спросил он.
– Какой поймал, Константин Митрич! Только бы своих уберечь. Ушел вот второй раз другак… Спасибо, ребята доскакали. У вас пашут. Отпрягли лошадь, доскакали…
– Ну, что скажешь, Фомич, – косить или подождать?
– Да что ж! По-нашему, до Петрова дня подождать. А вы раньше всегда косите. Что ж, Бог даст травы добрые. Скотине простор будет.
– А погода, как думаешь?
– Дело Божье. Может, и погода будет.
Левин подошел к брату. Ничего не ловилось, но Сергей Иванович не скучал и казался в самом веселом расположении духа. Левин видел, что, раззадоренный разговором с доктором, он хотел поговорить. Левину же, напротив, хотелось скорее домой, чтобы распорядиться о вызове косцов к завтрему и решить сомнение насчет покоса, которое сильно занимало его.
– Что ж, поедем, – сказал он.
– Куда ж торопиться? Посидим. Как ты измок, однако! Хоть не ловится, но хорошо. Всякая охота тем хороша, что имеешь дело с природой. Ну что за прелесть эта стальная вода! – сказал он. – Эти берега луговые всегда напоминают мне загадку, – знаешь? Трава говорит воде, а мы пошатаемся, пошатаемся.
– Я не знаю этой загадки, – уныло отвечал Левин.
III
– А знаешь, я о тебе думал, – сказал Сергей Иванович. – Это ни на что не похоже, что у вас делается в уезде, как мне порассказал этот доктор; он очень неглупый малый. И я тебе говорил и говорю: нехорошо, что ты не ездишь на собрания и вообще устранился от земского дела. Если порядочные люди будут удаляться, разумеется, все пойдет Бог знает как. Деньги мы платим, они идут на жалованье, а нет ни школ, ни фельдшеров, ни повивальных бабок, ни аптек, ничего нет.
– Ведь я пробовал, – тихо и неохотно отвечал Левин, – не могу! ну что ж делать!
– Да чего ты не можешь? Я, признаюсь, не понимаю. Равнодушия, неуменья я не допускаю; неужели просто лень?
– Ни то, ни другое, ни третье. Я пробовал и вижу, что ничего не могу сделать, – сказал Левин.
Он мало вникал в то, что говорил брат. Вглядываясь за реку на пашню, он различал что-то черное, но не разобрать, лошадь это или приказчик верхом.
– Отчего же ты не можешь ничего сделать? Ты сделал попытку, и не удалось по-твоему, и ты покоряешься. Как не иметь самолюбия?
– Самолюбия, – сказал Левин, задетый за живое словами брата, – я не понимаю. Когда бы в университете мне сказали, что другие понимают интегральное вычисление, а я не понимаю, – тут самолюбие. Но тут надо быть убежденным прежде, что нужно иметь известные способности для этих дел и, главное, в том, что все эти дела важны очень.
– Так что ж! это не важно? – сказал Сергей Иванович, задетый за живое и тем, что брат его находил неважным то, что его занимало, и в особенности тем, что он, очевидно, почти не слушал его.
– Мне не кажется важным, не забирает меня, что ж ты хочешь?.. – отвечал Левин, разобрав, что то, что он видел, был приказчик, и что приказчик, вероятно, спустил мужиков с пахоты. Они перевертывали сохи. «Неужели уж отпахали?» – подумал он.
– Ну, послушай, однако, – нахмурив свое красивое умное лицо, сказал брат, – есть границы всему. Это очень хорошо быть чудаком и искренним человеком и не любить фальшь, – я все это знаю; но ведь то, что ты говоришь, или не имеет смысла, или имеет очень дурной смысл. Как ты находишь неважным, что тот народ, который ты любишь, как ты уверяешь…
«Я никогда не уверял», – подумал Константин Левин.
– …мрет без помощи? Грубые бабки замаривают детей, и народ коснеет в невежестве и остается во власти всякого писаря, а тебе в руки дано средство помочь этому; и ты не помогаешь, потому что это не важно.
И Сергей Иванович поставил ему дилемму: или ты так неразвит, что не можешь видеть всего, что можешь сделать, или ты не хочешь поступиться своим спокойствием, тщеславием, я не знаю чем, чтоб это сделать.
Константин Левин чувствовал, что ему остается только покориться или признаться в недостатке любви к общему делу. И это его оскорбило и огорчило.
– И то и другое, – сказал он решительно. – Я не вижу, чтобы можно было…
– Как? Нельзя, хорошо разместив деньги, дать врачебную помощь?
– Нельзя, как мне кажется… На четыре тысячи квадратных верст нашего уезда, с нашими зажорами, метелями, рабочею порой, я не вижу возможности давать повсеместно врачебную помощь. Да и вообще не верю в медицину.
– Ну, позволь; это несправедливо… Я тебе тысячи примеров назову… Ну, а школы?
– Зачем школы?
– Что ты говоришь? Разве может быть сомнение в пользе образования? Если оно хорошо для тебя, то и для всякого.
Константин Левин чувствовал себя нравственно припертым к стене и потому разгорячился и высказал невольно главную причину своего равнодушия к общему делу.
– Может быть, все это хорошо; но мне-то зачем заботиться об учреждении пунктов медицинских, которыми я никогда не пользуюсь, и школ, куда я своих детей не буду посылать, куда и крестьяне не хотят посылать детей, и я еще не твердо верю, что нужно их посылать? – сказал он.
Сергея Ивановича на минуту удивило это неожиданное воззрение на дело; но он тотчас составил новый план атаки.
Он помолчал, вынул одну удочку, перекинул и, улыбаясь, обратился к брату.
– Ну, позволь… Во-первых, пункт медицинский понадобился. Вот мы для Агафьи Михайловны послали за земским доктором.
– Ну, я думаю, что рука останется кривою.
– Это еще вопрос… Потом грамотный мужик, работник тебе же нужнее и дороже.
– Нет, у кого хочешь спроси, – решительно отвечал Константин Левин, – грамотный как работник гораздо хуже. И дороги починить нельзя; а мосты как поставят, так и украдут.
– Впрочем, – нахмурившись, сказал Сергей Иванович, не любивший противоречий и в особенности таких, которые беспрестанно перескакивали с одного на другое и без всякой связи вводили новые доводы, так что нельзя было знать, на что отвечать, – впрочем, не в том дело. Позволь. Признаешь ли ты, что образование есть благо для народа?
– Признаю, – сказал Левин нечаянно и тотчас же подумал, что он сказал не то, что думает. Он чувствовал, что если он признает это, ему будет доказано, что он говорит пустяки, не имеющие никакого смысла. Как это будет ему доказано, он не знал, но знал, что это, несомненно, логически будет ему доказано, и он ждал этого доказательства.
Довод вышел гораздо проще, чем того ожидал Константин Левин.
– Если ты признаешь это благом, – сказал Сергей Иванович, – то ты, как честный человек, не можешь не любить и не сочувствовать такому делу и потому не желать работать для него.
– Но я еще не признаю этого дела хорошим, – покраснев, сказал Константин Левин.
– Как? Да ты сейчас сказал…
– То есть я не признаю его ни хорошим, ни возможным.
– Этого ты не можешь знать, не сделав усилий.
– Ну, положим, – сказал Левин, хотя вовсе не полагал этого, – положим, что это так; но я все-таки не вижу, для чего я буду об этом заботиться.
– То есть как?
– Нет, уж если мы разговорились, то объясни мне с философской точки зрения, – сказал Левин.
– Я не понимаю, к чему тут философия, – сказал Сергей Иванович, как показалось Левину, таким тоном, как будто он не признавал права брата рассуждать о философии. И это раздражило Левина.
– Вот к чему! – горячась, заговорил он. – Я думаю, что двигатель всех наших действий есть все-таки личное счастье. Теперь в земских учреждениях я, как дворянин, не вижу ничего, что бы содействовало моему благосостоянию. Дороги не лучше и не могут быть лучше; лошади мои везут меня и по дурным. Доктора и пункта мне не нужно. Мировой судья мне не нужен, – я никогда не обращаюсь к нему и не обращусь. Школы мне не только не нужны, но даже вредны, как я тебе говорил. Для меня земские учреждения просто повинность платить восемнадцать копеек с десятины, ездить в город, ночевать с клопами и слушать всякий вздор и гадости, а личный интерес меня не побуждает.
– Позволь, – перебил с улыбкой Сергей Иванович, – личный интерес не побуждал нас работать для освобождения крестьян, а мы работали.
– Нет! – все более горячась, перебил Константин. – Освобождение крестьян было другое дело. Тут был личный интерес. Хотелось сбросить с себя это ярмо, которое давило нас, всех хороших людей. Но быть гласным, рассуждать о том, сколько золотарей нужно и как трубы провести в городе, где я не живу; быть присяжным и судить мужика, укравшего ветчину, и шесть часов слушать всякий вздор, который мелют защитники и прокуроры, и как председатель спрашивает у моего старика Алешки-дурачка: «Признаете ли вы, господин подсудимый, факт похищения ветчины?» – «Ась?»
Константин Левин уже отвлекся, стал представлять председателя и Алешку-дурачка; ему казалось, что это все идет к делу.
Но Сергей Иванович пожал плечами.
– Ну, так что ты хочешь сказать?
– Я только хочу сказать, что те права, которые меня… мой интерес затрогивают, я буду всегда защищать всеми силами; что когда у нас, у студентов, делали обыск и читали наши письма жандармы, я готов всеми силами защищать эти права, защищать мои права образования, свободы. Я понимаю военную повинность, которая затрогивает судьбу моих детей, братьев и меня самого; я готов обсуждать то, что меня касается; но судить, куда распределить сорок тысяч земских денег, или Алешку-дурачка судить, – я не понимаю и не могу.
Константин Левин говорил так, как будто прорвало плотину его слов. Сергей Иванович улыбнулся.
– А завтра ты будешь судиться: что же, тебе приятнее было бы, чтобы тебя судили в старой уголовной палате?
– Я не буду судиться. Я никого не зарежу, и мне этого не нужно. Ну уж! – продолжал он, опять перескакивая к совершенно нейдущему к делу, – наши учреждения и все это – похоже на березки, которые мы натыкали, как в Троицын день, для того чтобы было похоже на лес, который сам вырос в Европе, и не могу я от души поливать и верить в эти березки!
Сергей Иванович пожал только плечами, выражая этим жестом удивление тому, откуда теперь явились в их споре эти березки, хотя он тотчас же понял то, что хотел сказать этим его брат.
– Позволь, ведь этак нельзя рассуждать, – заметил он.
Но Константину Левину хотелось оправдаться в том недостатке, который он знал за собой, в равнодушии к общему благу, и он продолжал.
– Я думаю, – сказал Константин, – что никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе. Это общая истина, философская, – сказал он, с решительностью повторяя слово философская, как будто желая показать, что он тоже имеет право, как и всякий, говорить о философии.
Сергей Иванович еще раз улыбнулся. «И у него там тоже какая-то своя философия есть на службу своих наклонностей», – подумал он.