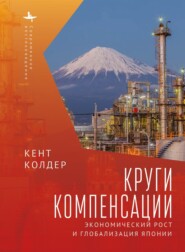скачать книгу бесплатно
Обширные сдвиги в глобальном распределении капитала между странами, по-видимому, повлияли на путь развития Японии, особенно в условиях все более интегрированной мировой политико-экономической системы, которая начала формироваться в конце 1970-х годов и приобретала все большую международную значимость в начале XXI века[28 - О возникновении подлинно глобальной политической экономии см. [Frieden 2006; Ferguson et al. 2011а].]. Тем не менее эти сдвиги в распределении реагируют не только на макроэкономические соотношения спроса и предложения, но и на национальные модели финансового регулирования. Они также по-прежнему реагируют на политико-экономические стимулы, которые часто заложены в прочных субнациональных внутренних институтах на микроуровне. Только комплексный подход, учитывающий международные и внутренние соображения, макро- и микроэкономические, как в экономической, так и в политической сферах, может адекватно объяснить суть исторического перехода от экономического роста к стагнации, который произошел в Японии за последние четверть века, или сложные и детализированные перспективы обращения этого развития вспять.
Краткая аргументация
В этой книге исследуется, как субнациональные институты влияют на стратегии экономического роста и реакцию страны на глобализацию, с особым акцентом на Японию после Второй мировой войны. Особое внимание уделяется промежуточным – большей частью корпоративным – организациям гражданского общества, которые структурируют индивидуальные, групповые и политические стимулы. Это не является следствием исключительно корыстных интересов, большая часть этих организаций выполняет важные технические и административные задачи. Координирующую и связующую роль во многих из них играют банки.
В книге утверждается, что указанные субнациональные институты интернализируют выгоды и экстернализируют издержки, ориентируя тем самым стимулы своих членов на микроуровне на распределение рисков и выгод, что может как стимулировать крупномасштабные проекты в интересах общества, так и поддерживать основанные на капиталовложениях экспансивные стратегии внутреннего роста. В то же время благодаря своей узкой внутригрупповой ориентации эти мезополитические институты изолируют отдельных принимающих решения индивидов от глобального влияния и, таким образом, косвенно препятствуют оперативной реакции на события во внешнем мире.
В качестве поддержки основной аргументации в книге демонстрируется, как специфические субнациональные институты, так называемые круги компенсации, создают совместные, часто эффективные, но в то же время узко ограниченные, парохиальные модели политико-экономического поведения, характерные для Японии и других кооперативных рыночно-капиталистических систем. Они противопоставляются как более и последовательно реакционным распределительным коалициям, которые, как постулировал Манкур Олсон [Olson 1982], препятствуют экономическому росту, так и корыстным интересам, влияние которых характеризуется другими авторами аналогичным образом, см., напр., [Lincoln 2001]. В этой книге исследуется преобладание и функциональная роль кругов компенсации в шести секторах японской политической экономики, выбранных с учетом их предполагаемой роли в формировании моделей развития и глобализации. В число этих секторов входят: (1) финансы; (2) земельная политика; (3) сельское хозяйство; (4) энергетика; (5) транспорт; (6) коммуникации. С целью контроля в книге также кратко рассматриваются модели корпоративного поведения в двух глобализированных отраслях – автомобилестроении и электронике, – где круги не так заметны, а также истории таких инновационных глобальных японских фирм, как SoftBank и Rakuten, которые не были активны в кругах компенсации.
Исследование показывает, что круги компенсации в финансовой и земельной политике, где банки являются важнейшими связующими звеньями, сыграли центральную роль в формировании контуров японского экономического роста. Эти круги функционировали двумя способами: распределяя риски крупных капиталовложений через разделение рисков и поощряя высокий леверидж через связь кредитования и залога недвижимости. Поддерживая разделение рисков и высокий леверидж, компенсационные круги способствовали быстрому росту таких мощных отраслей тяжелой промышленности, как сталелитейная, судостроительная и нефтехимическая, которые обеспечили быстрый рост экономики в 1950-х, 1960-х и начале 1970-х годов. Сельскохозяйственные круги также сыграли свою роль, помогая стабилизировать политические параметры, способствующие капиталоемкой индустриализации, и поддерживая высокие цены на землю, которые, в свою очередь, способствовали либерализации банковского кредитования. Энергетические круги в течение многих лет также способствовали ослаблению ресурсных и валютных ограничений роста благодаря массовому внедрению ядерной энергетики.
Несмотря на то что круги компенсации поддерживали быстрый рост экономики в течение многих лет, через механизмы диффузии риска, включая государственные гарантии, они также усиливали моральный риск. Этот риск был управляемым до тех пор, пока японская система была изолирована от мира посредством валютного контроля и имела такие адекватные механизмы кредитного мониторинга, как банки долгосрочного кредитования. Например, в 1970-е годы круги компенсации смогли эффективно справиться с избыточными мощностями в судостроении путем скоординированного сокращения этих мощностей[29 - Например, в 1979–1980 годах Япония успешно сократила судостроительные мощности на 35 % благодаря программе, разработанной двумя частными промышленными ассоциациями и реализованной с помощью государственных субсидий. URL: http://GlobalSecurity.org, globalsecurity.org/military/world/ japan/industry-shipbuilding- 1970s.htm (в настоящий момент ресурс недоступен).]. В 1980-х годах по мере развития процесса финансовой глобализации таким классическим структурам мониторинга и распространения рисков, как банки долгосрочного кредитования и система сопровождения Министерства финансов (МФ), стало не под силу стабилизировать круги, что привело к финансовому кризису, кредитному кризису, падению цен на землю и резкому снижению темпов экономического роста. Моральный риск в энергетической системе, наряду с неадекватным мониторингом, после аварии на АЭС Фукусима также привел к кризису энергетических кругов.
Утверждается, что круги компенсации также помогли определить реакцию Японии на глобализацию, несмотря на то что они формировали внутренние модели роста, хотя в этих двух случаях главенствующие места занимали разные круги. Круги в сфере транспорта, сельского хозяйства и коммуникаций напрямую работали над изоляцией Японии от мира и, таким образом, непосредственно сдерживали и откладывали ее реакцию на глобализацию. Круги в финансовой сфере, включая систему сопровождения МФ, также замедлили, но более косвенно, реакцию японских банков, страховых и фондовых компаний. После того как в начале 1990-х годов лопнул финансовый пузырь, нежелание банков давать кредиты усилило рецессию и дефляцию. Несговорчивость и нерешительность, порожденные кругами, открыли возможности для иностранных инвесторов, воспользовавшихся управляемыми внутренними рынками, которые местные игроки пытались сохранить, и спровоцировавшими этим рыночную нестабильность.
В этой книге делается вывод, что круги компенсации настолько встроены в большинство рассмотренных секторов японской экономики структурно, что ликвидировать их в краткосрочной и среднесрочной перспективе нереально. Более продуктивным представляется пошаговый подход – расширение кругов с тем, чтобы они охватывали новые группы, включая иностранцев; возрождение банков, которые часто стоят в центре ключевых кругов; и прекращение гендерной дискриминации. Утверждается, что изучение лучших мировых практик, с особым упором на глобально ориентированные европейские и азиатские страны со схожими с японскими коммунитарными традициями, может вдохновить на дальнейшие продуктивные реформы в самой Японии.
Выводы
С тех пор как в 1853 году черные корабли (??, курофунэ) коммодора Мэтью Перри впервые бросили якоря у японских берегов[30 - Черные корабли Перри появились у входа в Токийский залив в июле 1853 года. После демонстрации огневой мощи 14 июля 1853 года Перри было разрешено высадиться на берег, чтобы вручить письмо с требованием предоставления прав на торговлю. В марте 1854 года он вернулся, чтобы подписать Канагавский договор, открывающий Японию для торговых судов.], политико-экономическая система Японии пережила необычайные перепады производительности и поразительные колебания даже после нефтяных кризисов 1970-х годов. Судьба этой страны переплелась со многими силами, определяющими и формирующими наш мир, включая войны, промышленное развитие и глобализацию. Во взаимодействии с этими историческими глобальными силами политико-экономические показатели Японии представляют собой бесчисленное множество эмпирических загадок. Эти загадки служат прекрасным сырьем для построения теории как в сравнительной, так и в международной политической экономии.
Несмотря на те возможности для построения общественно-научной теории, которые предоставляет японская государственная политика со всеми ее парадоксальными аспектами, японистами сделано удивительно мало для того, чтобы этими возможностями воспользоваться [Calder 1998: 336–353]. Самые заметные исключения – концепции «государства развития» Чалмерса Джонсона, «корпоративизм без труда» Т. Дж. Пемпела и «политический рынок» Рамзайера – Розенблат. Очевидно, что остается простор для более японоцентричного анализа, который, принимая во внимание углубляющиеся отношения, существующие между внутренней системой Японии на микроуровне и более широким внешним миром, внес бы более увесистый вклад в теорию общественных наук.
Разработанная в этой книге модель мезополитических кругов компенсации имеет уникальную эвристическую и прогностическую ценность, поскольку она признает как доминирующую институциональную структуру поздних развивающихся кооперативных рыночных экономик с их сильными корпоративистскими тенденциями, так и микроэкономическую структуру действующих в таких системах стимулов. Эклектический акцент на рациональном выборе при условии институциональных ограничений придает представленным ранее тройным парадоксам упрощенную форму, которая, разумеется, также может быть модифицирована, но до сих пор еще не была выразительно представлена.
Среди наиболее перспективных эмпирических загадок, которые ставит перед нами японский опыт, – колебания темпов экономического роста Японии в последние годы и ее неоднозначная реакция на глобализацию. Обе эти загадки относятся к сравнительному контексту и связаны с субнациональными моделями кооперации, заложенными глубоко в японской политико-экономической системе, к концептуализации которой мы сейчас обратимся более вдумчиво.
Глава 2
Концепция кругов компенсации
В течение последнего полувека сравнительная политическая экономия постепенно заявила о своей независимости от регионоведения и превратилась в предмет, ориентированный на теорию[31 - К некоторым из вех этой эволюции можно отнести книги [Huntington 1968;Schmitter, Lehmbruch 1979; Haggard 1990; Lijphart 1999; Acemoglu, Robinson 2012].]. В авангарде таких теоретических сравнительных исследований стоят специалисты из Европы, Латинской Америки, Африки и даже Юго-Восточной Азии с их большим количеством национальных примеров, в то время как исследователи крупных стран от них отстают. Медленнее всего к активному построению теории приступили специалисты по крупным странам со сложными, не изучавшимися широко на Западе языками – таким как Китай, Индонезия, Корея и Япония.
В последнее время в экономике Японии – как по сравнению с ее собственным недавним прошлым, так и по сравнению с траекторией развития других развитых индустриальных стран – наблюдается поразительный парадокс. Этот парадокс имеет два главных и взаимосвязанных аспекта: недавняя неспособность Японии к экономическому росту и ее сегодняшняя неспособность к глобализации. Инновации и структурные изменения стали затруднены, а самоуспокоенность оказалась широко распространена. Парадокс японской государственной политики в этих двух измерениях – экономического роста и глобализации – имеет не только тревожный для всего мира политический эффект, но и теоретическое значение. Его интеллектуальная разгадка может помочь генерировать идеи, которые, несмотря на их порождение уникальным национальным опытом, будут иметь также важное эвристическое значение на международном уровне.
Многие концепции, включая классовый конфликт, корпоративизм и разделение сфер влияния, импортированы в исследования Японии из изучения других регионов мира. Тем не менее лишь немногие из исследователей совершили путешествие в обратном направлении[32 - Среди этих немногих Чалмерс Джонсон с его концепцией государства развития, к которой он обращался, в частности, для объяснения политико-экономических событий в Корее [Woo-Cumings 1999].]. Настало время для более активных усилий японоведов по обогащению своих дисциплин в целом[33 - Обзор усилий по разработке абстрактных понятий исходя из японского опыта см. [Calder 1998: 336–353].].
В этой главе мы подробно остановимся на вкратце представленном в главе 1 понятии кругов компенсации, которое обещает помочь разгадать парадокс японской государственной политики и в то же время внести вклад в более широкую социальную теорию. Это особая структурная конфигурация в рамках политики компенсаций, которая представляет собой политику, направленную в первую очередь на рекламу и удовлетворение спроса на материальные блага в процессе взаимодействия праводателей и жертвователей, в отличие от политики, ориентированной на достижение нематериальных целей [Calder 1988b: 160]. Такие круги компенсации нами определяются более конкретно как сети с постоянными членами, между которыми происходит такое взаимодействие и которые имеют взаимные выгоды и обязательства[34 - Здесь используется определение, первоначально изложенное мною в [Calder 1988а: 160].]. В их состав могут входить как действующие, так и отставные правительственные чиновники, а также представители широкого круга частных лиц, часто включая финансистов, занимающих главенствующие посты, хотя в целом круги, как правило, по своей природе не склонны иметь иерархический характер.
Основные положения концепции
Круги компенсации имеют пять определяющих характеристик, которые позволяют распознать их по обозначению. Во-первых, у них имеется четко определенный набор членов, который в значительной степени остается неизменным с течением времени. Во-вторых, этот набор может расширяться; в принципе, он может быть дополнен новыми членами, хотя на это обычно требуется согласие уже существующих. Такая способность к расширению – как правило, путем кооптации – дает кругу определенную гибкость реакций на внешнее давление, при условии, что он обладает достаточными ресурсами для поддержки своего расширенного состава. Членами круга могут быть представители как государственного, так и частного сектора. В-третьих, круги компенсации итерируются, то есть функционируют в течение длительного периода времени. Таким образом, они являются, говоря языком теории игр, институтами, а не простыми одноактными играми[35 - О концепции итерации и ее последствиях для структуры стимулов см.[Tsebelis 1990: 72–78; Axelrod 1984: 73–87]. Аксельрод отмечает, например, что небольшие подразделения, противостоявшие друг другу в окопной обороне во время затяжных кампаний Первой мировой войны, часто разрабатывали ритуализированные формы ведения войны, например британский вечерний орудийный салют, производимый в предсказуемое время, демонстрируя одновременно и способность к агрессии, и намеренную сдержанность, при условии взаимности со стороны противника.]. Стабильность этих кругов способствует их гибкости, так как их члены имеют общую возможность в течение определенного периода времени обмениваться предпочтениями с другими членами. Когда круги становятся институционализированными, межпроблемные компромиссы также усиливаются. В-четвертых, круги распределяют ценные ресурсы внутри себя, обычно через рути-низированный, бесконфликтный процесс, такой как равное распределение между всеми членами, или последовательное распределение, как в системе строительства данго[36 - О данго в японской строительной отрасли см. [Woodall 1996: 27–28].]. Таким образом, круги включают в себя параметры, основанные как на отношениях, так и на правилах[37 - Об этом различии см. [Shuhe Li 2003].]. Действия правительства могут оказать решающее влияние на уровень выделяемых ресурсов – посредством прямых субсидий, налоговой политики или регулирования.
В-пятых, круги компенсации экстернализируют издержки на тех, кто находится за их пределами, тем самым сохраняя гармонию внутри своей группы, составляющей любой данный круг компенсации. Такие образования, естественно, более чувствительны к стимулам, исходящим от других членов группы, чем к тем, что исходят извне, что делает их замкнутыми, парохиальными.
Общая схема транзакций внутри круга компенсации, а также между таким кругом и его социально-экономической средой представлена на рис. 2.1.
Как показано ранее и как видно на рис. 2.1, круги компенсации обычно функционируют в тесных, как правило, симбиотических отношениях с государственными регулирующими органами. Действительно, во многих случаях правительственные чиновники или ушедшие в отставку служащие, занимающие корпоративные должности амакудари, лучше всего воспринимаются как члены самих кругов. Такие структуры могут предоставлять своим членам прямые материальные выгоды, например государственные займы или налоговые льготы. Они могут регулировать ценообразование, способствовать или препятствовать вхождению новых членов, предоставлять участникам особые льготы, а также при помощи различных стимулов влиять на микроэкономическое поведение членов при принятии таких судьбоносных решений, как капиталовложения. Государственные органы также могут мобилизовать членов круга для бюрократических целей, например, в случае с банками, для андеррайтинга государственных облигационных займов. Они также могут помочь сдержать уклоняющихся от оплаты потребителей общественного блага – а это проблема, эндемическая для коллективных действий, о чем писал Манкур Олсон. Круги компенсации предполагают гибкое распределение благ и издержек между членами группы в процессе ее функционирования, а правительство способно содействовать обеспечению предсказуемого, долгосрочного распределения, как формального, так и неформального.
Рис. 2.1. Круги компенсации – преобладающие модели распределения благ
Источник: рисунок автора
Круги компенсации, как правило, имеют склонность к диффузии риска и стабильности, что снижает стимулы их членов к радикальным инновациям. Круги компенсации заинтересованы в поддержании сплоченности, поэтому им необходима твердая иерархия. Этим установкам соответствуют постепенные инновации, сложное производство и высокий уровень контроля качества, но никогда – преходящие смены парадигм[38 - Холл и Соскис отмечают, что этот уклон в сторону постепенных, а не радикальных инноваций характерен для КРЭ в целом [Hall Р., Soskice 2001: 44].].
Институциональные проявления
Круги компенсации обладают описанной ранее общей логической структурой. Они принимают самые разнообразные институциональные формы, отражающие общую логику, а также различные политико-экономические контексты. Круги поддерживаются также широким спектром механизмов распределения ресурсов. На следующих страницах мы рассмотрим и классифицируем примечательные вариации таких кругов, встречающиеся во всем мире, уделяя особое внимание тому, как они устроены в Японии, являющейся основным географическим объектом нашего исследования.
В качестве наиболее широко изученного и наиболее известного варианта круга компенсации выступает картель, который можно определить как соглашение о сотрудничестве между конкурирующими лицами или организациями. Как правило, картели вступают в экономический сговор с целью стабилизации или повышения цен, часто путем ограничения выпуска продукции. Они также могут использоваться для распределения обязанностей в процессе свертывания производства, как это происходит в так называемых картелях рецессии или рационализации[39 - Об этих концепциях см. [Uriu 1996; Hiroshi 1996: 79–81].]. В качестве альтернативы они могут использоваться для разделения технической ответственности в процессе научных инноваций, как это происходит в рамках исследовательских картелей[40 - Примером может служить японский проект сотрудничества между MITI и несколькими частными фирмами по разработке и внедрению СБИС [Hofheinz, Calder 1982].]. Это понятие может быть распространено на политическую или социальную сферу для обозначения договоренностей о сотрудничестве между политическими конкурентами, таких как картель элит и картель тревожности, которые Ральф Дарендорф описал в исследовании о Веймарской республике [Dahrendorf 1967:267][41 - Дарендорф отмечает, что подлинное чувство развития начинается с одомашнивания конфликта путем его признания и регулирования, а не подавления или отбрасывания.]. Во всех этих механизмах, как правило, происходит интернализация выгод и экстернализация затрат, что демонстрирует характерное для кругов компенсации поведение.
Промышленные объединения также часто проявляют, хотя и в институционализированной и многофункциональной форме, функциональные черты кругов компенсации[42 - О промышленных объединениях в США и Японии см. [Lynn, McKeown 1988].]. В таких объединениях имеется группа членов, которые объединяются для достижения общей цели, такой как лоббирование или регулирование промышленного потенциала, интернализируя выгоды от своих действий. Как правило, они действуют в оборонительном ключе, чтобы экстернализировать затраты – например, повышая цены, чтобы компенсировать сокращение объемов производства. Функции промышленных объединений могут пересекаться с функциями картелей, хотя первые в целом функционально шире и более разнообразны в своей деятельности.
Для успешного функционирования кругу компенсации обязательно требуется поток ресурсов – предпочтительно такой, который предсказуемым образом поступает в круг для целей распределения и недоступен для посторонних. Когда такой предсказуемый поток существует, а распределение между отдельными получателями не определено соглашением о праве, очень высока вероятность того, что круг компенсации возникнет и сохранится.
Существует также широкий спектр специализированных, функционально ориентированных и принципиально продуктивных коллективов – очень широко распространенных в Японии и аналогичных странах с координированной рыночной экономикой (КРЭ), – которые в соответствии с вышеуказанными критериями квалифицируются как круги компенсации. Например, исследовательский картель японских электронных фирм, занимающийся крупномасштабной интеграцией (СБИС), эффективно работал над созданием чипа DRAM объемом 64К, а также соответствующего производственного оборудования [Hofheinz, Calderl982:154–157]. Японский Комитет по организации выпуска облигаций (Kisai Kai) назначал корпоративные ассигнования на покупку корпоративных и государственных облигаций, поддерживая стабильность процентных ставок в условиях массового выпуска облигаций в строго регулируемой среде 1960-1970-х годов [Calder 1993: 29–30,164–167, 214–218]. Совет по капитальным инвестициям в японской сталелитейной промышленности, состоящий из бывших заместителей министров международной торговли и промышленности (MITI), работавших в каждой из ведущих японских сталелитейных компаний, коллективно определял расширение мощностей сталелитейной промышленности в течение большинства лет высоких темпов роста после 1960 года [O’Brien 1992: 128–159].
Одним из таких институциональных механизмов создания предсказуемых, защищенных потоков ресурсов является бюджетный специальный счет, на котором доходы собираются с помощью какого-либо четко определенного транзакционного механизма и четко отделяются от общих доходов для узко и четко определенной альтернативной цели. Другим механизмом является государственное финансовое учреждение с конкретно и точно определенными кредитными мандатами. В области налоговых расходов аналогичную функцию выполняют узконаправленные специальные графики амортизации. Все эти механизмы распределительной поддержки широко используются в стремящихся к развитию кооперативных рыночно-капиталистических странах, в том числе и в Японии[43 - Япония, например, по состоянию на 2015 финансовый год учредила четырнадцать специальных счетов с общим бюджетом в ?403,55 трлн, что более чем в четыре раза превышает общий счет. URL: www.stat.go.jp/english /data/ handbook/pdf /2015all.pdf (в настоящий момент ресурс недоступен).].
Географическое распределение
Круги компенсации – не уникальный японский феномен. В форме картелей они занимали видное место в промышленной организации континентальной Европы с начала индустриальной революции во второй половине XIX века. В менее структурированной форме ассоциаций производителей они и по сей день координируют деятельность швейцарской часовой промышленности [Katzenstein 1984: 198–238]. Органы содействия развитию молокоперерабатывающей и животноводческой промышленности Дании и Голландии имеют схожие функции и характеристики, хотя они могут быть менее склонны к внутригрупповой дискриминации, чем их японские коллеги, поведение которых рассматривается в главе 6. Как в Европе, так и в других странах, круги компенсации часто выделяются в отраслях тяжелой промышленности, для которых характерны единовременные крупномасштабные капиталовложения, высокие постоянные затраты и резко снижающиеся предельные издержки. Это такие отрасли, как сталелитейная, нефтехимическая и судостроительная. Как отмечает Джон Саттон, структура затрат в промышленности, особенно невозвратные затраты, может быть важным фактором, определяющим выбор организационной структуры [Sutton 1991,1998].
В Азии круги компенсации также часто играют свою важную роль. Президент Пак Чон Хи в начале 1970-х годов сознательно подражал японским сельскохозяйственным кооперативам в своей политике саемаул, «движение новой деревни». Ким Дэ Чжун возродил модель консорциума, инициировав институционализированное сотрудничество между работниками и руководством во время азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов [Kim Т. 2008: 78–94]. При Дэн Сяопине и Махатхире Мохамаде и Китай, и Малайзия также подражали японским моделям промышленного объединения и организации[44 - Kent Е. Calder. The Japanese Model of Industrial Policy (выступление на Пекинском форуме 2007 года).]. Аналогичным образом поступали Турция и Индия. Во всех этих случаях главными целями стали распыление рисков и техническое сотрудничество для содействия быстрой капиталоемкой индустриализации.
Средиземноморский мир также воспринял корпоративистские варианты, которые представляют собой перестановки в парадигме кругов компенсации, как бы противоречивы они ни были [Schmit-ter, Lehmbruch 1979]. Италия Бенито Муссолини, Испания Франсиско Франко, Португалия Антониу Салазара – все они управлялись через консорциум, в рамках которого основные группы сговора были представлены на высшем национальном уровне и объединяли интересы элит во взаимном сотрудничестве без массовой политической мобилизации. В течение многих лет, до появления массовой демократии, эта модель также была типичной для таких латиноамериканских технократий, как Бразилия Эрнесто Гейзеля и Жуана Фигейредо (1974–1985) [Power, Doctor 2004: 218–241]. На самом деле, круги компенсации являются излюбленным средством распределения политико-экономических ресурсов в целом ряде стран с переходной экономикой, где рыночные механизмы еще недостаточно развиты и где их стремительное появление могло бы привести к социальной дестабилизации.
Поучительная ценность примера Японии
Если круги компенсации так распространены во всем мире, особенно в странах с переходной экономикой, почему же мы сосредоточились на их проявлении в Японии? Главных причин тому три. Во-первых, на протяжении полутора веков Япония была как примером экономического успеха, так и основным практиком указанной модели социально-политической организации; поэтому ее усилия по максимизации стабильности и экономического роста с помощью этих механизмов были массово воспроизведены в других странах[45 - Гильдии, картели и различные эксперименты с корпоративизмом имеют почтенную родословную, в частности, в Европе и Латинской Америке, но японские отношения между правительством и бизнесом носят корпоративистский характер с эпохи Мэйдзи [Schmitter, Lehmbruch 1979].]. Корея при Пак Чон Хи и Китай при Дэн Сяопине – это именно те случаи, когда к японской социально-экономической модели в широком смысле этого слова обращались со всей серьезностью[46 - О транснациональном подражании японской социально-экономической модели см., напр., [Kim В. et al. 2011; Vogel 2011:291–310].].
Японские круги компенсации также необычайно хорошо развиты в институциональном плане, что делает их уникальным доступным объектом для изучения. В Японии существует множество официальных отраслевых ассоциаций, таких как Японская ассоциация банкиров и Национальная федерация сельскохозяйственных кооперативных ассоциаций (Zen-Noh), которые рассматриваются, соответственно, в главах 4 и 6. В стране также существует сложная и формализованная система специальных бюджетных счетов (токубецу кайкей), которые легко идентифицируются, легко анализируются и являются существенными по своему смыслу для политики и распределения ресурсов.
Несмотря на то что компенсационные круги, похоже, повсеместно распространены в Японии, их зачастую воспринимают превратно. Существует (о чем говорилось в главе 1) обширная литература о социально-экономической организации в этой стране, изобилующая такими широко обсуждаемыми понятиями, как Япония, Инкорпорейтед, правящий триумвират, дзайкай, кейрецу и дзоку, см., напр., [Yanaga 1980; Magaziner, Hout 1980; In-oguchi, Iwai 1987]. Однако в этих публикациях, как правило, не рассматривается важнейший вопрос о структуре стимулов на микроуровне. Внимание к стимулам, о которых речь пойдет, в частности, во втором разделе этой главы, очень важно для понимания закономерностей стабильности и перемен в Японии.
Японские круги компенсации – интересная тема, на которой стоит сосредоточиться, наконец, и потому, что они имеют необычайно важные глобальные последствия для мира XXI века. С 1/12 частью мирового ВВП Япония является крупнейшей экономикой свободного рынком в мире, не считая Соединенных Штатов. Как таковая она достаточно велика для того, чтобы многие национальные институты могли спокойно сосредоточиться исключительно на внутреннем рынке. Многие могут уделять международной торговле лишь умеренное внимание – менее 18 % ВВП, по сравнению с вдвое большей долей в соседней Корее[47 - По данным Мирового банка, в 2015 году экспорт товаров и услуг составлял17,9 % ВВП Японии по сравнению с 45,9 % ВВП Южной Кореи. URL: http:// data.worldbank.org/indicator/NE.EXRGNFS.ZS (дата обращения: 16.01.2022).].
Неудивительно поэтому, что, учитывая изолированность и часто клиентелистское регулирование, круги компенсации стали пользоваться в японской политической экономике огромным влиянием, формируя как ее внутренние склонности, так и международную ориентацию. Как мы увидим, в течение полувека после Второй мировой войны и последующего взрыва финансового пузыря такие круги сыграли определяющую роль в обеспечении быстрого экономического роста Японии, ориентированного на банки. В первые годы после Второй мировой войны связь между банковской и земельной политикой, созданная и поддерживаемая этими кругами, судьбоносно определила глобально значимый профиль роста и стагнации Японии.
Круги также оказывают постоянное воздействие на способность Японии реагировать на глобальные рыночные силы, как посредством их порочного влияния на распределение в целом, так и особенно в традиционно регулируемых секторах услуг, таких как телекоммуникации. В указанных сферах их диффузионный характер сдерживает революционные технологические инновации и политико-экономические изменения. Именно эти ригидные факторы задерживают на микроуровне решение в Японии долговых проблем, препятствуют внутреннему поглощению капитала и, следовательно, способствуют тому, что экспансионистская внутренняя фискальная политика Японии становится необычайно стимулирующей за ее пределами, в условиях все более взаимозависимой глобальной финансовой системы.
Недавняя внутренняя борьба Японии с глобализацией и вызванный ею значительный отток капитала имеют критическое значение для самой этой страны. Они также важны для Соединенных Штатов, с которыми Япония глубоко взаимозависима как в экономическом плане, так и в плане безопасности. Через эту американо-японскую связь напряженные отношения Японии с глобализацией важны для всего мира [Gilpin 1987].
Почему круги компенсации получили широкое распространение в Японии
Ярко выраженная значимость компенсационных кругов в Японии имеет глубокие корни в истории этой страны как представителя позднего на международном уровне развития, оказавшегося при этом авангардистом в азиатской региональной перспективе. В период Мэйдзи такие круги, вероятно, играли главную роль в экономическом росте Японии, ее политической стабильности, а иногда и в ее автономии в международных делах. Япония возникла в мировой политической экономии в конце XIX века – в самый разгар империализма. Перед ней стоял суровый набор альтернатив: быстрая индустриализация с сильным военно-промышленным уклоном или подпадание под западное колониальное господство. Лидеры Мэйдзи выбрали первое.
Таблица 2.1. Три функциональных варианта кругов компенсации
Источник: составлено автором
Выбранный Японией курс предполагал терпеливое воплощение трех институциональных императивов, с которыми столкнулись сами лидеры Мэйдзи: (1) защита торговли для зачаточной промышленности Японии; (2) политическая стабильность, чтобы способствовать национальному единству и уверенности в активном курсе страны; и (3) распыление рисков, призванное побудить банки и промышленников кредитовать и инвестировать огромные суммы, необходимые для строительства оптимальных по масштабу сталелитейных заводов, верфей и арсеналов. Каждая из этих задач указывает в качестве решения на ориентированные на сотрудничество коллективные действия – круги компенсации, – несмотря на явные долгосрочные препятствия для эффективности таких действий, что подчеркивали Олсон и другие [Olson 1982]. Эти три вызова эпохи Мэйдзи породили три функционально дифференцированных варианта парадигмы кругов компенсации, которые можно идентифицировать и сегодня. Они представлены в табл. 2.1.
В сфере международной экономики Япония, как и другие индустриальные страны позднего периода, предпочла ответить на проблему торговой конкуренции защитой торговли посредством тарифов и квот. Однако до 1911 года этот курс сдерживался неравноправными договорами, заключенными с западными державами. Как следствие, Япония пыталась защититься от глобальной конкуренции более опосредованно, через внутреннюю кооперацию – отраслевые кооперативные ассоциации (гёкай),
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: