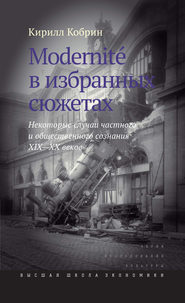скачать книгу бесплатно
Вместо предисловия. Война и мир
14-го июля. Понедельник. Чудная погода продолжается. Утром погулял полчаса; затем принял Григоровича и в 12 ч. Танеева. Завтракали одни. От 3 час. поиграли в теннис. В 6 час. принял Маклакова. Интересных известий было мало, но из доклада письменного Сазонова [видно, что] австрийцы, по-видимому, озадачены слухом о наших приготовлениях и начинают говорить. Весь вечер читал.
15-го июля. Вторник. Принял доклад Сухомлинова и Янушкевича. Завтракали: Елена и Вера Черногорская. В 2 1/2 принял в Больш. дворце представителей съезда военного морского духовенства с о. Шавельским во главе. Поиграл в теннис. В 5 час. поехали с дочерьми в Стрельницу к тете Ольге и пили чай с ней и Митей. В 8 1/2 принял Сазонова, кот. сообщил, что сегодня в полдень Австрия объявила войну Сербии. Обедали: Ольга и Арсеньев (деж.). Читал и писал весь вечер.
Николаю Второму этих дневниковых записей[47 - Даты здесь приводятся по старому стилю.] (особенно «чудной погоды» и игры в теннис) не простили многие. На самом деле несчастного императора можно упрекать во многом, только не в отсутствии джентльменского спокойствия: война – войной (за время его правления это была третья, однако две первые происходили очень далеко от Европы), но не пристала же монарху обывательская истерика, как у героев Достоевского или Чехова (недаром, как отмечал Набоков, в царской семье автора «Крыжовника» считали декадентом). Война начинается, не первая, слава Богу, и не последняя; это драма, но не трагедия; наконец, долг православной России поддержать православную Сербию и – уже потом – республиканскую (и тем самым несколько сомнительную) союзную Францию. Такова была логика Николая Второго; многие сочтут ее опрометчивой, порочной и даже антигуманной, но она порождена социальным статусом автора дневника. Так, и никак иначе, война вторглась в жизнь русского императора – та самая война, что уничтожила его империю, а в конце концов и его самого? вместе с семьей.
Что же до подданных русского императора, частных людей, обывателей, то в их сознание рубеж июля-августа 1914-го вошел без анестезии сословной дисциплины и сопровождался целым спектром страхов и надежд. Корней Чуковский записывает в тот же день 15 июля, когда Николай Второй играл в теннис, а потом Сухомлинов докладывал ему, что Австрия объявила войну Сербии: «Война… Бена берут в солдаты. Очень жалко». (Речь идет о Бенедикте Лившице, с которым Чуковский недавно сошелся.) Автор дневника продолжает: «У меня все спуталось. Если война, Сытинскому делу не быть. Значит, у меня ни копейки. Моя последняя статейка – о Чехове – почти бездарна, а я корпел над нею с января»[48 - Чуковский К. И. Дневник (1901–1929). М.: Советский писатель, 1991. С. 68–69.]. Журналист Чуковский реагирует на начало войны так, как и положено частному человеку: сожалеет о мобилизации приятеля, беспокоится о заработках, переживает по поводу неудачного текста. Война приходит в жизнь этих людей, императора и литератора, обычным для людей XIX века образом, как пока еще отдаленное событие, довольно страшное, но не роковое, одно из ряда исторически подобных. Никто не догадывался, что характер войны решительно переменится, что она станет тотальной, мировой и что мир по ее окончании тоже превратится в тотальный, тоталитарный, причем по обе стороны линии фронта – и в России, и, несколько позже, в Германии.
В этом смысле начало Великой Отечественной для советского человека, уже имевшего опыт тоталитаризма, выглядело иным. Об этом пишет Лидия Гинзбург в «Записках блокадного человека». «Записки» начинаются фактически с описания того, как война вторгается в мирную жизнь и мгновенно обессмысливает все ее ритуалы и автоматизм. Трамваи продолжают ходить, гонорары – выплачиваться; однако в новой перспективе, в новой телеологии это уже не имеет значения. И здесь главное отличие от реакции на войну людей предыдущей исторической эпохи, того же Николая Второго или Корнея Чуковского, тех, кого по типу исторического сознания можно назвать еще «людьми XIX века», кто встречал такие известия подобно героям Толстого. В «Войне и мире» война не мешает обычной жизни – до тех пор, пока люди не сталкиваются с ней непосредственно. А вот в «настоящем XX веке» война проникает в жизнь мгновенно, и одним из инструментов тотального ее проникновения и мгновенного разрушения мирного уклада (даже в тех местах, которые отделены от фронта сотнями километров) становится техника. Еще до того как немецкие самолеты начали бомбить Ленинград, война пришла к ленинградцам (равно как и к горьковчанам, свердловчанам и владивостокцам) через репродуктор радиоприемника: «Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным»[49 - Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство – СПБ, 2002. С. 613.]. Трамваи еще ходят, гонорары – выдают, а действительность – новая. Это – действительность сознания, которая потом, с началом бомбежек и голода, становится физической действительностью непосредственной близости смерти.
Но вернемся в 1914 год. Франц Кафка – а его считают чуть ли не главным экспертом XX века по тоталитаризму – заметил начало Первой мировой только 31 июля, через три дня после того как Австро-Венгрия, подданным которой он являлся, вторгается в Сербию (ни одного упоминания предшествующих событий, начиная от убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, в его дневнике нет): «У меня нет времени. Всеобщая мобилизация»[50 - Все цитаты из дневников Франца Кафки приводятся по изд.: Кафка Ф. Дневники… Одному пассажу во вступительной статье к изданию я обязан побуждением написать этот текст.]. Целый август 1914 года, уже когда война действительно стала всеобщей, Кафка едва замечал ее, будучи погружен в частные переживания и литературные планы. Впоследствии стало ясно, что этот месяц оказался чуть ли не самым важным в его писательской судьбе. В нижеследующем тексте я попытаюсь набросать схему механизма, связывающего почти незаметную жизнь страхового клерка, писателя-дилетанта Франца Кафки с невиданным доселе миром тотальной войны.
Далекие раскаты
Нельзя сказать, что до августа 1914-го Кафку не интересовало «событие войны». К примеру, он довольно много читал о наполеоновском времени: и мемуары (в дневник он выписывает целые страницы из «Воспоминаний генерала Марселлина де Марбо» Пауля Хольцхайзена, из книги «Немцы в России 1812» и проч.), и, кажется, даже исторические труды. Трудно сказать, что привлекало его в этой эпохе: то ли сверхчеловеческая фигура самого Бонапарта, то ли, наоборот, толстовские «война» и «мир». В начале 1914 года Кафка читает мемуары графини Лулу Тюрхайм «Моя жизнь. Воспоминания об австрийском большом свете, 1788–1819». Кажется странным, что Кафку заинтересовала эта книга, изданная в Мюнхене в 1913 году. Ее хронологические рамки почти совпадают с эпохой великих европейских потрясений: начало – за год до взятия Бастилии, конец – через четыре года после Ватерлоо. Можно даже сказать, что перед нами, некоторым образом, аристократическая дилетантская версия «Войны и мира». Запись в дневнике Кафки от 24 января 1914 года:
Наполеоново время: празднество за празднеством, все торопятся «вкусить радостей кратких мирных времен». С другой стороны, они мгновенно поддаются напору, они действительно не могут терять времени. Тогдашняя любовь выражалась в повышенной восторженности и большей самоотверженности. «Нынче минутная слабость не прощается»[51 - Кафка рекомендует эту книгу в письме Грете Блох от 11 февраля (Кафка Ф. Письма к Фелиции и другая корреспонденция, 1912–1917 / пер. с нем., предисл., сост. М. Л. Рудницкого. М.: Ad Marginem, 2004. C. 425). Отрывок из сочинения графини Тюрхайм, цитируемый здесь, представляется исполненным символизма, если вспомнить двусмысленную переписку Франца с фройляйн Блох, которую Кафка первоначально пытался превратить в посредницу в своих отношениях с Фелицией Бауэр; в результате эти отношения постепенно приобрели характер довольно странного (впрочем, сугубо эпистолярного) треугольника – об этом см. дальше. В таком контексте выражения вроде «вкусить радостей кратких мирных времен» и особенно «тогдашняя любовь выражалась в повышенной восторженности» выглядят в дневнике Кафки подозрительно. В течение марта 1914 года Кафка несколько раз настойчиво интересовался у Греты Блох, читает ли она мемуары Тюрхайм.].
Так в дневнике Кафки 1914 года появляется «война» – за пять месяцев до ее начала (обратим внимание: 15 декабря 1913 года он отмечает, что читает книгу Германа Шаффштайна «Мы юноши 1870–71. Воспоминания о моем детстве». В этой записи есть такая фраза: «С подавляемыми рыданиями перечитывал вдохновенные сцены о победах»). Что это? Случайность? Предчувствие? Ведь та часть Европы, где обитал Кафка, не знала боевых действий уже более полувека (со времен австро-прусской войны 1866 года), по меркам континента очень долго. И вот что еще интересно: тема «войны и мира» представлена в его дневнике как тема «войны и любви». В конце концов окажется, что именно так Первая мировая вошла в жизнь самого Кафки – сразу после краха его первой помолвки с Фелицией Бауэр.
Старые грехи чиновника Брудера
После 24 января в дневнике Кафки не появляется ничего хотя бы отдаленно «военного» (точнее, «предвоенного») – вплоть до 6 июня, когда он делает несколько набросков о некоем чиновнике Брудере (об этих чрезвычайно важных текстах и их отношении к еще не начатому тогда «Процессу» – чуть ниже), и потом – 11 июня, когда он сочиняет фрагмент под названием «Искушение в деревне», который, как считается, был наброском к «Замку». Получается, что оба главных своих романа Кафка начинает летом 1914-го: один накануне «сараевского кризиса», другой – в первый месяц боевых действий. Тупик, в котором Кафка, как ему самому казалось, очутился к 1914 году (и который толкнул его к злосчастной помолвке с Фелицией), мог быть преодолен двумя способами: житейским (матримониальным, семейно-географическим) и писательским. Оба в первой половине 1914 года казались ему одинаково возможными (и одновременно, как обычно у него, одинаково невозможными), одинаково подлинными. Первый вариант (женитьба и переезд в Берлин) есть не что иное, как бегство из Праги (если под «Прагой» понимать и жизнь с родителями, чиновничью карьеру и проч.). Второй – вырваться из круга «коротких вещей», взяться за большое сочинение, за роман, который втиснул бы в себя все (или почти все).
Что же такое это все в понимании Кафки в 1914 году? Ситуация абсурдной вины и обреченности на казнь («Процесс») и ситуация вечного ожидания у подножия власти («Замок»). Обе они, на первый взгляд, не имеют отношения к «ситуации войны», особенно войны нового типа, которая разразилась в 1914 году. Эта война (и последующие в XX веке) была «тотальной», а не «персональной» (какую, к примеру, пытался вести Пьер Безухов против Наполеона, бродя по горящей Москве с пистолетом); тема же двух романов Кафки – персональная трагедия человека, попавшего в деперсонализированную ситуацию хорошо организованного абсурда. Но, если вдуматься, это и есть ситуация первой в истории человечества тотальной войны в самом ее начале, в августе – октябре 1914 года. Как это обычно бывало в Новое время, противоборствующие стороны готовились совсем не к той войне, которая в результате разразилась. И Франция, и Германия, и Австро-Венгрия, и даже Британия (хотя руководство последней вообще не предполагало участвовать в масштабных наземных операциях, английская армия была добровольческой и по тем временам немногочисленной) намеревались вести маневренные боевые действия. В памяти еще была франко-прусская война 1870–1871 годов и австро-прусская 1866-го, когда армии быстро передвигались по территории, осаждали города и изредка встречались на полях сражений. Этот «героический» период военного искусства буржуазной эпохи закончился самой что ни на есть отвратительной, бесчеловечной «окопной войной», когда солдат мог просидеть несколько месяцев (если не лет) в траншеях, быть убитым снарядом, задохнуться от иприта, умереть от тифа или дизентерии, так и не размяв ног ни в одной атаке, ни разу не крикнув «ура!», не насадив молодецки ни одного врага на свой штык. Всему виной технологии: изобретение пулеметов, колючей проволоки, отравляющих газов и прогресс в развитии артиллерии. В «вечном споре меча и щита» к концу 1914 года решительно победил щит. Последним «человеческим» событием на Западном фронте стал так называемый «бег к морю», когда осенью 1914-го французы и англичане, с одной стороны, и немцы – с другой, стремясь охватить позиции друг друга, наперегонки бросились к побережью Северного моря. Не преуспел никто; впервые в истории образовалась сплошная «линия фронта». Наступать бессмысленно; стотысячные потери при попытках прорвать линию фронта в 1915 году (например, под Аррасом) подтвердили это. Война стала «тотальной»; исход ее решали не храбрость солдат, не искусство офицеров, не стратегический гений полководцев, а умение обеспечить армию ресурсами, в производстве которых участвовало все население от мала до велика. Главные сражения происходили на заводах, на продовольственных складах, в конторах, обеспечивающих инфраструктуру поставок фронту и лояльность населения. Война (вслед за капиталистическим производством) из еще отчасти «штучного занятия» окончательно превратилась во всеобщий конвейер, в деперсонализированный механизированный абсурд. Впрочем, люди, которые ее вели, были еще из старого, не тотального, «штучного» мира, из эпохи фин де сьекль (fin de s?le). Потом либо их истребили, либо они сами переродились, но тогда они еще представляли собой как бы личности, персоны, сколь бы комичными порой ни казались. У них может не быть ярких черт характера и прочей параферналии романтического индивидуализма, но они насквозь пропитаны еще понятиями, представлениями, предрассудками эпохи, когда «психология личности» преобладала над «психологией толпы». Этот набор черт человека завершившегося мира заменяет им характер, создает некий эрзац личности, который, столкнувшись с окончательно деперсонализированным новым миром, выглядит уже как личность настоящая. Как ни странно, нечто похожее происходит с гашековским бравым солдатом Швейком; идиотизм его является, конечно, не «здравым смыслом», как утверждают некоторые, а механической пародией на здравый смысл, которая, столкнувшись с бесчеловечным милитаристско-полицейским абсурдом (хотя до кафкианского ему далеко – он слишком пестр, вонюч и даже живописен), кажется чем-то «подлинным» и «настоящим».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: