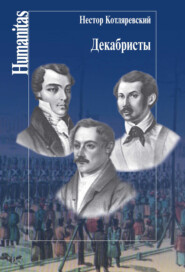скачать книгу бесплатно
Декабристы
Нестор Александрович Котляревский
Humanitas
Книга известного публициста, литературоведа, критика посвящена жизнеописанию А. И. Одоевского, А. А. Бестужева, К. Ф. Рылеева. История нашего литературного развития сохранит на своих страницах их имена. Люди, о которых автор хотел напомнить читателю, имели в жизни своей две святыни: гуманный идеал, проясненный политической мыслью, за которую они пострадали, и художественную почву, которая радовала их в дни свободы и утешала в дни несчастия. В очерках, посвященных их памяти, одинаковое внимание уделяется и их политическим размышлениям, и их поэтическим грезам. Автор стремился достигнуть наибольшей полноты в подборе фактов, относящихся к биографии этих мыслителей, и в подборе сведений об их политической деятельности. В том вошли две книги: «Декабристы А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность» (1907) и «Рылеев» (1908).
В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
Нестор Котляревский
Декабристы
Серия основана в 1999 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института философии Российской академии наук
© С. Я. Левит, составление серии, 2015
© Центр гуманитарных инициатив, 2015
* * *
День 14 декабря 1825 года – скорбный день в летописях нашей словесности. Из немногочисленной литературной семьи того времени вспышка политической страсти вырвала сразу несколько молодых даровитых писателей. На долгие годы затерялись они в толпе своих товарищей по несчастью – каторжных, поселенцев и солдат.
В кружке декабристов поэзия и поэтическое творчество были, как известно, в большом почете. Политика не мешала, а способствовала культу искусства. Но истинных новаторов в творчестве среди этих политических деятелей не было; были люди лишь с более или менее крупным дарованием.
История нашего литературного развития сохранит на своих страницах имена К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева, князя А. И. Одоевского и В. К. Кюхельбекера. Их жизнеописанию и литературным трудам посвящены эти очерки.
Теперь настало время, когда на могиле писателей можно поставить достойный их памятник, и автор смотрел на свою работу как на первый шаг к выполнению этого долга.
Люди, о которых он хотел напомнить читателю, имели в жизни своей две святыни: гуманный идеал, проясненный политической мыслью, за которую они пострадали, и художественную мечту, которая радовала их в дни свободы и утешала в дни несчастия. В очерках, посвященных их памяти, должно быть уделено одинаковое внимание и политическим их мыслям, и поэтическим их грезам.
Автор и руководствовался этим соображением. Он стремился достигнуть наибольшей полноты в подборе фактов, относящихся к биографии упомянутых писателей, и в подборе сведений об их политической деятельности. Возможно большую точность и полноту хотел соблюсти он и в обзоре их литературных трудов, не считаясь с тем, что эти труды от времени сильно пострадали.
* * *
Очерк жизни и творчества К. Ф. Рылеева служит продолжением работы, изданной автором в 1907 году под заглавием «Декабристы А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность».
План работы остался тот же, но только автор, чтобы не отсылать читателя к полному собранию стихотворений Рылеева, счел нужным внести в текст все стихи, за которыми сохранилась историческая или литературная ценность.
Князь Александр Иванович Одоевский
Стихотворения Александра Ивановича Одоевского[1 - Полное собрание стихотворений князя А. И. Одоевского. Собрал барон А. Е. Розен. СПб., 1883; Сочинения князя А. И. Одоевского. С биографическим очерком и примечаниями, составленными М. Н. Мазаевым. – Ежемесячное приложение к журналу «Север» за июль 1893 г.; Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862, с. 7- 44. Кроме кратких упоминаний в некоторых общих обзорах русской словесности, А. И. Одоевскому посвящена статья А. Н. Сиротинина «Князь А. И. Одоевский. Биографический очерк» – Исторический вестник. 1883. Май. См. также: Тимирязев В. А. Пионеры просвещения в Западной Сибири. – Исторический вестник. 1896. LXIV, с. 638–639.] почти совсем забыты, и даже имя его в перечне наших поэтов двадцатых и тридцатых годов упоминается редко.
Причины такого забвения более чем понятны. Александр Иванович родился поэтом, и очень искренним поэтом, но он таил свои стихи от чужого глаза и редко кому позволял их подслушать.[2 - Барон Розен ошибается, утверждая, что некоторые мелкие стихотворения Одоевского были напечатаны Пушкиным в «Литературной Газете» (Розен А. В ссылку: Записки декабриста. М., 1900, с. 210). Единственное при жизни автора напечатанное стихотворение было «Сен Бернар», которое Плетнев поместил в «Современнике» 1838 г. (Т. Х, отд. III, с. 167).] Почти все его стихотворения были записаны его друзьями, иногда по памяти, и он сам, вероятно, менее чем кто-либо мог думать, что эти импровизации, эти слова, сказанные в утешение самому себе или товарищам, составят со временем сборник, который не позволит забыть о нем, как о поэте. Было ли это скромностью или гордыней художника, который считает «ложью» всякое «изреченное» слово, бессильное передать глубину мысли и чувства, его породивших, было ли это просто беспечностью с его стороны[3 - Ср. Мазаев М. – Сочинения А. И. Одоевского, с. XI.] – но только Одоевский составлял исключение в семье художников; и глубоко верующий в бессмертие своей души, совсем не желал бессмертия для тех звуков, какими она откликалась на мимолетные впечатления жизни. Он сам торопил для себя наступление минуты забвения.
Она с неизбежностью наступила быстро и в силу внешних обстоятельств. Одоевскому было 22 года, когда его сослали на каторгу, и его стихи стали, как он сам выражался, «песнями из гроба». Это верно также и в том смысле, что все его стихотворения, кроме одного, появились в печати уже после его кончины. Само собою разумеется, что под ними первое время не могло стоять имени автора. Но даже если бы это имя и стояло, стихи Одоевского, взятые порознь, едва ли могли произвести большое впечатление и остаться надолго в памяти: они – как те цветы, которые издают сильный аромат лишь тогда, когда собраны и связаны в целом букете.
В истории русской лирики двадцатых и тридцатых годов поэзия Одоевского может занять свое место в ряду тех непринужденноискренних, пережитых и прочувствованных, сильных своей простотой и почти совсем неэффектных лирических стихотворений, которые писались в те годы Пушкиным и его друзьями. Песни Одоевского той же высокой пробы, что и лирика этой плеяды. В них поражает та же тщательная отделка стиха, редкое гармоничное сочетание формы с содержанием при отсутствии в этой форме излишне узорного или недосказанного, неясного, то же умение менять и тон, и ритм, та же способность одинаково просто выражать весьма разнообразные настроения и чувства. Стихи Одоевского, изданные в свое время, т. е. в конце тридцатых годов, завершили бы собой тот цикл художественной лирики, которая в Пушкине нашла себе лучшего выразителя и в которую затем Полежаев, Лермонтов и Огарев внесли новую резкую ноту душевной тревоги и эффектного, иногда вычурного, самолюбования. Песня Одоевского могла бы быть одной из последних песен, в которых выразилось уже отходившее в прошлое религиозно-сентиментальное, в общем оптимистическое миросозерцание, не позволявшее человеку слишком болезненно ощущать разлад мечты и жизни.
И действительно, Александр Иванович, который более чем кто-либо имел основание быть в обиде на жизнь и людей, избегал подчеркивать то противоречие, в каком его личность, умственно и нравственно высокая, стояла к окружающей его обстановке и к историческому моменту, свидетелем которого он явился. В его миросозерцании было много религиозно-идеалистических элементов,[4 - Это был христианский идеализм, который выразился у Одоевского наиболее симпатичным образом. Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1885, с. 456–457.] которые не мешали поэту жить страстями, но как-то не позволяли этим страстям обращать все душевные порывы, все набегающие мысли в предлог для непримиримо враждебного отношения к жизни вообще и к людям в частности. Знакомясь с духовной жизнью нашего писателя, насколько, конечно, эта полная смысла жизнь отражается в его случайных поэтических заметках, видишь, что первой житейской мудрости он учился у того сентиментального либерализма, который, несмотря на все предостережения, был так силен во все царствование Александра I, и что поэту не остались чужды те оптимистические взгляды на мир и судьбу человека, к которым вообще имели пристрастие люди его времени, серьезно воспитанные на идеалистической философии Запада или только усвоившие себе ее конечные выводы.
Этот религиозный склад ума Одоевского и спокойствие его духа подтверждаются не только его стихами, но и тем впечатлением, которое он производил на людей, способных оценить его редкие, не бросающиеся в глаза душевные качества. Если Огарев, который встретил Одоевского в конце тридцатых годов солдатом на Кавказе, был не только поражен, но и умилен его личностью, то это понятно: сам Огарев в эти годы искал в религии разгадки смысла жизни. Но любопытно, что такое же глубокое впечатление Одоевский произвел на натуру, совсем с ним несходную, на Лермонтова, с которым тот же случай свел его на Кавказе. Лермонтов едва ли был готов понять Одоевского по своему темпераменту и по своим взглядам, но и он преклонился перед «гордой верой» Одоевского «в людей и жизнь иную», хотя и придал его облику оттенок горделивой замкнутости и разлада со «светом» и «толпой» – эти ему самому, Лермонтову, – столь привычные ощущения.
Когда затем Лермонтов говорил, обращаясь к Одоевскому:
Дела твои, и мненья,
И думы, – всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит;
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит…
он был не совсем прав. Если бы он знал эти думы, как знаем их мы, он не задал бы им вопроса, зачем они и откуда; он признал бы в них, как и в поступках поэта, – проявление цельного миросозерцания, оптимистического, с большой дозой благодушия, доверия к судьбе и к людям, либерального и полного религиозной веры сначала в близкое, а затем в конечное торжество гуманного идеала.
Лермонтов, типичный представитель разочарованного протеста, скептик и сын николаевской эпохи, мог видеть в Одоевском живой пример старшего поколения. Перед ним был один из тех, кто также протестовал, но примирился с проигрышем, идеалист, человек, которого никакие житейские невзгоды не заставили усомниться в том, во что он верил, каторжник со «звонким детским смехом и живой речью, постоянно бодрый и веселый, снисходительный к слабостям своих ближних, христианин, сердце которого было обильнейшим источником чистейшей любви, гражданин, страстно любящий родину свой народ и свободу в высоком смысле общего блага и порядка».[5 - Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 9, 10.]
Таким либералом и сентименталистом александровской формации умер этот человек случайно в 1839 году, накануне эпохи, когда, после десятилетней растерянности и долгого выжидания, стал слагаться новый тип певца, более сердитого, желчного, недоверчивого, скептически относящегося ко многим прежним иллюзиям, а потому порой и большого пессимиста.
А как много оснований имел Александр Иванович стать пессимистом!
I
О жизни Одоевского сохранилось немного сведений, да и само слово «жизнь» как-то не подходит к тому, что с ним в жизни случилось.
Родился он в 1802 г., на заре великих обещаний александровского царствования, в одной из самых родовитых и старых дворянских семей России. Семья была большая, богатая, патриархальная по нравам, и жила она очень дружно. Александр Иванович был окружен в ней любовью и лаской.
Особенно нежная любовь связывала его с матерью, которую он потерял рано и память о которой стала одним из самых дорогих и поэтичных образов его фантазии.
Вся сокровенная сущность его нежной и сентиментальной души открывается нам в его словах и воспоминаниях об этой женщине. «Я воспитывался, – говорил он своим судьям, – дома моею матерью, которая не спускала меня с глаз по самую свою кончину. Ее неусыпное попечение о моем воспитании, 18 лет ее жизни, совершенно посвященные на оное, – все это может подать некоторое понятие о правилах, мне внушенных. Мать моя была моею постоянною и почти единственною наставницею в нравственности».[6 - Государственный Архив. I. B., № 347. Дополнительные сведения об Одоевском имеются в нижеследующих делах этого Архива №№ 62, 113, 192, 208, 217, 222 и 229.] Он называл ее в письмах к друзьям «вторым своим Богом»; он не мог думать о ней, этой «ангельской матушке», без глубокого волнения лет шестнадцать спустя после ее смерти.[7 - Письмо к тетке 1836 г., из Иркутска. – Русский архив. 1885. I, с. 130.]
А в первую минуту разлуки с ней он был совсем подавлен. Он писал тогда: «Жестокая потеря унесла с собою лучшую часть моих чувств и мыслей. Я был как шальной. Я грустен был, я был весел, как не бываю ни весел, ни грустен. Самая тонкая и лучшая струна лопнула в моем сердце».[8 - Из неизданных писем к В. Ф. Одоевскому, хранящихся в Импер. Публичной Библиотеке.]
«Я лишился ее и еще наслаждаюсь жизнью! Конечно, уж это одно испытание доказывает некоторую твердость или расслабление моего воображения, которое не в силах представить мне всего моего злосчастия. Я слаб, слабее, нежели самый слабый младенец, и потому кажусь твердым. Я перенес все – от слабости!»
«Она была для меня матерью, наставником, другом, божеством моим. Я лишился ее, когда сердце уже могло вполне чувствовать ее потерю; вот что судьба определила мне в самые радостные минуты зари нашей жизни».[9 - Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 2/X. 1823, 23/XII. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 372, 377.]
Через год после смерти матери (1820) поступил он на службу в Конногвардейский полк[10 - 1821 г. 10 октября – юнкер. 1822 г. 1 мая – эстандарт-юнкер. 1823 г. 23 февраля – корнет.] и «пять лет был неизменно хорошего поведения»,[11 - В корнеты он был произведен 23 февраля 1823 г.] – как он сам себя аттестует.
Жилось ему весело: от матери он получил достаточное наследство в 1000 душ и один управлял ими. Он был «богат, счастлив, любим и уважаем всеми. Никогда никакого не имел неудовольствия ни по службе, ни в прочих отношениях его жизни». «И чего было мне желать?» – восклицал он с грустью в одном из своих показаний.
Служба, конечно, не доставляла особых затруднений, если не считать разных походов и стоянок в западном крае, куда его полку случалось отправляться на маневры. Но Одоевский благодаря своей жизнерадостности и после этих утомительных и невеселых прогулок чувствовал в себе какую-то жажду наслаждения жизнью. «Другой воздух, другая жизнь в моих жилах, – писал он однажды после такой экспедиции. – Я в отечестве! Я в России! Лица русские, человеческие. Молодцы русские исподлобья, как жиды, не смотрят, русские девушки нас не избегают, как беловолосые униатки! Я почувствовал, что я человек, в тот самый миг, как мы перешли за роковой столб, отделяющий Белоруссию от нашей милой отчизны. Я отягчен полнотою жизни! Я пламенею восторгом, каким-то чувством вожделения, жаждой наслаждений».[12 - Из неизданного письма 1822, 3/VI из Великих Лук (Импер. Публичная Библиотека).]
Жизнерадостность, которую подмечали в нем его товарищи и в тяжелые годы несчастия, была основной чертой его характера. Если вчитаться в его юношеские письма, то рядом с неизбежной и обязательной для того времени сентиментальной грустью находишь целую струю веселого, бодрого, порой юмористического настроения. Он упоен жизнью и надеждами. Он о себе и своем уме высокого мнения. Он знает цену своего отзывчивого и нежного сердца. Он боится излишних умствований, излишней серьезности во взгляде на жизнь, он хочет быть идеалистом без тревожных раздумий и страданий.
«Задача наша, – рассуждал он в те юные годы, – испытать радость жизни, но сохраняя полноту и остроту чувств:
Rien ne me rеvolte plus que la froideur surtout dans un jeune homme… A la vеritе j’ai entendu dire souvent que pour ?tre heureux. il faut ?tre insensible; mais nommerai je le bonheur la privation des plaisir de la vie?.. Un ?tre impossible ne vit pas, il vеg?te. La sensibilitе est la feur de notre existence, et si s’est une feur qui se fane, au moins laisse-t-elle apr?s elle un parfum qui embaume le dernier de nos jours et ne s’еxhale qu’avec le dernier soupir. Et s’il est une autre vie, les souvenirs d’un homme sensible sont la voluptе de l’еden».[13 - Из неизданного письма к В. Ф. Одоевскому 1821, 24/VIII (Импер. Публичная Библиотека).]
Сам Александр Иванович тогда о «кончине дней своих» и о «последнем вздохе» думал, однако, мало. Мало думал он и о так называемой «философии», которая грозит человеку испортить непосредственный и здоровый вкус к жизни.
Его двоюродный брат, тогда тоже еще мальчик, – Владимир Федорович Одоевский, с которым Александр Иванович находился в очень интимной переписке, – делал тщетные усилия направить ум своего брата на серьезные отвлеченные вопросы. Всем своим увлечениям немецкой философией, к которой В. Ф. Одоевский с детства привязался, он находил в письмах своего друга решительный отпор, и ему было, вероятно, очень неприятно читать такие строки: «Я заметил, – писал ему Александр Иванович, – что ты не только философ на словах, но и на самом деле, ибо первое правило человеческой премудрости – быть счастливым, довольствуясь малым. Ну, не мудрец ли ты, когда ты довольствуешься одними словами, а что касается до смысла, то, по доброте своего сердца, просишь у Шеллинга – едва только малую толику? Ты, право, философ на самом деле! Желаю тебе дальнейших успехов в практическом любомудрии. Мой жребий теперь, мое дело быть весьма довольным новым состоянием своим и обстоятельствами. И я философ! – Я смотрю на свои эполеты, и вся охота к опровержению твоих суждений исчезла у меня. Мне, право, не до того. Верю всему, что ты пишешь; верю честному твоему слову, а сам беру шляпу с белым султаном и спешу – на Невский проспект».[14 - Из переписки В. Ф. Одоевского. 1823, 2/III. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 376.]
Его корреспондент мог тем более рассердиться, что за два года перед этим Александр Иванович давал ему понять, и совсем серьезно, что он в себе чувствует некоторое родство с гениями. «Я весел, – писал ему тогда Александр Иванович, – по совсем другой причине, нежели мой Жан-Жак бывал веселым. Он радовался свободе, а я – неволе. Я надел бы на себя не только кирасу, но даже – вериги, для того только, чтобы посмотреть в зеркало, какую я делаю рожу: ибо – le gеnie aime les entraves. Я не почитаю себя гением, в этом ты уверен, но признаюсь, что дух мой имеет что-то общее avec le gеnie. Я люблю побеждать себя, люблю покоряться, ибо знаю, что испытания ожидают меня в жизни сей, испытания, которые, верно, будут требовать еще большего напряжения моего духа, нежели все, что ни случилось со мною до сих пор».[15 - Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 2/Х. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 372.]
Наблюдая, однако, в продолжение некоторого времени за поведением своего двоюродного брата, В. Ф. Одоевский мог убедиться, что он ведет жизнь, совсем не подобающую «гениальной натуре». Он, кажется, и сделал ему по этому поводу довольно откровенный выговор. Писем Владимира Федоровича мы не имеем, но ответы Александра Ивановича сохранились. И он, очевидно, был также рассержен тоном этой переписки, потому что наговорил своему брату-философу много колкостей; а в письмах, кстати сказать, он умел быть и остроумным, и желчным.[16 - В его письмах попадаются иногда очень милые остроты:Лежачих не бьют, а особливо ослов; ты их тем заставишь только встать, чтобы снова лягаться.Береги свою желчь, ибо и ее можно употребить на что-нибудь путное в сей странной жизни.]
«Восклицание за восклицанием! – начинает вышучивать Александр Иванович своего брата. – Но если бы пламень горел в душе твоей, то и не пробивая совершенно твердых сводов твоего черепа, нашел бы он хотя скважину, чтоб выбросить искру. Где она? Видно ты на огне Шеллинга жаришься, а не горишь…
Я скажу все, как вижу из под козырька моей каски, который, однако, не мешает всматриваться в тебя; потому что не нужно для этого (с вашим дозволением) считать на небе звезды. Ты еще пока в людской коже, как и ни лезешь из нее…
Корифей мыслит, а в смысле его – лепечут! Отличишь ли ты плевелы? Если нет, то хороша пища! Заболит желудок. Но весь философский лепет не столь опасен, как журнальный бред и круг писак-товарищей, полуавторов и цельных студентов…
Худо перенятое мудрствование отражается в твоих вечных восклицаниях и доказывает, что кафтан не по тебе. Вместо того, чтобы дышать внешними парами, не худо было бы заняться внутренним своим созерцанием и взвесить себя…
Ты желаешь душой своей разлиться по целому и, как дитя принимает горькое лекарство, так ты через силу вливаешь в себя все понятия, которые находишь в теории, полезной и прекрасной (все, что хочешь), но не заменяющей самостоятельности.
…Истинно возвышенная душа, т. е. творческая, сама себя удовлетворяющая, а потому всегда независимая, даруется свыше благословенным. Такая душа превращает и чужое в личное свое достояние, ибо архетип всего прекрасного лежит в ее глубине. Внешняя сила становится для нее одной только случайною причиною. Она везде берет свою собственность. Возвышенный ум за нею следует, но как завоеватель! Для него нужны труды высокие и поприще благородное! Иначе все, что он ни присвоит, будет казаться пристройкою лачужки к великолепному храму.
В сей высшей сфере нельзя брать в заем; и иногда почти невозможно постигать размышлением то, что постигается чувством…
Итак, учись мыслить, но не говори, что ты достиг цели, стоящей вне круга моей жизни. Ты еще ничего не достиг. Ты едва ли еще на пути, хотя ищешь его, как кажется. Откуда же взялась такая смешная самонадеянность? Ты старше летами, но я – перегнал, я старше – чем? – душою. Но где душа? Ты как будто ищешь ее вне себя, в философии Шеллинга; а я – ее не искал.
Сойди в глубину своего ума – признайся, что набросать слова звучные, нанизать несколько ниток фальшивого жемчуга и потом, сев на курульские кресла, с важностью римского сенатора. судить человека, совсем незнакомого, – весьма легко! Незнакомого? – да, незнакомого… Я не совсем оправился, но, однако, начинаю ступать с некоторой доверенностью к себе. Как-то мыслю, как-то чувствую – иду; но не считаю, как ты, шагов моих; и не мерю себя вершками! У всякого свой обряд. У меня есть что-то – пусть идеал – но без меры и без счету. Шагаю себе, может быть, лечу, но сам не знаю как; и вместе с тем в некоторые мгновения наслаждаюсь истинно возвышенной жизнью, всегда независимой, и которая кипит во мне, как полная чаша Оденова меду.
Чем же ты меня так перещеголял? Внутренним бытием? Ты моего не знаешь. Печатным бытием? – я его презираю».[17 - Из неизданного письма 1824 г. (Импер. Публич. Библиотека). Смысл этих писем не совсем соответствует словам бар. А. Розена, который говорит, что Одоевский был христианин с «философическими воззрениями Канта и Фихте». (Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 10). Одоевский был в значительной степени равнодушен к философии.]
Последние слова очень характерны: Александр Иванович на всю жизнь сохранил это презрение к печати, и если бы его друзья не записывали за ним его стихотворений, то все они так навсегда бы и пропали.
А писать стихи он стал очень рано. «В крылатые часы отдохновения, – как он выражался в одном неизданном стихотворении 1821 г., – он питал в себе огонь воображения и мнил себя поэтом»,[18 - Вот это неизданное стихотворение: оно не из сильных (Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 5/Х. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 373–374).… сбросив бремя светских уз,В крылатые часы отдохновенья,С беспечностью любимца музПитаю огнь воображеньяМечтами лестными, цветами заблужденья.Мечтаю иногда, что я поэт,И лавра требую за плод забавы,И дерзостным орлом лечу, куда зоветУпрямая богиня славы:Без заблужденья – счастья нет.За мотыльком бежит дитя во след,А я душой парю за призраком волшебным,Но вдруг существенность жезлом враждебнымРазрушила мечты – и я уж не поэт!Я не поэт! – и тщетные желаньяДух юный отягчили мой!Надежда робкая и грустны вспоминаньяГостьми нежданными явились предо мной.] и кажется, что плоды этой мечты были очень обильны. По крайней мере, когда его брат просил у него стихов для «Мнемозины», которую он издавал, то Александр Иванович в выборе затруднен не был: «Стихи пишу и весьма много бумаги мараю, – отвечал он брату. – Люблю писать стихи, но не отдавать в печать… по дружбе к тебе, но чуждый журнального словостяжения, я бы прислал к тебе десяток од, столько же посланий, пять или шесть элегий – и начала двух поэм, которые лежат под столом, полуразодранные и полусожженные».[19 - Из неизданного письма 1824, 19/III (Импер. Публичная Библиотека).]
* * *
Хотя Александр Иванович и не любил типографского станка, но к словесности он питал страсть очень нежную, равно как и к русскому языку которым владел в совершенстве.[20 - Генерал Раевский, под началом которого он служил на Кавказе, продиктовав свои реляции, присылал их обыкновенно рядовому Одоевскому для просмотра и поправок. (Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. II, с. 646–647).] К этой страсти он был подготовлен и тем начальным образованием, которое получил в детстве и юношестве. Это образование было преимущественно литературное.[21 - «Воспитывался у моих родителей, – писал он в одном показании, – учители мои были: российского языка и словесности д.с. с. непременный секретарь Императорской Российской Академии Соколов; французского: Геро, Шопен; немецкого: Катерфельд; английского: Дайлинг; латинского: Белюстин, а потом Диц; греческого: Попов; истории и статистики: Арсеньев (короткое время) и Диц; чистой математики: Темясен; фортификации: полевой и долговременной: Фарантов; физики: профессор Делош; законоучители: протоиереи Каменский и Мансветов.] На вопрос судей: «В каких предметах старались вы наиболее усовершенствоваться?» – он отвечал, что в словесности и математике. «Юридическими науками, – утверждал он, – я никогда не занимался или политическими какими-либо творениями. Не только ни одного лоскутка бумаги не найдете, который мог бы служить против меня доказательством, но даже ни единой книги, относящейся до политики или новейшей философии. Я занимался словесностью, службой; жизнь моя цвела». И Одоевский говорил правду. Если в юности его прельщали какие лавры, то разве только лавры писательские; и он позволял себе иногда в частной переписке задуматься над вопросом: а нет ли в нем сходства с Торквато Тассо или со Стерном.[22 - В письмах к В. Ф. Одоевскому. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 371–378.]
Любовь к словесности заставляла Одоевского, конечно, искать знакомства и дружбы литераторов. Широких литературных связей у него не было, но в молодой литераторской компании он был принят как свой. Рылеева и А. Бестужева[23 - Prince de mon ?me – называл его А. Бестужев.] он любил прежде всего как писателей и затем уже подпал под их влияние как политиков. Есть указание, что он был знаком с Хомяковым, с которым вступал в политические споры.[24 - Хомяков уверял Одоевского, что он (Одоевский) вовсе не либерал, а только предпочитает единодержавию тиранство вооруженного меньшинства. Лясковский В. А. С. Хомяков. М., 1897, с. 12.] Но наиболее тесная дружба соединяла его с Грибоедовым. При каких условиях завязалась эта дружба – неизвестно, но Одоевский был постоянным спутником Грибоедова в домах знакомых и в театрах,[25 - Он удерживал Грибоедова от излишнего увлечения закулисными цирцеями: А. С. Грибоедов. – Русская старина. 1874. Т. Х, с. 276; а также: Русский архив. 1874. I, 1537.] а в 1824 г. во время наводнения рисковал жизнью, спасая своего друга.
В начале 1825 г. они даже жили вместе на одной квартире. Знал ли Грибоедов о политических замыслах Одоевского – определить трудно; из письма, которое он писал ему в крепость, видно – что не знал,[26 - Письмо писано, впрочем, при таких условиях, что принимать его всецело на веру невозможно. Каковы бы ни были, однако, эти условия, письмо могло бы быть мягче. «Брат Александр! – писал ему Грибоедов, – подкрепи тебя Бог! Я сюда прибыл на самое короткое время. Государь наградил меня щедро за мою службу. Бедный друг и брат! зачем ты так несчастлив?.. Осмелюсь ли предложить тебе утешение в нынешней судьбе твоей! Но есть оно для людей с умом и чувством. И в страдании заслуженном можно сделаться страдальцем почтенным. Есть внутренняя жизнь, нравственная и высокая, независимая от внешней. Утвердиться размышлением в правилах неизменных, сделаться в узах и в заточении лучшим, нежели в самой свободе, – вот подвиг, который тебе предлагаю… Кто завлек тебя в эту гибель? Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя уму и доброте сердца позаимствовать!» (Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 187–188).] и потому можно предположить, что их дружба была дружбой личной и завязалась, вероятно, также на почве литературных интересов.
Литературные друзья и приняли Александра Ивановича в члены тайного общества.
II
«Заимствовал я сей нелепый противозаконный и на одних безмозглых мечтаниях основанный образ мыслей от сообщества Бестужева и Рылеева, не более как с год. Родители же мои дали мне воспитание, приличное дворянину русскому, устраняя от меня как либеральные, так вообще и всякие противные нравственности сочинения. Единственно Бестужев и Рылеев (а более последний) совратили меня с прямого пути. До их знакомства я гнушался сими мыслями», – так писал Александр Иванович в тюрьме в первые дни своего ареста, ошеломленный катастрофой, испуганный насмерть и под угрозой приступа настоящего душевного расстройства.
Одоевский познакомился с Бестужевым в конце 1824 г.[27 - Бестужев одно время жил в квартире Одоевского, и к нему же на квартиру скоро приехал Кюхельбекер; это подало повод Каховскому сказать на допросе, что иногда для совещаний заговорщики собирались у Одоевского.] «Я любил, – рассказывает он, – заниматься словесными науками; это нас свело. Месяцев через пять после первого нашего свидания в приятельском разговоре мы говорили между прочим о России, рассуждали о пользе твердых неизменных законов. “Доставление со временем нашему отечеству незыблемого устава, – сказал он мне, – должно быть целью мыслящего человека. К этой цели мы стремимся; Бог знает, достигнем ли когда? Нас несколько людей просвещенных. Единомыслие нас соединяет. Иного ничего не нужно. Ты так же мыслишь, как я, стало быть, ты наш”. Вот и все. После разговора моего с Бестужевым он долго ничего не сказывал мне о чем-либо подобном. Когда приехал Рылеев, то он познакомил меня с ним. С Рылеевым я также коротко познакомился и часто рассуждал о законах, о словесности и проч. Слова его о будущем усовершенствовании рода человеческого принимал я по большей части за мечтания, но сам мечтал с ним.[28 - «Одоевский по пылкости своей сошелся более с Рылеевым и очень ревностно взялся за дело», – показывал А. Бестужев.] В этом не запираюсь, ибо воображение иногда заносится».
Одоевский говорил чистейшую правду: он, действительно, всего больше «заносился мечтой», – чем, кажется, и заслужил неудовольствие своих товарищей. «Рылеев и Бестужев, – признавался он, – которые, право, только безумные, извините за выражение, а люди добрые, добрые, говорили мне: “Что ты не работаешь?”, хотя и не давали мне права принятия. Они мне немного надоели (особенно Рылеев), и я их обманывал. Говорил им: “я работаю”, а между тем, почти ничего не делал».
«Делал» он очень мало, чтобы не сказать ничего. Из достоверно установленных фактов видно, что он принял в члены общества корнета лейб-гвардии конного полка Рынкевича (в июле 1825), что 14 декабря утром после присяги он приехал к Сутгофу и упрекал его в том, что он изменил своему слову и не идет на площадь;[29 - В своих показаниях Одоевский отрицал этот факт.] что с поручиком Ливеном заводил несколько раз либеральный разговор в неясных и неопределенных словах; что он принял Плещеева, которому говорил, что цель общества была просить Его Императорское Величество дать конституцию, не объясняя ему (Плещееву), каким образом; наконец, Рылеев полагал, что Одоевский принял в общество Грибоедова.[30 - Чего не было.] Одоевскому ставили в вину также, что он высказывал радость по поводу того, что наступило время действовать,[31 - Одоевский отвергал это показание Бестужева.] обвиняли его также в том, что на одном из собраний у Рылеева он восторженно говорил: «Мы умрем! ах! как славно мы умрем!».[32 - Одоевский в произнесении этих слов также сначала не сознался, и утверждал, вопреки истине, что он никогда не бывал на совещаниях общества; затем он признал, что слова действительно произносил, но настаивал на том, что на совещаниях никогда не был.]
По этим отрывочным данным нельзя, конечно, составить себе никакого представления о политических взглядах Одоевского. Да и были ли они у него? Если верить ему, то к политической мысли он был совсем не подготовлен; он мог быть политически настроен, и в такое настроение, по всем вероятиям, и выливалось все его политиканство. Из показаний на суде видно, например, что он даже плохо знал устав общества, потому что думал, что существует конституция, написанная Рылеевым и Оболенским. Сам он ни устно, ни письменно по политическим вопросам не высказывался. Известно только, что он вместе с Бестужевым и Рылеевым останавливал Якубовича от цареубийства; Рынкевич, кроме того, показывал, что Одоевский в разговорах был умерен и говорил, что Россия не в таком положении, чтобы иметь конституцию. В своих собственных показаниях Одоевский неоднократно говорил, что все это дело считал шалостью и ребячеством. «Оно в самом деле иначе не могло казаться, ибо 30 или 40 человек, по большей части ребят и пять или шесть мечтателей не могут произвести перемены; это очевидно».[33 - «Все же принятие в чем состоит? “Наш ли ты?” – Ваш! – шалость, конечно, противозаконная, преступная, сделалась по милости Рылеева ужасною».] Так мог Одоевский думать в тюрьме, но перед катастрофой думал, вероятно, несколько иначе. Признать себя перед судом открыто членом общества он не хотел; утверждал, вопреки очевидности, что никого не принимал в члены, так как самого себя никогда не почитал таковым; говорил, что решительно не может назвать себя членом, так как не действовал и считал существование самого общества испарением разгоряченного мозга Рылеева; отрицал, что он принят в общество, а признавал только, что он увлечен, так как на слова Бестужева: «Ты наш?» он не отвечал ни да, ни нет, потому что почитал общество ребячеством и одним мечтанием; наконец, говорил, что хвастался из движения самолюбия (не христианского и не рассудительного), желая показать, что имеет некоторый вес в этом обществе – одним словом, Одоевский путался в показаниях, желая задним числом оттенить ту мысль, которая ему пришла в голову в тюрьме и на которой он надеялся построить свою защиту.
Хотел он также убедить судей в том, что и главная цель общества была ему неизвестна. Это ему, однако, не удалось, так как товарищи единогласно показали, что о конституции он говорил неоднократно. Так, например, вместе с Рынкевичем он желал представительного правления,[34 - Цель общества, как Одоевский говорил Рынкевичу, было достижение пред ста витель ного правления посредством распространения просвещения (?).] но не надеялся дожить до него; графа Ливена наводил он на мысли о том же словами: «Поговаривают о конституции»; Плещееву 2-му он сообщил, что общество хочет просить царя о конституции; князю Голицыну он говорил, что есть общество, желающее распространить либеральные мысли, дабы искоренить деспотизм и переменить правительство, и говорил он это, по словам Голицына, «свойственным ему языком неосновательности рассуждений». Наконец, Никита Муравьев утверждал, что перед отъездом своим из Петербурга, осенью 1825 г., он дал Одоевскому копию со своей конституции.[35 - Несмотря на очную ставку, Одоевский показывал, что не получал этой копии и не читал конституции.]
Против таких улик бороться было трудно и Одоевский в конце концов согласился, что он был принят в общество, стремящееся к достижению конституции, но что все-таки это общество почитал шалостью и ребячеством.
Из всего этого ясно, что конечная цель пропаганды была известна Одоевскому, но в какой форме он рисовал себе конституцию – это неизвестно, и легко может быть, что он прошел совсем мимо этого вопроса.
III
В конце 1825 года Одоевский взял отпуск и уехал во Владимирскую губернию, в деревню к отцу, с которым давно не видался. Между членами общества было условлено, что в случае какого-нибудь важного происшествия каждый из них, где бы он ни был, явится в Петербург. Узнав в Москве о смерти Императора Александра Павловича, Одоевский 8 декабря 1825 г. вернулся в столицу.[36 - «14 декабря» И. Пущина – Всемирный вестник. 1903. VI–VII, с. 229. Ср. Завалишин Д. Записки декабриста. Мюнхен, 1904. I, с. 309.] Для членов тайного общества наступили суетливые и тревожные дни.
11-го декабря Одоевский говорил Рынкевичу: «Я чувствую что-то, что скоро умру, что-то страшное такое меня, кажется, ожидает».
На заседании 13 декабря у Рылеева Одоевского не было, так как утром того числа он вступил в караул в Зимнем дворце, откуда мог смениться только утром 14 декабря. Но 12-го числа вечером, после собрания у Рылеева, он еще побывал у князя Оболенского, куда собрались офицеры разных полков за последними инструкциями касательно будущих действий.[37 - Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862, с. 14–15.]
14 декабря утром Одоевский стоял еще во внутреннем карауле. Уже после, когда открылось его участие, вспомнили, что он беспрестанно обращался к придворным служителям с расспросами обо всем происходившем – обстоятельство, которое в то время приписывали одному любопытству.[38 - Корф М. Восшествие на престол императора Николая I. СПб., 1857, с. 116.]
Присягнув новому Императору, Одоевский пошел к Рылееву, который «сказал ему дожидаться на площади доколе придут войска». «Я пришел на площадь, – показывает Одоевский, – не найдя на ней никого, пошел домой и у ворот встретил Рынкевича, у коего взял сани, поехал через Исаакиевский мост в Финляндский полк, дабы узнать, приняли ли присягу. Здесь встретил я квартирмейстерского офицера, которого видал у Рылеева и который известил меня, что Гренадерский полк не подымается и звал меня ехать к оному. Прибыв туда, нашел некоторых офицеров на галерее, от коих узнал, что полк присягнул, но что Кожевников арестован, о чем мы соболезновали. Приехав назад на Исаакиевскую площадь, нашел уже толпу Московского полка и некоторых из моих друзей, к коим я пристал. С ними кричал я: Ура! Константин!».[39 - Ср. «14 декабря» И. Пущина – Всемирный вестник. 1903. VI–VII, с. 235–237.]
Как только Одоевский прибыл на площадь, ему сейчас дали в команду взвод для пикета, во главе которого он и стал с пистолетом в руках.[40 - У Одоевского при себе было 2 пистолета; один он уступил В. Кюхельбекеру. Одоевский должен был признать этот факт, хотя сначала отрицал его. Есть указание, что в пистолет, который он дал Кюхельбекеру, он насыпал песку, зная шальной нрав своего товарища.] Поставил его на этот пост кн. Оболенский, но Одоевский недолго оставался во главе пикета и возвратился в каре. Ни одного командного слова он не произносил.
На площадь Одоевский пришел в большом возбуждении и все время находился, как он сам говорил, в полусознании. «Я простоял, – писал он царю, – 24 часа во внутреннем карауле, не смыкал глаз, утомился: кровь бросилась в голову, как со мной часто случается; услышал: “ура!” – крики толпы и в совершенном беспамятстве присоединился к ней».
«Я… весь ослабел, здоровья же я вообще слабого, потому что от лошадей грудь разбита и голова; кровь беспрестанно кидалась в голову; я весь был в изнеможении… Двадцать раз хотел уйти; то тот, то другой заговорят;[41 - Другое показание: «Я двадцать раз хотел уйти, но тут меня обнимали, целовали, и чтобы не показаться трусом, я остался, из дружбы также, сам не знаю отчего».] конногвардия окружила; тут я совсем потерялся, не знал куда деться; снял султан: у меня его взяли, надевали мою шубу.[42 - Шинель Одоевского, действительно, кто-то с него снял и затем в ней парадировал.] Щепин вывел меня напоказ конной гвардии: “Ведь это ваш?” В другой раз я вышел и удержал московских солдат от залпа и спас, может быть, жизнь многих».
«На площади, – показывал В. Кюхельбекер,[43 - Гастфрейнд Н. Кюхельбекер и Пущин в день 14 декабря 1825. СПб., 1901, с. 10, 14, 18.] – я с Одоевским снова увиделся. Находился он неотлучно при московцах; удалял чернь из боязни напрасного кровопролития (когда она приближалась к рядам), не только не поощрял, но унимал солдат, стрелявших без спросу; а при ожидаемом на нас нападении конницы, увещевал их метить не в людей, а лошадям в морды; караульному же офицеру, который грозился велеть выстрелить в нас обоих, подошедших слишком близко к сенатской гауптвахте, он отвечал: “Monsieur! on ne meurt qu’une fois”. Наконец, увидел я Одоевского, теснимого толпою мимо его бегущих солдат гвардейского экипажа, и заметил, как он снимал султан со своей шляпы».
Суматоха на площади, как видим, царила большая, и среди этой суматохи роль Одоевского была ничтожна. Собственно, никакой вины за ним, кроме самого присутствия на площади, и не числилось. Были даже заслуги. «В самом деле, – писал он царю, – в чем моя вина? Ни одной капли крови, никакого злого замысла нет на душе у меня. Я кричал, как и прочие; кричал “ура!”, но состояние беспамятства может послужить мне оправданием. Если бы у меня малейший был бы замысел, то я не присоединился бы один, а остался бы в своем полку».[44 - Свою растерянность и отсутствие всякого замысла Одоевский пояснял в показаниях умышленной и, вероятно, ложной бравадой. «Сменившись с дворцового караула, – писал он, – и присягнув, я возвратился домой, разделся и надел сюртук, сначала я поехал в конфектную лавку, а потом зашел к Рылееву для того, чтобы посмеяться над его мечтаниями, ибо все было тихо, и я полагал, что уже все предположения его, все его надежды рушились. Он отвечал мне: “Иди на Исаакиевскую площадь, посмотри еще: может быть, что и будет”. Я повторю, что в полки я поехал единственно из любопытства. Это должно быть согласно не только со всеми прочими показаниями, но оно явствует из самого дела. Если были какие-либо на кого возложены обязанности, то конечно не на меня, ибо они не могли на меня ни надеяться, ни полагаться».]
На площади у Одоевского, действительно, начинался тот длинный пароксизм беспамятства, который разрешился острым душевным кризисом в тюрьме.
«В колонне остался я, – пишет Одоевский, – доколе оная была расстроена и разогнана картечью. Тогда пошел я Галерной и чрез переулок на Неву, перешел через лед на Васильевский остров к Чебышеву.[45 - «Чебышев – человек достаточный, – пишет Одоевский в другом показании, – добрый, с которым я уже знаком года два; что я зашел к нему, то это по весьма естественному случаю. Когда начали толпу разгонять, я пошел по Галерной улице и поворотил в переулок. Потом зная, что все окружено войсками, некуда было мне идти более, как через Неву. Я перешел ее, увидел, что отряд Конной Гвардии идет по Васильевской набережной. Чтобы не встретиться с ним, пошел я налево вдоль домов по тротуару; Конная Гвардия была уже очень близка. Я очутился близко дома Чебышева и зашел к нему. Сперва стоял я в сенях и думал: идти ли мне или нет? Наконец решился. Сперва я увидел одних его племянниц, которые были в большом страхе и расспрашивали меня. Я сел и почти ничего не отвечал. Потом вошел и сам Чебышев. “Ты откуда?” Я скрепился духом, отвел его в другую комнату и сказал ему, что я замешан в этом безумном и преступном возмущении. Я употребил слово тогда “шалости”, но теперь не смею и повторить такое непристойное слово, когда дело идет о злодеяниях. “Тебе делать нечего иного, как идти отдать шпагу и просить прощения у Государя”. Я худо, очень худо сделал, что тотчас же не последовал совету этого доброго человека, но я был почти без памяти».] Оттуда возвратился в город и заехал к Жандру,[46 - Писатель А. А. Жандр, «родственницу которого Одоевский спас, вытаща ее из воды». Рассказывали, что Жандр не выдал Одоевского явившимся к нему в дом сыщикам. (Русская старина. 1874. Т. Х, с. 157).] живущему на Мойке. Здесь дал мне сей последний фрак, всю одежду и 700 руб. денег. Я пошел в Екатерингоф, где купил тулуп и шапку, и прошел к Красному Селу. Наконец, вчерась возвратился в Петербург, где прибыл к дяде Д. С. Ланскому, который отвел меня к Шульгину (полицеймейстеру)».
О том, как Одоевский вернулся в дом своего дяди Ланского, существует несколько рассказов, с истиной едва ли вполне согласных.
Рассказывали, что он пешком пошел по Парголовскому шоссе; но у дачи дяди его Мордвинова (?) люди узнали его, а Мордвинов вернул его в Петербург и представил куда следует.[47 - Данилов И. Забытая писательница. – Исторический вестник. 1900. Июль, с. 198. Мордвинов здесь, очевидно, спутан с Ланским.]
Один современник утверждал, что гусары, казаки и драгуны делали ночью обход, чтобы ловить преступников, и Одоевский, спасаясь от них, провел ночь под дугой какого-то моста, но затем, окоченев от холода, спасся к Ланскому.[48 - Schnitzler. Histoire intime de la Russie. I, 248.]
Другой современник рассказывает, что 14 декабря вечером Одоевский исчез. На следующий день около взморья один унтер-офицер наткнулся на прорубь, которая начала уже замерзать, и увидал, что около проруби лежат шпага, пистолет, военная шинель и фуражка Конногвардейского полка. Шинель вырубили изо льда и начали поиски тела. Вещи были доставлены на квартиру Одоевского, которого искали. Прислуга признала их, и решили, что Одоевский утонул; а он через несколько дней, в простом полушубке, как мужик, пришел к Ланскому. Ланской обещал будто бы его спрятать, отвел его в дальнюю комнату, запер в ней, а сам поскакал с докладом во дворец.[49 - Декабристы в рассказе помощника квартального. Берлин, 1903, с. 20–26. Рассказ этот перепечатан под заглавием «Из воспоминаний петербургского старожила» в «Историческом вестнике», 1904. Январь.] Рассказывали, наконец, что Ланской не дал Одоевскому ни отдохнуть, ни перекусить, а прямо повез его во дворец.[50 - Записки князя Трубецкого. Лейпциг, 1874, с. 22.]
17 декабря в 2 ч. дня Одоевский и Пущин были доставлены в Петропавловскую крепость с запиской от императора, в которой он писал: «Присылаемых при сем Пущина и Одоевского посадить в Алексеевский равелин».
IV
В равелине Одоевский сидел рядом с Н. Бестужевым. «Одоевский, – рассказывает М. А. Бестужев, – был молодой пылкий человек и поэт в душе. Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как угомонить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал, как запертый львенок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у стражей волосы подымались дыбом; что ему ни говорили, как ни стращали – все напрасно. Он продолжал свое, и кончилось тем, что его оставили. Этот-то пыл физической деятельности и был причиной, что даже терпение брата Николая разбилось при попытках передать ему нашу азбуку. Едва брат начинал стучать ему азбуку, он тотчас отвечал таким неистовым набатом, колотя руками и ногами в стену, что брат в страхе отскакивал, чтоб не обнаружить нашего намерения».[51 - Записки М. Бестужева. – Русская старина. 1870. I, с. 274 (II издание).]
Такое поведение Одоевского в тюрьме неоднократно обращало на себя внимание его биографов, и все приписывали эти странности его пылкому темпераменту. Теперь, когда показания его перед нами, поведение его объясняется иначе: он был психически болен, расстроен до потери сознания. На него напал панический страх, и ужас его положения притупил в нем все другие чувства, лишая его иногда даже связной речи. И понятно, что такое расстройство могло овладеть его духом. Слишком был он не подготовлен к испытанию, слишком не увлечен своим делом, чтобы не пасть духом. Слишком был он молод, богат, красив, умен, талантлив, полон надежд, чтобы не ужаснуться грядущему. А это грядущее рисовалось ему как нечто невообразимо страшное и беспросветное. Он словно угадывал свою судьбу и отбивался от ее призрака.