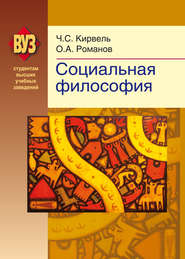скачать книгу бесплатно
5. Развитие общества носит вполне предсказуемый характер. Ошибки и просчеты в прогнозировании будущего социального бытия есть результат неполного знания и понимания закономерностей его развития.
Таковы в самом общем и схематизированном виде базисные параметры классической парадигмы социального познания, которая так или иначе коррелировала с классической научной картиной мира.
Однако постепенно ситуация изменилась. В результате небывало резкого ускорения общественных процессов, уплотнения темпов социальных изменений, непредсказуемых сдвигов и трансформаций в человеческом бытии, а также под влиянием революционных открытий в естествознании, в частности в связи с достижениями термодинамики в XIX в. и квантовой механики в XX в., стала с трудом, встречая мощное сопротивление привычных идей и взглядов, формироваться новая картина мира. Получила свое развитие так называемая неклассическая наука. Ее сущностным признаком является рефлексия над субъективными средствами ведения научной деятельности, т. е. осознание, что используемые средства и методы не только помогают проникнуть в сущность познаваемого предмета, но и во многом формируют эту сущность. В рамках неклассической науки были обоснованы идеи о вероятностной причинности, о случайности как имманентном свойстве мироздания.
Во второй половине XX в. благодаря прежде всего становлению синергетики[7 - Синергетика (от греч. synergetikos – совместный, согласованно действующий) – научное направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах (биологической, физико-химической и др.) благодаря интенсивному (потоковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях.] нового междисциплинарного научно-мировоззренческого направления, объект исследований которого – процессы самоорганизации в открытых системах, в том числе и в общественной жизни, начинает утверждаться постнеклассическая научная картина мира.
В развитии общества и социального познания среди исследователей стал пробивать себе дорогу взгляд, согласно которому нет никакого предопределенного движения социума к модели светлого будущего, а оптимизм истории телеологически не задан. В ситуации последних десятилетий XX и начала XXI в. в обстановке трагических социально-политических метаморфоз на постсоветском пространстве и на фоне глобальных кризисных явлений, охвативших современную техногенную цивилизацию, стало вполне очевидным не только то, что будущее многовариантно, но и то, что его совсем может не быть.
Безграничность и многомерность социальной практики конца XX и начала XXI в., резко возросший динамизм общественной жизни в связи с непредсказуемыми процессами социальной трансформации и процессами перехода наиболее развитых стран к постиндустриальному обществу с его гибкими и подвижными структурами обнаружили ограниченность господствующей долгое время парадигмы линейно-поступательного развития социума. В результате на передний план выдвинулись другие характеристики социальной динамики: нелинейность и вариативность развития, несводимость многообразия общественных отношений к общему знаменателю, альтернативность, релятивность всех структур, их автономность по отношению к целому и т. д.
Формирующаяся картина мира (новая исследовательская парадигма) существенным образом трансформировала наши представления о закономерностях развития как природного, так и социального мира.
Выделим в качестве исходных следующие основоположения исследовательской парадигмы, которая сегодня утвердилась как в естественнонаучном, так и социогуманитарном знании:
• исследовательское поле науки включает не только познание закономерного, общего, универсального, повторяющегося, но и случайного, отдельного, неповторяющегося, индивидуально-событийного;
• трансформационные процессы интерпретируются как открытые и самоорганизующиеся, что означает отказ от принудительной каузальности, предполагающей наличие изолированных причинно-следственных цепочек и фиксацию внешнего по отношению к рассматриваемой системе объекта в качестве причины ее трансформации;
• отказ от рассмотрения случайности в качестве только внешней по отношению к исследуемому процессу помехи, которой можно пренебречь, и придание этой помехе статуса фундаментального фактора в механизме детерминации трансформирующихся систем; отсюда утверждение нового типа детерминизма, не отвергающего в объяснении мира случайности, а согласующегося определенным образом с ней: если в момент перехода объекта из одного состояния в другое (в точке бифуркации[8 - Точка бифуркации – переломный, критический момент неопределенности в процессе развития, точка разветвления возможных путей эволюций системы.]) доминирует случайность, непредсказуемость, то после «выбора» системой направления развития и обретения новой формы устойчивости в действие вступают связи причинно-следственной обусловленности (детерминизм);
• развитие носит нелинейный, многомерный характер; оно многовариантно, альтернативно как в перспективном, так и ретроспективном плане, его темп и направленность не заданы однозначно и не сводимы к простой поэтапной поступательности; линейно организованные процессы, замкнутые системы, действующие как механизмы, выступают лишь как частный случай нелинейной динамики;
• новый, нелинейный тип детерминизма исключает возможность любого однозначного описания и невероятностного прогнозирования будущего состояния трансформирующихся систем;
• управление сложноорганизованными системами предполагает осознание и учет сущностных особенностей нелинейной динамики – неравновесность, неустойчивость, незапрограмми-рованность и альтернативность в процессах развития – и, соответственно, допускает возможность существования сфер и ситуаций, не подвластных контролю и непредсказуемых.
Таким образом, мы видим, что в рамках неклассической и постнеклассической картины мира имеет место различная ак-центуализация понятийных доминант: детерминизм – случайность, закрытые системы – открытые системы, линейность – нелинейность, устойчивость – неустойчивость, порядок – беспорядок, предсказуемость – непредсказуемость. Постнеклассическая картина, полностью не отрицая наличие в мире замкнутых систем, линейных соотношений, детерминистских связей (законов) и подобного, все же делает акцент на противоположных понятиях и принципах развития мира, стремится научным путем постичь то, что не было прежде предметом науки (хаос, беспорядок, становление и другое – явления, не имеющие до сих пор строгого определения), пытается рациональным способом объяснить нерационально устроенный мир.
Современная постнеклассическая картина мира в своем приложении к социальному познанию открыла в развитии общества процессы, при которых будущее не всегда и не обязательно является предопределенным итогом предшествующих событий (причин). В ее рамках делается акцент на том, что в точках бифуркации строго детерминистское описание социальных явлений становится недостаточным или вообще непригодным, ибо одно и то же событие (причина) способно стать толчком развития альтернативных сценариев.
Под влиянием синергетического сдвига в естествознании постепенно стало утверждаться понимание – в мире есть место порядку и беспорядку, равновесию и неравновесности, предсказуемости и непредсказуемости и т. д. Правда, пока можно обозначить лишь общие очертания нового стиля мышления и нового миропонимания, связанных с синергетикой. Тем не менее можно говорить о некоем методологическом синтезе в рамках постнеклассической картины мира, казалось бы, несовместимых ранее понятий и принципов, приближающих нас к формированию нового целостного образа мира.
В современной социальной философии перемешаны и сосуществуют методологические установки классического, неклассического и отчасти постнеклассического обществозна-ния. В сложившейся ситуации новационный методологический поиск необходимо направить не просто на освоение всего спектра современных социологических теорий, не просто на плюралистический перебор общественных моделей и концепций, а на выработку реального, рационально обоснованного мировоззренческого и методологического синтеза, базирующегося на поиске общих принципов соотношения, соизмеримости и взаимо-дополнительности различных методологических и общетеоретических подходов.
Анализ парадигмальных оснований социальной философии позволяет сделать вывод: социальная философия выполняет важнейшие функции – методологическую, мировоззренческую, гносеологическую и прогностическую.
Методологическая функция состоит в разработке теоретических моделей общества, она предлагает частным общественным наукам надежные основания для их исследовательской деятельности, дает возможность более полно и глубоко понять суть тех проблем, которыми они занимаются. Так, например, обращение социологов к идеям и методам социальной философии помогает исследовать сложнейшие процессы, происходящие в социальной структуре общества, в институтах семьи и образования, выявить подлинные причины суицидального и девиантного поведения и т. п. Историки могут использовать социальную философию как методологию при изучении конкретных социально-исторических организмов, культур разных народов и этносов. Юристы в социальной философии могут найти ценные для себя идеи о природе государства и права, отношениях государства и личности, об источнике прав и свобод человека.
Мировоззренческая функция состоит в том, что социальная философия формирует целостный взгляд на социальную реальность, позволяет понять ее в единстве сущности и существования. Принципиально важно отметить, что философское мировоззрение содержит не только рационально обоснованное знание об обществе, но и систему ценностей и идеалов, с помощью которых люди могут ориентироваться в социальном мире, оце-нивать его пригодность для своей жизни, соответствие или несоответствие человеческим потребностям и целям. Социальная философия строит и предлагает такую картину мира, в которой человек имеет надежные духовные ориентиры, позволяющие ему конструктивно мыслить и действовать. Значение мировоззренческой функции возросло в последние десятилетия. Сторонники идеологии глобализма развернули широкомасштабную критику всякой устойчивой, национальной, духовной идентичности народов, которая расценивается как наиболее значимое препятствие на пути к общепланетарной интеграции. Почему это происходит? Дело в том, что народ способен перенести «любые испытания, любой натиск враждебной ему материи при условии, что ему присуща устойчивая идентичность и вера в свое призвание в мире. И напротив, даже в условиях относительного материального благополучия народ деградирует и погибает, если поражен его центральный нерв – осознание своей идентичности и призвания (исторической незаменимости)»[9 - Зиновьев, А. Глобальный человейник / А. Зиновьев. М., 1997. С. 142.]. Отсюда и стремление идеологов глобализма любой ценой сформировать комплекс неполноценности и уязвленное историческое самосознание у восточнославянских народов. Цель подобных устремлений – общечеловек, у которого оборваны связи с природным и культурным космосом своего народа, утеряна память ландшафта и память предков, атрофирована потребность в высокосложном и уникальном. Подобный человек становится легкой добычей рекламы, превращается в заводную манипулируемую игрушку потребительского общества. Противостоять этому не представляется возможным без развития и широкой популяризации социогуманитарного знания, задача которого состоит в выдвижении и обосновании ценностно-мировоззренческих ориентиров в развитии общества.
Гносеологическая функция дает возможность постигнуть социальную реальность, раскрыть причины, механизмы и характер происходящих в обществе процессов. Познавательная роль социальной философии заключается прежде всего в том, что она дает целостную картину общественной жизни, исследует общество как целостный организм, как особую устойчивую систему. Законы, изучаемые ею, – это законы взаимосвязи всех сторон и звеньев общественного организма. Социальная философия открывает возможность увидеть проблемное поле мира социума в целом и тем самым приблизиться к истинному пониманию его сущности. Познавательную функцию такого рода не имеют другие социогуманитарные науки, исследующие в силу своей специфики лишь отдельные стороны и сферы общественной жизни. Поскольку философия выявляет логику движения социума, изучает общество как целостную систему и основные законы, по которым эта система функционирует и развивается, она выступает в качестве общей теории и метода для всех других наук, исследующих общество.
В условиях современности значение социально-философских знаний о мире многократно увеличилось. Сложность общественной жизни достигла такого уровня, что осуществить верный исторический выбор путей дальнейшего развития можно только на надежной познавательной базе. Сегодня, когда резко возросла роль субъективного фактора истории в форме усиления влияния различных идеологических доктрин, теоретических проектов и моделей общественного переустройства на судьбы народов и цивилизаций, принимать политические решения на основе интуитивных озарений или методом проб и ошибок безответственно и опасно. Решения, не опирающиеся на глубокое понимание происходящих в мире процессов, не имеющие под собой теоретически выверенных оснований, солидной экспертной проработки, только случайно могут быть правильными и привести к каким-либо положительным результатам. Государственные деятели, которые замыкаются в пространстве политически актуального, оказываются в плену текущих и сугубо прагматических значимостей. Они не учитывают ценностно-мировоззренческий фон в обществе и реальное состояние общественного сознания, не ориентируются при выработке тех или иных решений на дальние горизонты, на всю палитру добываемых наукой знаний о специфике и характере современной социальной динамики, и поэтому их ждет незавидная судьба. В конечном счете такие государственные деятели окажутся в ситуации кремлевских геронтократов начала 90-х гг. прошлого века.
Сущность прогностической функции состоит в том, что социальная философия, выявляя глубинные тенденции развития общества, может предвидеть их развертывание в будущем и построить более или менее приближенный к действительности образ. Назовем принципы социальной философии, открывающие такую возможность. Во-первых, социальная философия исходит из понимания общества в единстве его прошлого, настоящего и будущего.
1. Прогнозирование будущего возможно лишь на основе верно понятой истории. История, по словам испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета (1883–1953), – это «пророкнаоборот», дающий нам обратное, зеркальное отображение будущего. Исторический процесс определенным образом структурирован и допускает понимание со стороны глубокого и тонкого исследователя. Социальная философия, разрабатывая масштабные теории, объясняющие исторический процесс, тем самым подводит методологический фундамент под задачу рационального постижения будущего.
2. Социальная философия исходит из убежденности в наличии законов общественной жизни, которые могут быть определенным образом трансформированы или искажены, но не могут быть отменены частной волей отдельных лиц. Наличие социальных законов, многие из которых действуют на значительных отрезках исторического времени, исчисляемых столетиями или даже тысячелетиями, позволяет проводить более-менее теоретически строгое исследование перспектив развития общества.
Сильной стороной социально-философского прогнозирования является способность к комплексному, интегральному анализу социальной реальности, выявлению в ней не одной или двух, а огромного количества взаимосвязанных тенденций. Философы в размышлениях о будущем опираются на многовековой опыт человеческой культуры, используют в своей познавательной деятельности не только рационально-дискурсивные, но и интуитивные средства. В этом состоит существенное отличие социальной философии от частных наук, которые рассматривают лишь ограниченную область социальных процессов и обрабатывают данные о них с помощью компьютеров, не способных к творчеству, интуиции, фантазии, выходу за установленные пределы. Поэтому предвидения крупных философов (И. Канта, В. Соловьева, О. Шпенглера, Ф. Достоевского) оказывались гораздо более продуктивными, чем прогнозы, полученные с помощью сверхмощных современных компьютеров.
Правильность прогноза может служить одним из критериев истинности социальной теории. На эту возможность оценки обществоведческих теоретических моделей обращают внимание исследователи В.И. Пантин и В.В. Лапкин. «В методологическом и научно-практическом плане чрезвычайно важным является то обстоятельство, что прогноз служит одним из основных критериев истинности и плодотворности теории, положенной в основу анализа. Если неверен прогноз, то в чем-то ошибочна теория, и ее необходимо корректировать, дополнять или пересматривать», – пишут они[10 - Пантин, В.И. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития / В.И. Пантин, В.В. Лапкин. Дубна, 2006. С. 43.]. Утверждение имеет под собой реальное основание в том смысле, что фундаментальная теория действительно должна проверять себя в социальной практике, и прогнозирование общественного развития – один из самых сложных и показательных способов такой проверки.
Углублению представлений о проблемном поле обществоведения будет способствовать анализ соотношения социальной философии и философии истории. Иногда эти отрасли философского знания отождествляются. В такой позиции есть определенный смысл, ибо их предметы весьма близки, иногда до неразличимости, но, тем не менее, каждая из них сохраняет свою специфику и заявляет о праве на самостоятельное существование в философском знании. Рассмотрим проблемное поле философии истории и ее отношение к социальной философии.
Философия истории наряду с онтологией, философской антропологией и теорией познания является непременной составной частью всякой цельной философской системы. В отечественной мысли до последнего времени ее проблематика либо ограничивалась рамками исторического материализма (его интерпретацией исторического процесса в соотнесении с формационным подходом), либо фокусировалась на изучении природы, средств и способов исторического познания, поэтому философия истории, несмотря на пробудившийся к ней в последние десятилетия интерес, остается недостаточно исследованным проблемным полем. Необходимо определить специфику философско-исторического знания, сформулировать его основные проблемы и показать отличия от смежных отраслей науки, в частности от истории.
Важнейшей задачей философии истории является постановка общеметодологических проблем исторического познания. Задача философа – определение концептуальных понятий нефилософской науки об обществе и истории. Именно философы продумывают понятие «история» в их диалектической связи с категориями «социум», «вечность», «время».
Они решают проблему законосообразности исторического процесса — наличия в событийном пласте общественной жизни объективных, неслучайных связей, позволяющих историку считать себя ученым, объясняющим исторические события, а не только «понимающим» их мотивацию и т. п. Таким образом, философы дают ответ на вопрос, как возможно историческое знание. В рамках собственно исторической науки такие вопросы не ставятся, ибо историки, как правило, с недоверием относятся к широким обобщающим конструкциям и генерализующим методам познания, в которых теряется уникальность отдельных событий.
Разумеется, проблемное поле философии истории и ее задачи не сводятся лишь к методологическому обеспечению историографии. В процессе понимания истории как целостного объекта возникают проблемы, которых не может увидеть исследователь, занимающийся изучением развития отдельных народов или содержанием конкретных эпох. И вот здесь возникает проблема единства исторического процесса, механизмов и этапов становления и перспектив дальнейшего развития человечества как целостного интегрированного образования. В научной литературе можно выделить два крупных подхода к решению этой проблемы. Один из них, который условно называется системным, реализует идею принципиального единства человечества, наличия у него общих глубинных оснований существования и развития. Эта идея развивалась на разных теоретикометодологических основаниях представителями религиозной философии Просвещения и сторонниками материалистического понимания истории. Плюралистический подход к истории появился позже, но довольно быстро завоевал популярность и утвердился в социально-гуманитарном знании. Его базовой интуицией является тезис о несводимости друг к другу и обособленности отдельных цивилизаций и культур. Плюралистический подход сформировался в трудах Данилевского, Шпенглера, Тойнби. Вся история превращается в этом случае в совокупность изолированных друг от друга социально-исторических образований – цивилизаций, возникающих и развивающихся полностью автономно, а значит, какие-либо отдельные стадии или эпохи в истории выделять не приходится.
Таким образом, основной проблемой философии истории является проблема становления всемирной истории человечества, анализ тернистого пути возможной интеграции людей в планетарную общность, прогноз судеб единого человечества, поджидающих его опасностей и альтернатив дальнейшего развития. Для решения этой сложной проблемы философия истории нуждается в формировании особого методологического инструментария, сочетающего в себе методы генерализующего обществоведения, направленные на установление общих социальных законов, с методами индивидуализирующего понимания крупных исторических событий, имеющих определяющее значение для человечества.
Принятие идеи единства человечества ведет нас к решению следующей крупной проблемы философии истории – осмыслению процесса взаимодействия отдельных стран и народов. Подобное взаимодействие всегда имеет верхний пласт, обусловленный уникальными особенностями народов, ситуации и эпохи. Но за внешним пластом конкретных процессов скрывается более глубокий слой закономерностей межкультурного обмена, становящийся предметом философского рассмотрения. Именно философия истории способна установить источники, природу и функции таких форм взаимодействия, как война, торговля, культурный обмен. Только в рамках философско-исторического знания может быть четко поставлена и решена проблема выявления наиболее общих закономерностей трансмиссии культурных ценностей от обществ-доноров к обществам-реципиентам. Актуальность этой темы многократно возросла в последние десятилетия, когда под видом глобализации зачастую стала осуществляться вестернизация стран не-Запада. Для восточнославянских народов указанная проблема приобретает особую остроту в связи с поиском цивилизационных ориентиров развития и активно обсуждается в рамках дискуссии славянофилов и западников вот уже два столетия.
Еще одной гранью темы единства мировой истории является проблема неравномерности исторического развития, эмпирически наблюдаемого и теоретически фиксируемого факта лидерства отдельных стран и народов. Одним из первых эту проблему поставил Г. Гегель, выделивший исторические и неисторические народы. Между лидерами и аутсайдерами складываются непростые отношения, в целом подчиняющиеся общим закономерностям исторической корреляции между более или менее развитыми в экономическом, социальном и политическом плане обществами. Именно на этой основе можно решать сложнейшую проблему осмысления таких неоднозначных явлений мировой истории, как империализм и колониализм.
Относительно новым предметом философии истории является сложный процесс интеграции отдельных народов в на-дэтническую и наднациональную общность, зримо проявивший себя во второй половине XX в. Именно философское мышление должно осмыслить содержание интеграционных процессов, сопряженных со множеством проблем и конфликтов, оценить перспективы интеграции, степень ее обратимости или необратимости, задуматься над реальными опасностями, поджидающими соединенное человечество, – от экологических проблем до прискорбной потери неконвертируемых ценностей национальной культуры, утраты определенных степеней свободы в рамках привычного национального суверенитета и т. д.
Философия истории способна решать и вполне практические задачи. Именно она может помочь обрести человечеству начала XXI в. подлинные возвышающие идеалы, показать необходимость изменения привычных жизненных ориентиров и стереотипов социального поведения. Философия истории способна извлекать уроки из значимых исторических событий и предлагать сделанные выводы в качестве программы дальнейшего развития.
Именно философия истории становится полем пересечения валюативной (ценностной) и рефлективной (сугубо научной) ветвей философствования. Задачи духовной ориентации человечества, разъяснения сложившейся исторической обстановки и перспектив ее развития заставляют философа совмещать объективный анализ ситуации с поиском целесообразных путей поведения в ней.
Глава 3
Основные теоретические модели социальной реальности
Одной из важнейших проблем социальной философии является исследование и раскрытие фундаментальных оснований общественной жизни. Общество представляет собой сложную и многогранную систему, в которой теснейшим образом переплетены материальные (экономические), духовные, географические, политические, социальные и другие связи и отношения. Поэтому выделение основного фактора социального развития представляет собой задачу, без решения которой невозможно понять имманентные (от лат. immanens – свойственный чему-либо) законы социальной жизни, объяснить мотивы и поступки людей в ходе их жизнедеятельности.
Мыслители всех времен искали социальные детерминанты, определяющие структуру общественных отношений. Поиски эти были непростые. Опыт развития науки об обществе показал, что попытки создать истинную теорию движения социума сталкивались с особыми трудностями, которых не знало естествознание. Стоит нам обратиться к истории науки об обществе, как мы обнаружим длинную цепь ошибок и заблуждений, преднамеренных или непроизвольных искажений фактов, иллюзий и утопий. Великое множество мыслителей, бравших на себя смелость объяснить, где находится сила, управляющая развитием общества, по каким причинам возникает та или иная структура общественных отношений, тот или иной облик общества, нередко терпели фиаско.
Мир социума – это такой предмет исследования, который никогда не поддается окончательным решениям, раз и навсегда установленным истинам. Даже самый поверхностный взгляд на общественную жизнь убеждает в том, что она представляет собой сложнейшую и запутаннейшую паутину (совокупность) связей, отношений и взаимодействий: люди трудятся или эксплуатируют чужой труд, ведут борьбу против врагов, страдают и гибнут, молятся Богу и обращаются к нему с проклятиями, ненавидят и любят, мечтают и надеются на лучшую жизнь, вступая при этом в самые разнообразные отношения. Трудно разобраться во всем этом сложном переплетении фактов, событий и обстоятельств, которые являет нам история на протяжении тысячелетий. Наиболее выдающиеся мыслители, которых волновали судьбы человечества, не могли понять, какая же сила управляет историей – этим хаосом событий и фактов. Столкновение добра и зла? Господь Бог? Воля героя или императора? Есть ли вообще какие-либо законы, действие которых обусловливает и предопределяет жизнь общества?
Тем не менее поиски ответов на эти вопросы не прекращались. Социально-философская мысль постепенно, от эпохи к эпохе, наращивала свой познавательный потенциал. В конце концов результатом этих поисков стало выдвижение и обоснование исследователями теоретических моделей, объясняющих с той или иной стороны процесс развития общества, предпосылки и причины социальных изменений и трансформаций.
Идеалистический подход к интерпретации общественных явлений получил необычайно широкое распространение, укоренился в социогуманитарном познании и безраздельно господствовал в философии вплоть до середины XIX в. Согласно взглядам сторонников этого подхода решающее значение в общественной жизни принадлежит духовному фактору. Здесь сущность связей, объединяющих людей в единое целое, усматривается в комплексе тех или иных идей, верований, идеалов. Так, французские философы XVIII в. предложили следующий принцип понимания сущности общества: «Мнения правят миром». Попытки найти тайную пружину великих исторических событий в умонастроениях отдельных личностей долгое время были излюбленным теоретическим методом у мыслителей, принадлежащих самым разным научным школам и направлениям. Даже создатель исторического материализма К. Маркс отдал дань идеализму, когда писал об основоположнике протестантизма М. Лютере: «Революция началась в мозгу монаха». Но этот принцип не мог стать основой теоретически строгой и непротиворечивой концепции, так как в реальной общественной жизни мнений и взглядов существует ровно столько, сколько мыслящих личностей.
Основоположник позитивизма Огюст Конт (1798–1857) объявил, что социальной детерминантой являются идеи: «Не читателям этой книги я считал бы нужным доказывать, что идеи управляют и переворачивают мир, или, другими словами, что весь социальный механизм действительно основывается на убеждениях»[11 - Конт, О. Курс положительной философии: в 2 т. / О. Конт. СПб., 1900. T. 1.С. 21.]. Мысль об обществе как порождении духа или духовной (религиозной, политической, юридической и т. п.) деятельности людей и о том, что общественное развитие определяется сознанием и волей отдельных выдающихся личностей, или Божественной волей в деятельности опять же немногих великих людей – «доверенных лиц» мирового духа (Г. Гегель), стала безраздельно господствующей во всей философской и социологической литературе до К. Маркса. Эта точка зрения приобрела характер традиции, получила распространение в художественной литературе, казалась чем-то само собой разумеющимся и не требующим доказательств.
Наиболее полно идею духовного фактора как основы общественной жизни выразил немецкий философ Г. Гегель. Он считал, что творцом всего сущего, а значит, и общества, и истории, является мировой разум. «Разум, – пишет Гегель, – есть субстанция, а именно то, благодаря чему и в чем вся действительность имеет свое бытие; разум есть бесконечная мощь… Разум есть бесконечное содержание, вся суть и истина»[12 - Гегель, Г.В.Ф. Лекции по философии истории / Г.В.Ф. Гегель. М., 1993. С. 64.]. Всю общественную жизнь Г. Гегель превращает в историю мысли, которую нужно излагать и исследовать. Тем самым главной движущей силой общественного развития Г. Гегель считает разум, воплощенный в национальном духе. Следовательно, переходы в историческом процессе оказываются логическими изменениями и движениями. Но мировой разум у Г. Гегеля, оторванный от конкретных его носителей и превратившийся в Абсолютную идею, приобрел самодовлеющее и гипертрофированное значение, поскольку философ не учитывал роли материальных потребностей людей на протяжении всей их исторической деятельности.
Следующий крупный подход к пониманию сущности социальности может быть обозначен как натуралистический. Суть его состоит в том, что человеческое общество рассматривается как естественное продолжение закономерностей природы, мира животных и в конечном счете космоса. С этих позиций общество предстает как своеобразный эпифеномен природы, высшее, но не всегда самое удачное образование.
Важной разновидностью натуралистического подхода является биологический детерминизм. К этому направлению относятся учения и школы, возникшие во второй половине XIX в. на единой принципиальной основе – понимании общественной жизни через законы и категории биологии. Причиной возникновения биологического детерминизма послужили следующие факторы:
• бурное развитие биологии и достигнутые ею успехи (законы естественного отбора и борьбы за существование, открытие клетки, формирование генетики), которые выдвинули биологическое знание на ведущее место среди других естественных наук. Биология в значительной степени стала формировать на-учную картину мира и парадигмальные основания научного исследования;
• биологический детерминизм, ставший реакцией на упрощенную трактовку материалистического понимания истории, согласно которой человек предстает как сугубо социальное существо и его биологическое измерение является исчезающе малой величиной.
В рамках биологического детерминизма можно выделить две школы:
1) социальный дарвинизм, переносящий идеи борьбы за существование и естественного отбора как выживания сильнейших в сферу общественной жизни. Согласно этому учению закономерности, действующие в природной эволюции, в полной мере сохраняются в социальной истории. Соответственно, общественные отношения и конфликты имеют биологическую природу, а поэтому оправданы и неустранимы;
2) расизм (расово-антропологическая школа), исходящий из влияния расовых признаков на историю и культуру отдельных народов и цивилизацию в целом. Эти идеи стали теоретическим основанием практики колониализма, которую реализовывали европейские народы на африканском континенте, в обеих Америках, Индии и т. д. Однако современные и биологические, и культурологические исследования не дают никаких оснований утверждать и тем более реализовывать превосходство одной расы над другой. Показано, что расовые признаки не влияют ни на моральные, ни на интеллектуальные, ни на какие иные признаки индивидов и народов.
Натуралистическое направление в совокупности своих модификаций существует и по сегодняшний день, не составляя, однако, ведущей концепции в социальном познании. В XX в. громко заявила о себе социобиология. Ее новый синтез призван был дать универсальные ключи к пониманию единства природы и культуры через обнаружение универсальных принципов организации поведения живых систем. Исследуя проявления лидерства, агрессии, альтруизма и фиксируя их изоморфность в отношении аналогичных форм социальной активности, социобиология поворачивает социальное знание в сторону осмысления естественных детерминант поведения, доказывая его изначальную предзаданность природой. Предпринятое в ее границах установление сходных черт социального поведения людей и коллективного поведения животных, безусловно, способно предоставить ценные в эвристическом плане результаты. Но важно помнить, что обозначенная социобиологией проблема – гены-культура и расставленные ею акценты на исключительной значимости биологических инвариантов самоорганизации – не может быть отождествлена с социальным поведением человека.
Творческий целеполагающий характер деятельности, труд как способность изменять условия жизни – вот зримая граница между коллективностью (стадностью) и обществом, между протосоциальностью животных и социальностью человека. Различия еще рельефнее проступают при сравнении масштабов деятельности. Человек силен сознанием, абстрагирующей деятельностью интеллекта, идеальными моделями деятельности. Рефлекторные программы поведения получают у него восполнение через сознательную детерминацию поведения, придавая последнему целенаправленный характер. Все это означает, что задаваемые биологической конституцией формы деятельности не имеют по отношению к человеку и обществу строго принудительной силы, так как сохраняется полоса индивидуальной свободы, пластичность социального бытия.
Одним из наиболее влиятельных подходов к пониманию сущности социального бытия стало материалистическое понимание истории, предложенное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом (1820–1895).
Подход, изначально направленный против идеалистической интерпретации исторического процесса, характеризовался последовательно проведенным принципом материалистического монизма. К. Маркс утверждал, что при построении целостной теории общества необходимо исходить не из отвлеченных рассуждений, а из реальных жизненных предпосылок. «Предпосылки, с которых мы начинаем, – не произвольны, они – не догмы; это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это – действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем»[13 - Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М., 1961. T. 3. С. 18.]. К. Маркс и Ф. Энгельс исходили из того, что прежде чем мыслить, заниматься наукой, философией, политикой и подобным, человеку необходимо есть, пить, иметь жилище и т. д. Иными словами, он должен удовлетворять свои материальные потребности. Мысль, сейчас очевидная, тогда означала революцию во взглядах на общество, возникновение нового, материалистического понимания истории. Несмотря на кажущуюся простоту, она очень глубока по содержанию. Если человек для того чтобы иметь возможность мыслить, должен удовлетворять свои материальные потребности, то это прежде всего означает, что основой истории является производство тех вещей, с помощью которых удовлетворяются материальные потребности людей, т. е. производство пищи, одежды, жилища и др. Напрашивался и другой вывод: если основу исторического развития составляет производство материальных благ, то это значит, что решающую роль в истории играют люди, производящие материальные блага, т. е. трудящиеся массы.
Таким образом, люди в процессе жизни вовлечены в процесс производства материальных благ, необходимых для удовлетворения их материальных потребностей. Но в ходе совместной деятельности они производят не только необходимые жизненные средства, но и свою материальную жизнь, которая является фундаментом общества, и самих себя – свое сознание, способы деятельности и отношений. Материальная жизнь является первичной по отношению ко всем другим сферам общества, она детерминирует социальные, политические и духовные формы жизнедеятельности людей. Материальные отношения как бы «стягивают» воедино всю социальную систему, придают ей целостный и закономерный характер. Однако при всей материальности (первичности и независимости от сознания) эти отношения не являются вещественными. Образно говоря, социальную материю нельзя пощупать (или чувственно ощутить иным способом), но она очень реально, а подчас трагически определяет жизнь миллионов людей. Известно, к каким последствиям привели попытки обойти действие закона стоимости, равно как и других законов общественной жизни.
Вывод об определяющей роли производства материальных благ в истории, об его первичности по отношению к духовной деятельности уже сам по себе наталкивает на мысль о том, что среди всех сложных общественных отношений – семейных и религиозных, классовых и национальных, политических, правовых и подобных – первичными, определяющими являются такие отношения между людьми, которые возникают в процессе производства материальных благ и непосредственно обусловлены им. Отсюда следует, что «производство непосредственных материальных средств к жизни и тем самым каждая данная ступень экономического развития народа или эпохи образуют основу, из которой развиваются государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления данных людей и из которой они поэтому должны быть объяснены, – а не наоборот, как это делали до сих пор»[14 - Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 19. С. 350.].
Выделяя как основные, определяющие всю жизнь общества те отношения, которые складываются в процессе производства материальных благ, т. е. производственные отношения, К. Маркс стремится применить к общественным явлениям общенаучный критерий повторяемости, без которого невозможно открыть законы развития общества.
Однако нет двух абсолютно одинаковых стран. Каждая имеет свои особенности, отличается от других историей, языком, национальными обычаями – чем угодно. Значит ли это, что между различными странами нет ничего общего? Нет, не значит. Сформулировав понятие производственных отношений и проанализировав эти отношения в условиях различных стран, К. Маркс смог найти то общее, что было свойственно всем странам, находящимся на одном и том же этапе развития (например, на этапе капитализма), и обобщить существующие в них порядки в одно понятие общественно-экономической формации.
К. Маркс стремился доказать, что развитие общества представляет собой закономерную смену одной общественно-экономической формации другой, более совершенной. От примитивной первобытно-общинной формации к рабовладельческой, затем к феодальной, капиталистической и, наконец, к коммунистической – таково прогрессивное движение истории человечества.
Таким образом, К. Маркс в результате сведения всех общественных отношений к производственным, а последних к уровню развития производительных сил, получил, как ему тогда казалось, реальную возможность представить развитие общественно-экономической формации в виде естественно-исторического процесса, осуществляющегося на основе объективных, независимых от воли и желания людей законов.
Сам К. Маркс сформулировал сущность материалистического понимания истории в Предисловии к «Критике политической экономии». «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»[15 - Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. T. 19. С. 6–7.]. Марксисты считали, что все эти открытия К. Маркса позволили превратить социологию в науку. «Как Дарвин, – пишет по данному поводу В.И. Ленин, – положил конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, «Богом созданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию на научную почву, установив изменяемость видов и преемственность между ними, так и К. Маркс положил конец воззрению на общество как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства, возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс». Более подробно сущность материалистического понимания истории нами раскрыта в параграфе «Развитие общества как естественно-исторический процесс. Формационное членение истории».
Одним из наиболее значительных мыслителей современной эпохи, чье творчество во многом определило направление развитие обществоведения в XX в., является Макс Вебер (1864–1920). Достаточно сказать, что в мировом социогуманитарном знании последние два десятилетия истекшего столетия получили название веберовского ренессанса. Макс Вебер с 1892 г. преподавал в Берлине, с 1894 г. был профессором национальной экономии во Фрайбурге в Брейсгау, с 1896 г. – в Гейдельберге, с 1918 г. – в Вене, с 1919 г. – в Мюнхене. Его работы посвящены проблемам истории хозяйства и социально-экономических эпох, взаимодействия религии и истории общества. Наиболее известное сочинение М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма».
В богатом наследии немецкого мыслителя можно выделить идеи, которые до сих пор сохраняют свое социально-философское и философско-историческое значение.
1. Большое значение для социологии, философии, вообще для наук об обществе и человеке, считал М. Вебер, имеет и понятие «идеальный тип». Оно означает, что целому ряду обобщающих научных понятий не соответствует какой-либо фрагмент действительности и что они, будучи своего рода моделями, служат формальными инструментами мышления в науке, например понятие «homo economicus» – «экономический человек». В действительности нет экономического человека как особой реальности, отделенной от других качеств человека. Но экономические дисциплины или социология в целях анализа создают такой идеальный тип.
2. М. Вебер конституирует свою социологию с помощью четырех чистых типов действия (идеальных типов): 1) действие может иметь рациональную ориентацию, руководствуясь данной целью (целерациональное действие); 2) действие может иметь рациональную ориентацию, относясь к абсолютной ценности (ценностно-рациональное действие); 3) действие может быть определено некоторыми аффектами или эмоциональным состояниями действующего лица (аффективное, или эмоциональное, действие); 4) действие может быть определено традициями или прочными обычаями (действие, ориентированное на традицию). В реальном человеческом действии эти моменты, разумеется, не отделены друг от друга: действие объединяет целевую рациональность с ценностной рациональностью, с аффектами и ориентациями на традицию. Но какой-либо из этих моментов в определенных действиях может превалировать. Кроме того, в целях анализа из названных аспектов можно сделать идеальные типы, подвергая специальному исследованию то одну, то другую сторону дела.
3. М. Вебер предполагал, что есть сферы деятельности и исторические эпохи, где и когда целерациональное действия человека выдвигаются на первый план. Такие сферы деятельности – экономика, управление, право, наука. «Рационализация» и «модернизация» весьма характерны для европейской истории последних столетий. В частности, управление обществом во все большей мере требует расчета, плана, целостного охвата деятельности государства и общества. С этим связана тщательно исследованная М. Вебером тенденция бюрократизации, которую он считает общей для цивилизационного развития всего мира. Бюрократизацию можно и нужно, по Веберу, ввести в рамки правил, подвергнуть контролю, но устранить эту тенденцию в принципе невозможно. Вебер различает два типа государственной власти – традиционное, или харизматическое, и легальное господство. На смену авторитету неограниченной власти в прежних обществах приходит легитимность, т. е. иными словами, опора на законы, на рациональные основания действия бюрократии, на расчет и контроль, на гласность в обсуждении всех действий государственной власти. При этом процедуры рациональной, легитимной бюрократии могут быть использованы в разных целях – как во имя сплоченной работы всех членов общества, так и во имя угнетения народа.
4. М. Вебер ставит такой философско-исторический вопрос: Как случилось, что определенные явления духа и культуры – рациональность, модернизация, легитимность – впервые пробили себе дорогу в странах Запада и именно здесь получили универсальную значимость? Ответ на него и дается в знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма». Вебер уверен, что рациональность со времен Ренессанса становится на Западе общекультурным феноменом: она проникает не только в науку, философию, но также в теологию, литературу, искусство и, конечно, в повседневную жизнь общества, государства. Специализация и профессионализм – опознавательные знаки этого процесса.
Одна из важнейших идей немецкого ученого связана с вопросом о генезисе капитализма. Понятие «капитализм», заимствованное им из предшествовавшей литературы, М. Вебер поясняет как стремление получить наибольшую прибыль, которое было характерно для всех эпох и существовало во всех странах. Однако только в западном мире развилась общественная система, основанная на формально свободном наемном труде, допускающая рациональный расчет, широкое применение технического знания и науки, требующая рационально-правовых оснований действия и взаимодействия. Эту систему он, следуя К. Марксу, называл капитализмом. Но, в отличие от К. Маркса, М. Вебер не считал, что лучшая, более справедливая система придет вместе с социализмом. Он полагал, что созданной капи-тализмом форме рациональной организации – при всех ее недостатках и противоречиях – принадлежит будущее.
В центр исследования вышеназванной работы Вебер ставит процессы, в Европе совпавшие с Реформацией. Благодаря новой системе ценностей – этике протестантизма был узаконен, санкционирован новый жизненный стиль, тип поведения. Речь шла о том, чтобы сориентировать индивида на упорный труд, бережливость, расчетливость, самоконтроль, на доверие к собственной личности, достоинство, строгое соблюдение прав и обязанностей человека. Разумеется, сознательная цель Лютера или Кальвина вовсе не состояла в том, чтобы пробить дорогу духу капитализма. Они были озабочены реформированием религии и церкви. Но протестантизм глубоко вторгся в сферу вне-церковной жизни, сознания и поведения мирянина, предписав ему в качестве Божественных заповедей как раз то, что требовала наступающая капиталистическая эпоха. Внутримирская аскеза, которую проповедовал протестантизм, была эффективным идейным средством воспитания новой личности и новых ценностей. Напрашивался вопрос: А страны, не прошедшие через социально-воспитательное воздействие чего-то подобного Реформации и протестантской этике, смогут успешно развиваться по пути рациональности и модернизации? М. Вебер не утверждал, что все дело только в протестантской этике. К возникновению капитализма причастны и другие условия.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: