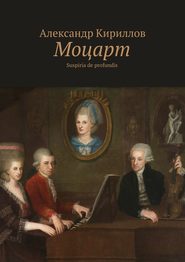скачать книгу бесплатно
Моцарт. Suspiria de profundis
Александр Кириллов
Книга пронизана множеством откровенных диалогов автора с героем. У автора есть «двойник», который в свою очередь оспаривает мнения и автора, и героя, других персонажей. В этой разноголосице мнений автор ищет подлинный образ героя. За время поездки по Европе Моцарт теряет мать, любимую, друзей, веру в отца. Любовь, предательство, смерть, возвращение «блудного сына» – основные темы этой книги. И если внешний сюжет – путешествие Моцарта в поисках службы, то внутренний – путешествие автора к герою.
Моцарт
Suspiria de profundis
Александр Кириллов
© Александр Кириллов, 2016
ISBN 978-5-4483-6026-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие автора
Это книга о Моцарте, которого я бесконечно люблю, и с которым мне посчастливилось прожить несколько незабываемых лет, вчитываясь в семейную переписку, изучая свидетельства его современников, труды исследователей его творчества. Итогом моих усилий и стала эта книга. Но это моё пространство в «империи» Моцартов, куда я с волнением приглашаю и Вас, читатель.
Я задумал её еще в далеком 91-м. В день памяти Моцарта 5 декабря 1991 года по радио из Праги передавали в прямой трансляции оперу «Don Giovanni». Сидя у приемника, мне вдруг захотелось узнать, каким был всем известный, но такой загадочный Вольфганг Амадей, как складывалась его карьера, как жила его семья, чем питалась его душа. Мне показалось тогда, что и он тоже ждет от меня каких-то шагов навстречу. Желание этой встречи было настолько сильным, что, спустя годы, я всё-таки не выдержал – взял ручку, чистый лист бумаги, хотя и испытывал при этом священный трепет, и решил во что бы то ни стало пробиться к нему через пространство, время, моё не-бытие в Зальцбурге, Мюнхене, Мангейме, Аугсбурге, сквозь якобы избитость темы. И с той минуты погружение в житейские будни его семьи сделалось для меня на несколько лет повседневной потребностью. Живой образ Моцарта, увиденный в суете современной нам жизни, постепенно становился всё яснее и яснее: да, с тех пор изменились костюмы, нравы, но чувства, пережитые моим героем во время жизненных перипетий, понятны любому человеку, в какие бы эпохи он ни жил.
Хочется предупредить читателя, что эта книга не исследование музыковеда, автор не ставил себе такой задачи. Её нельзя назвать документальной прозой, хотя при работе над ней использовалось эпистолярное наследие семьи Моцартов. Это многослойный рассказ об авторском переживании жизненной драмы этой семьи и тех событий, которые сопутствовали Моцартам во время путешествия Вольфганга и его матери Анны Марии по Европе в поисках службы при монарших дворах. Осваивая пространство героя, автор постоянно находится в диалоге с ним, его близкими и современниками. Авторский взгляд далеко неоднозначен в оценке взаимоотношений Вольфганга с отцом, женой Констанцой, кузиной Теклой. Автор всматривается в окружающую действительность 18-го века, ищет в деталях её своеобразие, бродит по улицам городов, куда мысленно не раз отправлялся со своим героем. Он вглядывается в портреты Моцарта столь изменчивые и неуловимые, как вся его жизнь, как всё живое. Он вслушивается в слова персонажей, в музыку Моцарта. Он использует свой личный опыт актера, вживаясь в душевные состояния своих героев. Следуя за Вольфгангом, он всегда в движении, эти перемещения имеют место не только в пространстве, но и во времени. На пути автора не только незнакомые города, неведомая эпоха, но и немецкий язык с его словами-тысяченожками. Неприступной изгородью, затянутой колючей проволокой из готических слов, предстают перед ним страницы писем героя, но только в них видится ему та лазейка для иноземца в чужом бытие, куда автор стремится протащить с собой и читателя.
Предваряя знакомство читателей с книгой, хочется заметить, что она, безусловно, потребует от них медленного чтения. Атмосфера каждой главы, по замыслу автора, должна стать для читателя ключом к смыслам. Не забудьте подзаголовок «Suspiria de profundis» (Из глубины вздыхая…). Разные тексты по-разному дышат, и тем, кому удалось попасть в их индивидуальный ритм, будут обязательно вознаграждены.
Портрет В. А. Моцарта
Рисунок Дорис Сток, 1789 г.
Может, для верности суждения о делах, не подлежащих ни полицейскому суду, ни арифметической проверке пристрастие нужнее справедливости. Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнем.
А. И. Герцен «Былое и думы»
Москва
90-тые годы
Я это задумал, как только проснулся. Утро волочилось за мной по пятам, предлагая кофе, омлет, газету, тревожило телефонными звонками, звало вспорхнувшей на балкон синицей, было ярким и снежным… От него некуда было скрыться, оно доставало везде, отвлекая от моих мыслей, от моей боли… Я ждал терпеливо, когда оно отстанет, исчезнет, завьюжится в сумерках, разгонит домашних, и я останусь один. Со сладостным предвкушением запру двери, опущу на окнах шторы – и, наконец, поплачу всласть, как мне казалось в последний раз, – буду оплакивать маму, перебирая в памяти еще свежие мгновения, когда она была жива… Вот я бесчувственно болтаюсь в скором поезде, выкуривая в холодном тамбуре сигарету за сигаретой. Вот я сижу у сестры, веду с нею бессвязный разговор и растягиваю завтрак, чтобы отдалить неизбежную встречу с умирающей… Этих нескольких минут и не хватило мне и ей, чтобы свидеться еще здесь на земле… Я провел с нею сутки, что-то говорил, обещал, клялся, но кто вернет мне этот упущенный миг, единственный и невыразимый, эту ясность взгляда – любимых, обращенных к тебе глаз.
…Поздним вечером включаю приёмник и сразу же, к счастью, попадаю на волну, где звучит музыка; еще не сознаю, что? это, кто автор, а уже что-то зацепило, сдвинулось в душе, раскололось – зияет, ширясь, бездонная полынья, а льдину несет неумолимо в открытое море… И я, который только что ходил по комнате, – потухший, в едких сумерках, серым силуэтом, – как бы наливаюсь изнутри (я так чувствую) светом. Мне начинает казаться, что я улавливаю в спокойно льющихся из приемника звуках: членораздельную речь, чей-то голос, его неповторимый тембр, его интонации – они заполняют сознание, овладевают душой; и я слышу уже не только интонацию, и без того проникающую в самое сердце, – я понимаю смысл, мне открывается чья-то душа, я ощущаю боль чужого сердца, я ищу слова в ответ, в утешение, слова для собственной исповеди…
Сижу против окна, ранняя зима, светло. Неспешно надвигаются сумерки, мутят день. Всё больше синьки использует вечер. Зажигаю настольную лампу. Холодный синяк окна, бледный, чистый, кристальный, как в витраже католического храма. И яркий искусственный белый свет лампы, будто прожектор, освещает «подмостки» стола. Тепло, весело на сердце и душа тянется к окну, за которым в синеве вечера плавают белые хлопья снега. Вглядываюсь – нет снега; это плавают в свете лампы на фоне окна белые пылинки…
Сумерки. Пронзительно бледное небо над уличной чернью. Малая Бронная – немноголюдная улица даже в пятом часу дня в преддверии часа пик. Одна боль, одно чувство – близость к Москве, нежная любовь к её улицам, к её зданиям, пламенеющим на закате, её воздуху, к её названиям… И вдруг Спиридоновка – улица оттуда, из той эпохи, – ведь здесь жила Авилова, выдворенная сюда революцией из прежней жизни, где осталась её молодость, самодержавие, литература; там можно было встретить Чехова и влюбиться в него; снять шляпу или присесть в реверансе перед Толстым; там, то есть, в той еще жизни, плакал над «Тремя сестрами» Горький, и Гуров спешил в «Славянский базар» на свидание к даме с собачкой… Из жизни русской, из быта русского она была выдворена в нечто, представляющее собой суррогат из прежних понятий, где семейный дом стал коммунальным жилищем, хлеб – продуктом, требуха – субпродуктом, а русский язык… прости нас, Господи, и чем же стал для нас русский язык. Отзвуки той жизни слышатся мне и в названии улицы – Спиридоновка, и в имени жилицы одного из близлежащих домов, в одночасье постаревшей, съёжившейся, захиревшей в своем сыром и холодном углу с печкой «буржуйкой» и горкой поленьев, где не умолкал пилящий шорох жука-древоточца; и радостно ей, что не одинока, что живет с нею рядом, трудится – тоже живое существо (однажды вдруг канувшее куда-то, вытесненное безвременной погребальной тишиной). Так послушает она своего «пильщика» и спустится в магазин за пайкой черного хлеба или мешком мерзлой картошки. Вот этой самой улицей, Спиридоновкой, спешит она по свежевыпавшему снегу, липнущему к подошвам валенок, к подолу платья.
…Перхотью сыплется первый снег – суетятся влажные хлопья, тычутся в гуще себе подобных, ищут на земле место почище, безопасней, где можно с комфортом устроиться на зиму. Желтые фонари, лиловая ссадина неба, на черных улицах бледнолицый снег, липкий, ватный, – где вминается башмаком, где липнет к подошве, оставляя зиять черную скважину ступни на освежённо-оснеженном тротуаре
А приятно выйти из квартиры. В ней холодно, не топлено, сыро, и без движения мерзнешь, как ни кутайся. На улице и светло от снега (не то, что в сумраке комнаты с лампадкой у иконы), и теплее, чем казалось из окна; и люди – хоть и редкие прохожие, и угрюмые, и сгорбленные, и спешащие куда-то, а всё же люди. Оглянешься мельком на них: кто они, куда бегут – в пальто, в полушубках, шубейках, шинелях… И влечет меня за ними, и кто-то водит меня вокруг этих мест, и что-то обещает; я не противлюсь, но крепко держусь за старушку Авилову, она выведет, я знаю, а отпущу её – заблужусь, не выйду, так и не найдя дороги… Только неотступно за нею, Лидией Алексеевной, по мокрому снегу – в магазин и обратно – Спиридоновкой; только бок о бок с этой вещей женщиной, ясновидящей и здравомыслящей женой, хозяйкой дома, бесконечно и тайно любимой когда-то замкнутым, осторожным, одиноким Чеховым; только вслед за нею, поднявшись холодной темной лестницей, блуждая в лабиринте коммуналки и мельком бросив взгляд вглубь одной из нетопленых комнат (в полутьме которой, кутаясь в халат, смотрит из-за клавира юноша) – только здесь вдруг благодарно понимаешь наконец, мысленно отпрянув, – Моцарт.
Крышка клавира открыта. Руки лежат на клавишах, но в комнате тихо, ему не нужен инструмент – он сам звучание, и то, что звучит в нем, убивает его. Он не сочиняет музыку. Она принимает его формы, она усваивает ритмы его сердца, перехватывает дыхание. Его жизненная энергия перетекает в энергию её crescendo-diminuendo, её дьявольских хроматизмов и божественных модуляций: «Голова и руки мои так полны третьим действием, что было бы не удивительно, если бы я сам превратился в третье действие», – в изнеможении пишет он отцу. И как душа покидает тело, покидало его законченное сочинение, уходя от него в мир. Оставляя ему на выбор: либо корчиться в дурацких шутках и безумствах, либо оцепенеть от вселенской пустоты и высочайшей, безысходной боли: «Боже, Боже, для чего ты меня покинул?»
И вдруг – шурх-шурх-шурх-шурх – «пильщик» в куче дров в углу, сопит, трудится, пилит, осыпая полено мелкой пыльцевидной стружкой. Вольфганг оборачивается, слушает, улыбается, представляя себе усердного «пильщика», и уже не дрожит от холода, но, напротив, радостно возбужден. Он хватается за драповый костюм блошиного цвета[1 - Красновато-бурый цвет]. Тафта подкладки в камзоле изодралась, но другого нет, он влезает в него, торопливо застегиваясь. Одевшись, минует в легком менуэте комнату Авиловой, выходит на лестницу, тарахтит башмаками по каменным ступенькам, толкает тяжелую парадную дверь и тоже удивляется: снежно, сумеречно, но тепло, – его согревает движение, улыбки прохожих, возбуждение и даже морозный воздух. Он ступает по рыхлому снегу, липнущему к башмакам, и бежит ко мне на встречу, оставляя на тротуаре черные следы… Я давно его жду здесь на углу Спиридоновки и Малой Бронной.
Я боюсь сглазить, спугнуть его, и потому замолкаю и остаюсь один, чтобы встретить его без свидетелей. Я всегда предчувствую, когда он направляется ко мне (видимо, мне передается его настроенность и готовность к встрече). Но если я не увижу, откуда он вышел, и что делал перед тем, как идти ко мне, и взглядом не окину вслед за ним комнату, запираемую им на ключ, мы опять с ним разминемся. Он, не дойдя до меня, может быть, с десяток шагов, свернет в первый на его пути переулок – и… И бесполезно оглядываться, обегать близлежащие улицы – его и след простыл.
Жизнь – сон: мимолетна, эфемерна, беспробудна. Потому и пишешь, чтобы очнуться и дожить то, что не дожил во всей полноте – от спешки, растерянности, суетливости, близорукости; чтобы в полной мере насладиться тем, что проскочил как на «курьерском», оглядываясь, едва не свернув шею, – было, не было? – чтобы крупно, не торопясь, рассмотреть то, что мелькнуло, занозило и исчезло…
Моцарт… Что-то очень знакомое. Но давно, с сотворения мира, ставшее для слуха общим местом. Кажется, кто его не знает? Никто его не знает – его знают все. Он – как воздух, свет, отечество, вселенная, космос. Это всё существует где-то на периферии сознания, но оно есть, им можно дышать, жить и не замечать, оно есть – и всё, тут и говорить не о чем. Оно для всех и, значит, ни для кого. Оно всех и ничье, оно общедоступно и потому не имеет спроса, есть и есть. Оно само по себе, а мы сами по себе. Оно в себе и для себя, оно вне нас – наших интересов, желаний, пристрастий: мы ничего о нем не знаем (зная всё!) и знать не хотим. И всё-таки оно, вопреки нам, проникает, протискивается, протыривается в наше сознание, мозолит глаза – как небо, солнце; сопровождает нас с рождения и до смерти – как время. Ты не хотел, ты не интересовался им; ты бессознательно отталкивал его, как отталкивает пловец в море море. И вдруг то, о чем ты и не думал (не мог, не хотел об этом думать, даже в зачатке не имел этого в мыслях), и был не в силах понять, как бы оно могло тебя касаться, – вдруг оказалось такою же частью тебя, как и всё, что составляло твою жизнь. Когда же и каким образом оно проникло в тебя незамеченным, пустило корни и утвердилось в твоей душе – осознанно, навеки? Начинаю ломать голову. Не вспомнить, конечно, когда я услышал в первый раз Моцарта, но хотя бы понять, когда это имя запало в тебя, уйдя в самые глубины памяти…
Дело в том, что Моцарт – нечто вроде одного из предметов домашней утвари – всегда на глазах, всегда под рукой: попался – отодвинул в сторону и забыл. Так может пролежать и до скончания дней на самом виду – невостребованным, ненужным, незапомнившимся, перекладываемым с места на место. А есть у всех! Как же он дает о себе знать в быту, в суете повседневности, где что-то запомнилось не потому, что бросилось в глаза и поразило или, мимоходом услышанное, запало в душу, а от частого изо дня в день мозоленья глаз или долбежки слуха.
Портретов его нигде нет: ни в детсадах, ни в школах, ни в квартирах рядом с «Мишками в лесу», ни в должностных кабинетах по соседству с портретами вождей, ни в казармах, ни на площадях, ни в толпах демонстрантов, когда можно было бы крикнуть: Смотри, вон Моцарт, или: Это кто, мама? – «Моцарт, сынок», или: Вот Моцарт, и вот Моцарт, и вон Моцарт, и там Моцарт, и даже здесь Моцарт, а почему у вас не Моцарт?
Услышать о нем – это было, конечно, для меня вероятней. Протренькало что-то из репродуктора или пропиликало, или проголосило, или всё это вместе – и голосило, и тренькало, и пиликало, и даже дудело, – а в паузе: «Вы слушали концерт из произведений Моцарта». Кто такой? Знакомый, а не знаю. Фамилия дзвонкая, цирковая из парад алле: моц-царт-царт, моц-царт-царт дзенькают тарелки (опять же, арт [art] – искусство, но это информация только для законченных… то бишь, закончивших «иняз»); или, скажем, из «Похищения из сераля» выход янычар – и опять те же: моц-царт-царт, моц-царт-царт; или настоящий цирк в «Так поступают все», когда к невестам являются женихи (переодетые – не то албанцами, не то турками) и пытаются их соблазнить, а в ушах у нас всё еще звучит из предыдущей сцены прощальный квинтет их безутешного расставания, в котором море разливанное сестринских слез спрыснуто хохотком вероломных женихов Феррандо и Гульельмо, с сакраментальным: Idol mio[2 - (итал.) идол мой], а в паузе: виолончель, контрабас, альт и скрипки – с издёвкой: пам-пам-пам, la sorte incolpa[3 - (итал.) злосчастная судьба], и те же – пам-пам-пам; или… Да что там — или… Первое, что как бытовой шум ударяет в уши – настырно и с воодушевлением: тара-тара-там, тара-тара-там, тара-тара-тара-тара-тара-тара-там, трам-пам-пам-пам, трам-пам-пам-пам, трам-пам-пам-пам, трам-пам-пам… Это наяривают на фортепьяно, баяне, аккордеоне, балалайке, домре, ксилофоне, профессиональные музыканты и детские ансамбли народных инструментов, при ЖЭК’ах, и где только возможно: на концертах в кремлевском дворце, на детских утренниках, в актовом зале по случаю выборов, на борту экскурсионных судов, при трансляции концертов по просьбе слушателей и без их просьб, на бис и в паузах, во время утренней зарядки и в номерах музыкальных эксцентриков, потрясавших зрителей игрой на расческе, горлышках бутылок, двуручной пиле и даже на тубе – эта веселая, сумасшедшая, бравурная, шутливо-пародийная музыка, легкая и порхающая, как стая певчих дроздов, почему-то окрещена в простонародье «турецким маршем» (в оригинале – рондо в турецком стиле). Любимая всеми, всем доступная, ударяющая в голову как забористый портвейн, выметающая из сознания единым махом всё черное, тяжкое, сварокоммунальное, заставляя бездумно дергаться всех в своем, будто морзянку отбивающем, дурашливом ритме, дразнясь, защекочивая, строя рожи и барабанно лупя по клавишам, себя по коленкам, за обедом по столу – оно (рондо) и протащило с собой, удержав в моей памяти имя Моцарта: кто такой – турок? Почему? А турецкий марш, – единственный турецкий марш, известный на всей одной седьмой части земли. И настолько известный, что даже для тонких ценителей (каким бы искусным и проникновенным ни было исполнение, и какой бы одухотворенной фигурой ни казался пианист с мировым именем) ля-мажорная соната, как правило, заканчивается на последнем звуке менуэта, а дальше… перетряхнув рояль, как мешок с костями, не пальцами, а костяшками пальцев, не по клавишам, а по деревянным брусочкам ксилофона, гримасничая, поигрывая хвостом и показывая язык, – из «ничего», как джин из бутылки, а черт из табакерки, – выскакивает в тюрбане Alla turca – и… тара-тара-там, тара-тара-там, тара-тара-тара-тара-тара-тара-там… Нет, дальше слушать сонату нельзя. Можно по-дурацки улыбаться, пристукивать ногами, щелкать языком, либо тупо пережидать этот чудовищный, гибельный для сонаты довесок, камнем утягивающий две первые части в омут popolo (abitantl) musica (pop-music), schlagermusik, откуда и Andante grazioso и Minuet пускают пузыри, бесследно исчезая из сознания, которое захватывает, попирая самые утонченные чувства, затаившиеся от ужаса в потрясенной душе, это самое рондо Alla Turca, сколько бы истинно вдохновенных минут ни пережито было бы до него. Изящнейшая вещь, но зубодробильная для искушенного слуха.
С этого рондо и начался для меня Моцарт – такой живчик, кривляка. В тюрбане, с бутафорской саблей, смешной. Милый и не страшный, не то турецкий подданный, не то туркофил, легко и непринужденно протанцевавший по жизни и злодеем Сальери, отравленный за беспутство. Но это известно не всем поголовно, а только интересующимся музыкой. Между прочим, то, что он был «отравлен» Сальери, далеко не первое, что приходит на ум в связи с именем Моцарта – уж скорее вспоминается его непутевая жизнь. Родился в Вене, был беспутен, умер не то от сифилиса, не то от костного туберкулёза: и только после этого из глубин памяти всплывает: кажется, был кем-то отравлен. И всё это так, если нет желания проявить немного настойчивости и любопытства. А тогда, глядишь, можно докопаться и до существования у Моцарта жены и даже (где-то там, в дальних комнатах, за закрытой дверью) детей, целомудренно упрятанных от пытливых глаз потомков, слоняющихся толпами по мемориальным квартирам. Сколько же их? Детей, то бишь. И не слух ли это, пущенный фундаменталистами-лакировщиками, – раз есть дети, значит, он не беспутный. На слух? – нет у нас такого факта: просто, где-то кто-то что-то услышал и сам не знает – где, от кого, и слышал ли, а не выдумал? И часто так случается, когда уж очень хочется, чтоб оно было; или если, просто так, вдруг подумается – с дури: а не было ли? А уж потом и сам на себя ссылаешься: раз подумал, значит, было, где-то слышал; и вместо «подумал», – для себя сразу решаешь, что да, слышал. Конечно, не в детях дело, а всё-таки они привносят, как ни странно, что-то загадочное в личную жизнь великого человека, что-то терпкое в своей поэтичности, таинственности… Дети Моцарта напоминают нам (вернее, упоминание о них вдруг обнаруживает в нем, усохшем как бабочка, прикнопленная к картону), что он – отец, и так же, как все смертные, не спал ночами, когда его дети болели, и целовал их перед сном, укутывая в одеяло, и рассказывал им сказки, и утирал им слюни, и пел колыбельную: «Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни»…
И всё-таки, какая волшебная, за душу берущая мелодия. Ни одна колыбельная не поется так всем сердцем, жалким, нежно толкающимся, осиянным любовью. Шуберт? Кто композитор? «Вольфганг Амадей Моцарт – великий австрийский композитор. Теперь ты знаешь это имя, малыш». И не только малыш не знал, что это Моцарт, но и мать, напевавшая колыбельную, не знала; и её мать, научившая дочь этой колыбельной, не знала. И я, грешный, не знал до сих пор, до седых волос, что это Моцарт. И даже ученые моцартоведы всё спорят о его авторстве – и не знают. А он приходит к нам неназванным, – с мамой, с её голосом, с её теплом, с её любящим взглядом, – и мы не сознаем этого…
Когда же я впервые услышал его? Никто мне о нем не говорил, негде мне было его услышать. Он пришел в дом вместе со мной. И как никогда мне не вспомнить момент своего рождения, как не осознать, где находится всё (мы, наша земля, вселенная, всё-всё), – так не уловить и тот миг, когда был впервые услышан Моцарт, когда он вздохнул в нас, как бы из глубины нашей души, из тех её бездн, где уже начинает зарождаться мысль о Боге…
Salzburg
1777
Зальцбург… щёлк выключателем – ничего, щёлк-щёлк… Тогда включился слух: зальц-зальц-зальц-зальц-зальц-зальц-зальц – призывно трезвонят где-то в ночи под ямщицкой дугой колокольцы – очень по-русски. Память услужливо доносит: город, где родился Моцарт. Он так звучит во мне. Для слуха Вольфганга звучание имени родного города совершенно другое: лязгающее, клацающее – как звук замкнувшихся наручников.
Вид Зальцбурга (на офорте, естественно) – это единственно возможное для меня знакомство с ним. Ведь мы такие же крепостные в своем отечестве (всегда и присно… во веки ли веков – не знаю), каким был и Моцарт у архиепископа Коллоредо[4 - Граф Иеронимус фон Коллоредо (Colloredo) (1732—1812), архиепископ зальцбуржский.], с одним лишь – но: 28 августа 1777 года, вскоре после подачи прошения об отставке, Вольфганг был отпущен князем на все четыре стороны «продолжать искать, согласно Евангелию, своё счастье». Причем, заметьте, без лишения гражданства, без поражения в правах, без клейма «предателя» и «врага народа», – отпущен «согласно Евангелию, искать своё счастье». Для нас же весь остальной мир, кроме околотка, где живешь, был и по сей день остается несколькими жалкими открытками, из которых я узнаю о нем, как о недосягаемой планете из другой галактики. Даже часть Москвы – исторической Москвы, – только жиденькая стопка открыток в море белых пятен, в мире вечной слепоты – от рождения. Я не зрячий на многие города там, за кордоном моей страны, на их жителей, таких же, как я, мiрян на этой планете. Я не зрячий на Гроб Господний, на Святую землю, по которой ходил Иисус. Для меня мир – в картинках.
Офорт – «Зальцбург, замок (XYIII век)». Справа гора «Фудзияма», куда спроваживают умирать своих стариков, слева «Тауэр», где гноят инакомыслящих. У их подножий веселенький городишко с ратушей, собором и разно-этажными домами мiрных жителей. Я ощущаю сладкий аромат цветов, вижу слепоту солнечных улиц, испытываю приступ легкомысленного весеннего настроения – откуда это? Конечно, от вида прибрежных строений по сю сторону реки. Лучистыми просеками расходятся от реки Зальцах улицы, обсаженные цветущими деревьями; и несколько лодчонок («венецианских гондол») напевно скользят по реке, стальным кольцом стиснувшей город. Внутри кольца, где здания крепостными стенами взбираются к небу, увенчанные замком как княжеской короной, – не может быть весны (так уж укоренилось в моем сознании), там нет дня, нет утра, лишь вечер или ночь с холодным зыбким рассветом.
И когда душа моя хоть на миг переселяется в Зальцбург, она видит оледенелые заснеженные улицы, мрачные громады зданий со слабыми огоньками, тлеющими в узких окнах-бойницах, и разносимый по городу пламень пожара, вспыхнувшего в доме родителей фрау Раухенбихлер, дочери торговца чулками… Я стою, прижавшись к ледяной стене из камня, глядя, как по оплывшему небу со свинцовыми вздутьями ветер гонит через весь город горящие балки и дранку, как всё это с шипением падает вокруг, затухая в глубоком черном снегу… В городе пусто, темно, если не считать отблесков пожарища. Холод сковывает так, что идешь, будто деревянный, с окостеневшей шеей, оглашая улицы гулкими шагами, словно это идет каменный гость, торопясь на званый ужин. Кричу: «куда идешь»? Сначала показалось – себе кричу: «Очнись, это же просто разыгравшееся воображение, химера, ребячество, несбыточная мечта. Возвращайся-ка назад». Но чувствую, как тот, другой (моё второе «я»), кто (по Маяковскому) «из меня вырывается упрямо», вытер об меня ноги, бросив на ходу: «Я ищу дом Хагенауэра», – и свалил. Это похоже на сновидение, внезапно поразившее бодрствующий дух. Я бы и сам хотел отыскать их дом, но я же бессилен, я могу только отсюда, с авторского места, словно глядя в монитор, наблюдать за ним, как кружит мой упрямец по улочкам Зальцбурга и при отблесках пожарища вглядывается в фасады домов. «Это не тот, – руковожу я, – и этот по виду не похож на известный всем дом по Гетрайдегассе 9, но он есть в этом городе, одна из этих улиц ведет к нему. Меня гонит нетерпение, а я подгоняю упрямца. Я хочу сразу – одновременно – побывать всюду: и в соборе Св. Петра, для которого Моцарт пишет мессы, и в летнем замке Мирабель, где м-ль Женом играла его концерт, и в театре, где тот смотрел спектакли труппы Шиканедера[5 - Иоганн Йозеф Шиканедер (Schikaneder), известный немецкий актер, режиссер и драматический писатель. Автор либретто «Волшебной флейты».], и у дома графини Лодрон, для которой (и её двух дочерей) он написал концерт для 3-х клавиров, и у Лютцов, его давних почитателей, и у Шахтнера – вот где-то здесь по этим улицам спешившего от Моцартов к себе домой за скрипкой, чтобы убедиться, что она, по мнению маленького Вольфганга, настроена на полчетверти тона ниже его детской скрипки…
Мне становится жарко, но я продолжаю следить, нет, уже следовать за моим упрямцем по пятам, уступая его логике, забывшись и всей душой отдаваясь нашему общему неодолимому желанию – осуществить так давно мною задуманную встречу с Моцартом. Еще изредка падают в снег горящие головешки, шкварча как масло на раскаленной сковороде. На соседней улице тарахтит по обледенелой мостовой легкая карета. Звук колес среди городской тишины выводит меня из оцепенения. Я касаюсь рукой, потом щекой крепостной стены, как будто это мои руки и моя щека, – не сплю ли, и мне не кажется это странным. Иногда я забываю о себе совсем и уже как бы сам иду по Зальцбургу, но как только об этом вспоминаю, стараюсь сразу же отстраниться от того, «кто вырывается из меня», меня не спросясь. «Я не ты, – строго объясняю ему, – запомни!» И тут же, опять забывшись, пытаюсь сообразить, где же всё-таки нахожусь, и как я смогу в темноте, ночью, когда на улицах ни души, отыскать дом Хагенауэра, театр, собор Св. Петра – я совсем не знаю Зальцбурга. Но не ждать же до утра, и бывает ли здесь утро (при мне), может быть, тут, как в Арктике, месяцами полярная ночь…
Я иду почти ощупью к дому на Гетрайдегассе 9. Я как в вакууме: бездыханен, оглушен, плыву в невесомости, а не иду. Никаких ощущений – ни земли под ногами, ни встречного ветерка. Всё провалилось куда-то, а вокруг «ничто» – без запаха, беззвучное, непроницаемое…
И невечерний свет затопляет город. Ясно видна земля, закат над чернильной кляксой леса и дорога – в никуда. Людей нет, воздух густеет от дыхания, как остывающий бульон, – нет людей. Есть яти и еры, есть таганрогская гимназия, есть море, к которому ведут все улицы приморского города. Целый день в Таганроге. Я видел его утро и ощутил кожей его жаркий день, и, слегка осоловев подобно старику на завалинке в треухе и чунях, продремал его вечер под неистовым взглядом царя Петра. Я шел по улицам, мне еще не знакомым, с таким чувством, будто иду по городу моего детства. Нет, даже не так, просто иду ребенком пяти-шести лет по городу, где живу – вот такое было у меня чувство. Мне не казалось: боже, как всё здесь невзрачно, запущено. Мне просто вспоминалось: откуда я иду и куда, и что эта малообжитая улица, с пустырем и брошенными сараями, темная и опасная поздними вечерами, выведет меня на решпектабельный прошпект, обсаженный двумя рядами деревьев с такой густой кроной, что за нею невозможно разглядеть на другой стороне улицы номер дома Ионыча, который я ищу. И при этом нет у меня ни благоговения, ни любопытства – дом как дом, тут живет Ионыч, врач. Ну и что? Слава Богу, мне к нему не нужно…
Жарко, и я иду к морю. По пути заглядываю в чеховскую лавку, листаю там тетрадку с его записями: кому и сколько он отпустил товара. Но мне и там ничего не надо, я хочу искупаться. Мимоходом бросаю взгляд на каменные солнечные часы, спускаюсь длинной «потемкинской» лестницей, и я на пляже – без единого кустика или «грибочка» – на диком сером песчаном пляже. Переодеваюсь, обвязавшись полотенцем, и плюх в море. Под ногами или ямы бездонные, или песчаные отмели: то ползаешь коленями по дну, то уходишь с головой в бездонную прорву. Думать не хочется – плыл бы и плыл…
Здесь, в таганрогском городском саду, на закате, с особой остротой вдруг проникаешься чеховской прозой. В раковине летней эстрады задумчиво играет военный духовой оркестр. Старухи с внуками и внучками застыло сидят в первых рядах партера на некрашеных скамейках. По аллеям неспешно прогуливается чистая публика, уплетая мороженое, и бросает обертки и пустые стаканчики себе под ноги. Солнце тускнеет, розовеет и медленно угасает в желтом мареве сумерек…
И снится мне Таганрог, городской вокзал из красного кирпича, на фоне которого улыбается (как на известной фотографии), близоруко щурится Чехов в расстегнутом пальто, измученный дорогой, с несчастным лицом, стоя между двумя неподъемными баулами, которые он сейчас ухватит и поволочет к извозчику (если фотограф не сжалится и не поможет ему). Я сам бы помог, да не слушают ноги, чувствую – горячие влажные глаза. Слёзы обжигают и высыхают, на один только миг дав мне заметить сутулую спину в черном пальто и блеснувшее из-под шляпы пенсне писателя, увозимого на извозчике… Или это?.. протираю глаза… и мельком вижу, метнувшуюся летучей мышью, тень невысокого молодого человека, в парике с черной ленточкой в косичке, перебежавшего площадь и юркнувшего в парадное дома на Гетрайдегассе 9.
Дверь на запоре, дом спит. Дотрагиваюсь до стены – холодной, шершавой, осыпающейся под моими пальцами. С шорохом падают сухие снежинки в «ничто», в черный вакуум космоса, в котором грубым матерьяльным обломком завис (или вечно падает со скоростью земного притяжения) этот дом. Здесь родился Моцарт. Там, наверху, в комнате с освещенным окном, он листает сейчас книгу или, глотнув для бодрости глинтвейна, записывает партитуру концертной симфонии с тягучей мелодией на манер венгерских танцев, выпеваемую под сурдинку то скрипкой, то альтом. Тема звучит тревожно и грустно, и безнадежно, напоминая о чем-то далеком, дорогом, давно ушедшем, отболевшем; и это как бы еще более раннее воспоминание, как бы острое предчувствие этого часа, этой тишины, покаянно звучащей музыки, этого горящего в доме окна и этих воспоминаний…
Боже мой, я, кажется, у цели? Но если это концертная симфония Es-Dur, если я слышу, а так оно и есть, именно её, то это значит, что в спешке меня не туда занесло. Концертная симфония написана не здесь, а на Ганнибалплатц, куда Моцарты переехали в 1773 году.
Еще в письме из Гааги в декабре 1765 года Леопольд обсуждал с Хагенауэром уже очевидную для всех тесноту их квартирки на Гетрайдегассе. «Например, где будет спать моя дочь? А Вольфганг, как пристроить его? Где мне найти ему место для занятий и выполнения заказов, в которых никогда нет недостатка? И где я смогу работать? Мои дети и я рассчитываем каждый на своё личное пространство, чтобы взаимно не стеснять друг друга. Нельзя ли несколько увеличить в размерах комнаты? но без колдовства!» Почти восемь лет ушло на поиск квартиры. Одна мне очень понравилась (квартирка в доме семьи Фрейзауф фон Нодегг, принадлежавшем им с 1676 года). Дом находится на Юденгассе, и, конечно же, n° 13-тый, но зато эта улица продолжение Гетрайдегассе, близко от Хагенауэров, и что в этой квартире для меня было особенно привлекательным – её окна выходят прямо на реку Зальцах. Леопольд тоже отозвался о ней с одобрением. «Квартира в доме Фрейзауф мне совсем не кажется неудачной, хотя бы из соображений мною высказанных раньше, и в особенности из-за покоя и тишины со стороны реки, в чем нуждаются мои дети во время занятий; их отвлекает малейший шум за окном. Правда и то, что тоскливая Юденгассе, улица грязная и мрачная зимой… Но если найдете квартиру более для нас подходящую, мы обсудим это при встрече». Такую нашли им только осенью 1773 года на Ганнибалплатц после их третьей поездки в Италию, но это уже другая песня…
Сейчас мне остается только подняться наверх, позвонить, извиниться, представиться, и кто-то прямо от двери крикнет в комнаты: «Вольфганг, к тебе пришли». Меня даже пот прошиб от ужаса, что всё это может оказаться сном. И как бывает во сне: он выйдет ко мне, а я не сумею даже разглядеть его; буду знать, что это он – и не увижу, ощущая, как слепну от нечеловеческого напряжения. И что-то меня отвлечет, уведет, я буду искать, уже забуду что ищу – и тут вдруг так разволнуюсь, что проснусь…
Я замечаю железные скобы, которыми крепится к дому водосточная труба. Хватаюсь за трубу, и, оторвавшись от земли, ищу хоть какой-нибудь выступ, чтобы зацепиться. Ботинок соскальзывает, чиркает о стену, нога начинает дрожать. Соседний дом – встык, украшен по краям фасада узкими выступами из камня. Ноги, как слепые, ощупывают каждую вмятину, каждый кирпич на прочность; дыхание сбивается, глаза слезятся, в животе, свернувшись ужом, начинает шевелиться страх. Внезапный промах – и над молниеносно разверзнувшейся бездной страх резко змеей взмывает по пищеводу. Я замираю. Во рту сухо, мороз сковывает спину, руки онемели. Щека трется о ржавую трубу, и такой охватывает ужас, что лучше упасть и разбиться… Я вижу рядом окно, оно темное, створки раскрыты, оно совсем близко; я упираюсь в подоконник, цепляюсь за раму, еще усилие – и я в комнате.
Передо мной кровать со стрельчатой спинкой в изголовье, украшенная тремя шарами. Справа «голландка», её поддувало открыто – она упрятана в нишу, белея там высоким каменным шкафом. В комнате холодно. «Я вас прошу проверить печи в наших апартаментах. Вы же знаете, печь в гостиной использована уже до такой степени, что зияет трещинами». Не могу с ним не согласиться – холодно в квартире, и это еще одно основание, чтобы съехать. «Наша дорогая мадам Хагенауэр высказала нам через господина Иоганна: она надеется,чтомы не останемся в Лондоне навечно. Вопрос, который я выше вам поставил, позволит ей увидеть, что я рассчитываю сидеть в Зальцбурге только возле исправной печки». Как можно яснее донести до хозяев, что семейству хотелось бы иметь теплую квартиру.
Над кроватью смутно темнеют две картины. Под одной из них большое Распятие. Я начинаю молиться и благодарить Бога, что сподобил меня воочию увидеть этот дом (пусть даже так, забравшись как вор), коснуться его стен, пройти по его темным и спящим покоям – это счастье сильнее страха, что обнаружат, схватят, упекут за решетку.
Под ногами скользкие каменные плиты, неровно уложенные, – я на кухне. Белая плита давно остыла. На стенах всякая утварь. Напротив, вплотную придвинутая к поставцу с посудой, широкая скамья. В проеме арочного окна видна часть каменной галереи, сквозной, продуваемой ветрами. Галерея соединяется с домом Хагенауэров. За ней башня местной колокольни с живописным (мне отсюда трудно разглядеть) циферблатом городских часов.
Боже мой, сколько раз смотрел он на всё это из окна, когда скучал, мечтая здесь о заграничных путешествиях, о миланской опере, о барышнях, в которых был тайно влюблен; забьется здесь в угол, прижухнется у окна и смотрит… От окна дует. Он дрожит и не чувствует холода: только бы не зашли, не спугнули, здесь так хорошо, тихо, грустно до слез.
На востоке сквозь рассветную мглу вздувается тревожным винным пятном колокольня. Тараканы, зябко перебирая лапками, бегут по своим щелям. Пятясь, удаляется к себе и таракан, время от времени появляющийся у меня на столе, когда я зажигаю свет и сажусь за работу. Теперь лампа погасла, и значит пора спать… И мне тоже, всю ночь просидевшему над рукописью.
А Вольфгангу пора вставать. В доме у них встают рано. Служанка Трезль уже хлопочет на кухне, растапливая плиту, нагревая в чане воду для умывания. Скрипит в её руках кофемолка, гремят плошки. Слышен мужской голос из комнаты папа, шаркающий шаг со шлепками об пол драных истоптанных тапок, плеск воды в медной лохани вперемешку с фырканьем и блаженными вздохами – он ревностен к своему туалету.
В комнате Наннерль тихо – она молится. Утренняя молитва у неё такая длинная еще и потому, что она молится обо всех, особенно о Вольфганге. А он всё еще спит, вернее, всё ещё в постели. Он уже проснулся, но глаз не открывает – не хочет, оттягивает время, укрывшись с головой, шепчет под одеялом молитву, лишь бы не просыпаться. И что может быть слаще, потуже завернувшись в одеяло с головой, погрузиться в себя, выставив нос перископом на поверхность, и залечь так на дно в полной неподвижности на многие лета, не только не желая шевельнуть пальцем, но обретя, наконец, царство свободы и источник жизни. Здесь ты царь, Бог, властелин, простершийся сам-над-собою небесным сводом; плоть от плоти он твой – этот мир вокруг тебя из тебя же и созданный; здесь ты Бог, а там ничто – чужой: себе чужой, всем чужой.
Проснется – и первое, с чем встречает он новый день, не мысль, не видение, не воспоминание, не предчувствие, а ощущение болезни в себе, поразившей всё тело, душу, мозг, и болезнь эта – граф Иеронимус Йозеф Франц де Паула фон Коллоредо, князь-архиепископ зальцбуржский. Он внутри – в порах тела, в хрящах суставов, в токе зараженной им крови, в свинцовой ломоте мозга, отягощенном его призраком, он в зрении, в слухе, в крике, в шепоте, в дыхании – он не осознаваем и, как бацилла, невидим.
Видимый же князь-архиепископ, – вклинивался в его сознание узким лицом и острым подбородком, длинным пёсьим носом с вывороченными ноздрями, большим глумливым ртом и разного размера черными глазами, смахивая в парике с пышной гривой завитых локонов на карикатурного льва или пуделя с орденом на шее за породистость.
Слышимый же, – воплотясь в жестких, бранчливых, повелительных тактах Аллегро (концерта KV 271), – прямо с порога, едва музыканты коснутся смычками струн, а губами мундштуков, заплевывает вам лицо ядовитой, не терпящей возражения крепостнической спесью и грубым окриком. Вздрагиваешь от неожиданности, а сам уже готов тянуть руки по швам. Но в ответ муфтию (прозвище в семье Моцартов архиепископа Коллоредо) звучит передразнивающее, легкомысленное, неуступчивое огрызание клавира: «Si» – настаивает князь-Командор в рясе, «No!» – слышит он ответ упрямца…
И этот кошмар везде и всюду: в очертаниях колокольни, приобретающей в сознании тощие формы князя; на небе, в складывающейся из облаков в виде кукиша его пудельё-львиной физии; и даже там, где его нет, тут же отмечаешь про себя – его здесь нет, мол, пользуйся случаем, лови момент… И трель клавира – долгая, упрямая, затыкает (забивает, так вернее) уши: всё здесь в Зальцбурге не твоё, на всём лежит печать хозяина, Его преосвященства. И что бы ты ни делал, куда бы ни пошел, чем бы ни занялся, всё равно приходишь к нему, пред его равнодушные очи. Угнетает не неприязнь, не ненависть, не глумление – безразличие.
Князь к Вольфгангу безразличен. Он не отличает его от лакея, принимая за одного из тех, кто прислуживает ему за столом: одни подносят свежие кушанья, Вольфганг – «свежие» сочинения; те услаждают желудок, он – слух. Но, главное, что он это делает на княжеской службе не лучше и не хуже других музыкантов. Михаэль Гайдн, Леопольд, Вольфганг – князю без разницы. (Когда-то Чехов благодарно и растроганно написал Григоровичу, заметившему в рассказе «Припадок» описание первого снега, как о самом дорогом для себя подарке… Имеющий глаза, да видит, имеющий уши, да слышит).
Но повсюду, где бы ни играл Моцарт, перед ним вырастал лес из «ослиных ушей», различающих лишь трубный глас да сигнал к трапезе (не забывай об их вкусах, твердил ему в письмах отец). Ослиные уши толпы – твоя немота, ослиные уши хозяина – твоя смерть. Только в одном тоне – резком, беспрекословном, не предполагавшем ответа, говорил с ним князь, но Вольфганг ему отвечал. И упорно добивался этих крамольных бесед при их коротких встречах не для светского развлечения и тем более не из тщеславия плебея, но чтобы князь услышал из «ничего», из «пустоты», в ответ на леденящую усмешку патриция – «Di rider finirai pria dell’aurora!».[6 - (итал.) «Смеяться кончишь до восхода солнца».]
«Коллоредо» – это никогда не отпускающий зуд, не рассасывающийся нарыв, та нервная болезненная лихорадка, которая то ошпарит кипятком с головы до ног, то обдаст ледяным холодом с ног до головы, то, как тремоло струнных, едва ощутима легкой дрожью в напряженных нервах. И если, свыкнувшись, о ней удавалось забыть, предавшись радостям жизни – мысль: «Я забыл о князе», тут же пригвождала его к Зальцбургу.
МАДМУАЗЕЛЬ ЖЕНОМ
Новое лицо в Зальцбурге как потрясение, как глоток ключевой воды, как пробуждение после зимней спячки, летаргии, как жизнь после смерти. Смотришь, и не можешь нарадоваться – оно оттуда, из того мира, далекого, таинственного, недоступного. А если это еще и женщина, молодая, интересная, загадочная, да из Парижа – дух захватывает, влюбляешься сразу и не веришь своему счастью.
До чего же она свободна в обращении. Её манеры просты, непринужденны, чуть шокирующие стариков, и в глаза она смотрит не тупясь. О Париже говорит как о повседневной, всегда под рукой лежащей вещице: открыла глаза, проснувшись, глянула в окно – Париж; оделась, вышла из дома – Париж; налево пойдешь – Париж, прямо – Париж, никуда не денешься от Парижа. А стоит лишь ступить на парижскую улицу – навстречу тебе Вольтер (пусть «архиплут и безбожник»), тот, о котором папа, когда они подъезжали к Женеве, им говорил,: «Вы знаете, что знаменитость мсье Вольтер имеет свой дом в ближайших окрестностях Женевы, и место, где он живет, называется Ферней». Они, конечно, не знали – всё у них знает папа. С противоположной стороны Елисейских полей их окликает маэстро Глюк (вот потешался папа, воображая, какой шум вызовет в Вене постановка оперы Вольфганга Мнимая простушка[7 - «Мнимая простушка» (К.50) Вопреки всем усилиям Леопольда опера не была поставлена в Вене.]: «Какой? [А представьте себе, каково] видеть сегодня Глюка, сидящим за клавиром, дирижирующим своей оперой, а завтра на его месте – мальчика 12-ти лет? Назло всем завистникам (вдруг завелся папа?) я даже подвигну Глюка нас поддержать, если он сам не сделает этого по доброй воле. И в этом случае они будут лишены всякого основания вредить нам, ибо его [Глюка] защитники как бы уже и наши»). Из-за поворота, внезапно налетев, – «mille pardons», – раскланивается «пройдоха» и «распутник» Бомарше, взлохмаченный и благодушный. Вот удобный случай заполучить либретто «Севильского цирюльника»? Или – Волей свыше – оно уже загодя и до скончания века забито более расторопным Россини?.. Пока раздумываете над этим, глядя вслед Бомарше, едва не попадаете под раззолоченный экипаж, а из него улыбается, качая головой, милый Иоганн Кристиан Бах, с которым обязательно надо встретиться, и… И это может случиться на каждом шагу, в любую минуту, с кем угодно, если тот живет в Париже…
М-ль Женом так к нему доброжелательна, так дружески доверительна, что Вольфганг начинает задумываться, а не влюблена ли она в него? Сам-то он обожает её с первой минуты их знакомства, но, не дай она повода, ему бы и в голову это не пришло. А если всё так, что мешает им всегда быть вместе. Накануне её отъезда он сделает ей предложение, и она увезёт его с собой в Париж. И конец этим затхлым углам, вчерашним лепешкам, конец отцовским выговорам, злословию оркестрантов – всё вон из памяти, из души, из сознания, – он в Париже, на свободе, и с какой женщиной!.. Вот она подходит к нему бесшумной уверенной походкой, садится рядом, потеснив на кушетке, и блаженно вытягивает ноги в жемчужных туфлях. Всё в ней – от пряных духов, шуршащего платья и до случайного жеста – таит в себе отсвет её души. Всё продумано и подчинено её воле, как и эта одежда на ней, соприкасающаяся с недоступным его воображению телом. Какими же привычными жестами, она машинально расправляется с нею, совсем не замечая всех этих тонких, душистых, красивых вещей.
У неё к Вольфгангу просьба. Она много наслышана о его композициях, не сочинит ли он для здешнего её выступления клавирный концерт? Она была бы ему чрезвычайно признательна, и готова уплатить пять дукатов прямо сейчас, если он согласиться исполнить её просьбу.
Он – конечно же… непременно… почтет за честь… с полным для себя удовольствием. А взгляд его ловит едва заметное сияние вокруг её лица, влажный блеск нежно-голубых глаз, выпуклых и живописных, как севрский фарфор.
Стук её туфель, – прощаются! – грудной, с прононсом, теплый голос: «Au revoire» – и сказанное нежно, почти ему на ухо: «Adieu». Он ощутил её губы – сухие, горячие, а в медовых складках рта твердые и гладкие, как очищенный миндаль, зубки. Он еще видит её вздрагивающие от прилива чувств ноздри, приоткрытый рот, уже отсмеявшийся или расцветающий улыбкой, с легкими морщинками в уголках.
Он как хмельной, он невменяем, спешит из комнаты в комнату, не слышит, когда к нему обращаются, злится на глупые просьбы – оставили бы его в покое. Из окна он ещё успевает проводить её взглядом, когда она выходит из парадного и садится в экипаж.
Всё тише цокот копыт, всё меньше силуэт кареты, всё обозримей местность, всё распахнутей горизонты. Там за горами – Париж. Туда по бездорожью умчится вскоре с оказией М-ль. Дохнуло женщиной, от встречи с которой жить в Зальцбурге стало невмоготу, поманило – и показало кукиш. Он-то её не забудет, а она? «Уж сколько их упало в эту бездну, разверзтую вдали».[8 - Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы.] Шепчу я, улыбаясь и сочувствуя ему. Может, и вспомнит она в тряской карете, сыгранный в Зальцбурге концерт, и ей захочется поделиться с попутчицей – от избытка чувств или дорожной скуки. «А вы знаете, – прервет она молчание, – какой изумительный концерт написал мне в Зальцбурге обыкновенный мальчишка». И чем черт не шутит, её попутчицей, подсевшей где-то на перепутье, когда она дремала, может оказаться Марина. Они, конечно, разговорятся. Обе натуры артистические, в чем-то даже богемные. Такие сходятся быстро, особенно в дороге. М-ль Женом не сможет умолчать о зальцбуржском князе-архиепископе, о большой академии, данной в его честь. Тут-то и нарисуется наш Вольфганг. «Представьте себе, пришлось уплатить мальчишке пять дукатов. Смешной такой, колючий, влюбленный, пяти минут не усидит на месте, сыплет вопросами, весь дерганый, дурашливый, но с губ никогда не сходит улыбка – дерзкая, готовая тут же юркнуть в свою норку… Похож? На кого он похож?.. Может быть, на лемура (lеmurien), глаза узко посажены и печально-округлые».
Нет уж, от обезьянки в нем… разве что заразительные всплески веселости, игривости, страсть к пародиям, шуткам, актерскому эпатажу. В этом случае м-ль Женом не кажется мне особенно оригинальной в своем сравнении. Если только, конечно, под lеmuriens она имела в виду не обезьянок с острова Мадагаскар, а lеmures из римской мифологии: докучливых теней, душ преступно убиенных, тревожащих покой благополучных римлян; призраков: неприкаянных, бездомных, недостойно погребенных, насылающих на людей безумие, как бы оно ни называлось, хоть музыкой… Но для этого надо быть провидицей. Хотя, возможно, и не так уж это было трудно «провидеть», если вспомнить хотя бы портрет Вольфганга в зальцбуржском музее (Mozart-Museum) с папским орденом «Золотая Шпора» (1777), сохранившем нам его 21 года от роду. Поражает выражение его глаз – ясность и бесстрастность их печали, не временной, и не суммарной, отражающей не скорбную череду дел и дней, но – человеческой юдоли: печали чистой, изначальной, до опытной (если так можно выразиться); печали, глядящей на нас глазами обезьян, собак, лошадей – всем существом своим знающих о своей смертности, но не сознающих этого, и потому не ведающих о смерти, пока она в свой час не приходит к ним.
Снимок с портрета Вольфганга «Mozart als Ritter von Goldenen Sporn, 1777» оказался неудачным, темным, и я полез в следующую книгу. И так поочередно заглянул во все имевшиеся у меня издания о Моцарте и обнаружил, что при неизменности общей композиции и надписи, сделанной в верхней части портрета «AV. Amadeo Wolfganco Mozart accad. Filarmon: di colon e di verona», изображение Вольфганга отличается на всех снимках не только формой парика и мелкими погрешностями, которые легко можно списать за счет качества печати, но и своим обликом. Было такое чувство, будто в картину с вырезанным вместо лица отверстием просовывались головы разных (весьма, правда, похожих) людей. Например, на одном из снимков портрета губы Вольфганга, чуть дрогнув в уголках, как бы свербят зреющей в них плутоватой улыбкой, и только усилием воли, перекинув вздорную сумасшедшинку в нарочитую невозмутимость взгляда, удается ему сохранить серьезность.
С другого снимка (портрет тот же) смотрит бледное худое лицо с тонкой ниточкой губ. Надменное лицо сероглазого арийца, самолюбивого до сумасшествия, для которого честь превыше всего. Взгляд холодный, пронизывающий насквозь, как лучи Рентгена. Сам князь-архиепископ спасовал бы перед этим беспощадным взглядом.
На снимке в книге Чичерина (тот же портрет): обиженный, но скрывающий это, мальчишка. Парик съехал на сторону, припухлое детское лицо со щёчками, ямочками и надутыми губами. Во взгляде – невыплаканные слезы, нежелание их показать, уязвленность, упрямство, упорство и беззащитность.
А вот – ни то, ни другое, ни третье (снимок того же портрета из книги Alain Gueullette «Mozart retrouvе»): не по летам отягощенное невеселыми мыслями молодое лицо, с глубокими складками (морщинами их не назовешь) на переносице, у крыльев носа, в углах рта – невидящий взгляд, погруженный в себя. Губы твердо сжаты, ни тени превосходства, презрения, усмешки, чувственности или уязвленного самолюбия. Лицо грубоватое и простое. Лицо ремесленника, знающего жизнь и нелегким трудом зарабатывающего свой хлеб.
Мне уже показалось, что возможность новых метаморфоз с этим портретом маловероятна, но тут я раскрываю избранную переписку Моцарта и… всё тот же портрет с Золотой Шпорой (художник неизвестен, Болонья, Музыкальный лицей, 1777). Лицо, изображенное на нем – тонкое, миловидное, скажем больше, тщательно вымытое лицо хорошо воспитанного и прилежного юноши. По характеру меланхолика, сторонящегося приятелей, избегающего шумных компаний, пирушек и смиренно принимающего шутки в свой адрес, при этом сохраняя достойную дистанцию и не позволяя шутникам преступать границы дозволенного.
Теперь я убежден, что если поднять все издания в мире, напечатавшие снимок с этого портрета, то ни один из них не повторит другой. И если даже принять за объяснение этих странных метаморфоз, что перед нами его разные копии, то всё равно остается неясным, каким образом десятки профессиональных художников так далеко ушли от оригинала. И умышленно или бессознательно плодятся под их кистью всё новые и новые Вольфганги, будто примеряя на себя то или иное обличье. Глянет он в зеркало и отбросит с досадой: этот слишком парадный, тот очевидно филистерский, а этот не по возрасту стар в отличие от того, где возраст приравнен к глупости.
Ни свидетельства современников, ни пи?сьма близких, ни даже его собственные пи?сьма нам не дают о нем цельного представления. Он, как и на снимках одного и того же портрета, меняет личину и неуловимо ускользает от нашего слишком пристального и нескромного взгляда. Только в музыке… Но и тут он блистательный мистификатор, остроумец, пересмешник и мастер розыгрышей не дает себя так просто ухватить за хвост. Почти столетие он пускал пыль в глаза нескольким поколениям самовлюбленных ценителей, умилявшихся ангельски-ясной, искрометной, бесхитростно-изящной музыкой, приправленной розоватым сиропом их собственных слюней… Льётся вино, текут пьяные слезы и пьяные восторги заслоняют жизнь: ах, Моцарт, душка, – лезут они целоваться, благодарные, к своему безумцу, «навевавшему им золотые сны». Его музыка им кажется нежной и ребячливой, почти женственной: там всплакнет, тут же расхохочется, шалунья, проказница, ветреница… Как-то Лев Толстой обмолвился, что истинное искусство светит, греет и жжет в зависимости от того, насколько близко душа приближается к его источнику. Больше века музыка Моцарта – «солнечного юноши» – издали сияла одураченным поколениям из-за непроходимых вершин человеческой косности, лености, самодовольства и предрассудков; редких счастливцев согревая, и лишь единиц, как Йозеф Гайдн, обжигая трагическим откровением. Ему отказывают в уме, ссылаясь на либретто его опер (почему?!) и пристрастно роясь в его «маленькой» библиотеке. Его обвиняют в пошлости, мусоля с алчностью эротоманов страницы его интимнейшей переписки; отслеживают каждый шаг, надеясь изобличить в дурном поступке или застукать с очередной любовницей. Но с тем же ханжеством ему отказывают и во всем, что разрушает его образ бездумно и праздно творящего ангела, купидона, с розовой попкой и плутоватой усмешкой, грозящего дамам пальчиком. И это не от злого умысла или недобросовестности – от всеобщей глухоты. Нечто порхающее, бравурное, с хрюканьем медных – слышат. Дальше – глухота, протаранить которую было по силам лишь Бетховену да Вагнеру со всей мощью и голосистостью современного оркестра, или Шопену, умудрявшемуся украдкой проскрестись к ним задушевными трелями, как мышке в ушко спящего…
Но где всеобщая глухота, там и всеобщая слепота, поражавшая художников, и не только в случае с портретом, о котором шла речь, но и во всех прочих изображениях Вольфганга – от самых первых детских. Вы не найдете среди них и двух (написанных почти в одно и то же время), где бы он был похож сам на себя; или хотя бы их схожесть между собой позволяла бы предположить, не прибегая к подсказке под снимками, что это одна и та же личность.
Французский художник Кармонтель пишет акварелью «Леопольд, Вольфганг и Наннерль в 1764» (музей Конде, Шантиль), и чуть ли не в тот же день набрасывает рисунок «Леопольд и Вольфганг в 1764». Один и тот же художник, те же Леопольд и Вольфганг, но… На акварели Вольфганг выглядит четырехлетним птенчиком, ножки которого, как у куклы, едва свисают с сидения; на рисунке же – это пятнадцатилетний парень, упирающийся ногами в низкую подставку, убери которую, и его ноги свободно достали бы до пола. Как это понимать? На акварели – это «пупса», восторженная кукла с клоунской улыбкой, так и кажется, что переверни его сейчас на спину, он закроет глазки и останется лежать с ручками и ножками, согнутыми в локтях и коленках, а верни его в прежнее положение – пискнет «мама». Смотрим на рисунок: коренастый парень, с итальянской внешностью, чем-то напоминающий молодого Челентано. А год всё тот же (впрочем, Леопольд на рисунке и акварели одинаков).
Вот, словно из овального зеркала, смотрит с картины Ж. Б. Грёза ангелочек-Ульянов (только вместо кудряшек – парик) с выражением невинно убиенного царевича Дмитрия. И вот портрет кисти Пьетро Лоренцони (?) «Вольфганг в парадном костюме» – толстая ряшка старообразного уродца семи лет (если смотреть только на лицо – И.С.Бах в преклонном возрасте), пузатенький, на кривых ножках, румянец во всю щеку плоского широкоскулого лица. А у Я. ван дер Смиссена перед нами хорошенький мальчик, словно с красочной коробки монпансье, в парике французских королей, пышном, ниспадающем золотисто-вьющимися кольцами на плечи. Большие миндалевидные глаза, чуть вздернутый девичий носик, рисованные губки. Он смотрит на вас несколько удивленно и капризно, с выражение избалованных вниманием красавиц, фавориток, принцев, богатых наследников, привыкших к поклонению и к любопытным взглядам.
А перевернув страницу, натыкаемся глазами на портрет Саверио делла Роза «Моцарт в Вероне (1770)». Моцарт как бы играл на клавесине, а его как бы окликнули, и он, не сняв рук с клавиатуры, обернулся на художника. В этом неестественном от долгого позирования, ракурсе, якобы мимолетно схваченном художником, он и запечатлен. Глаза сочатся, словно сосульки в капель; губы подморожены улыбкой. Нос длинный, глаза узкие, по-монгольски раскосые, мягкий подбородок. Дамочья припухлость вместо скул, паричок жиденький, гладенький, зализанный, – не то мальчик лет четырнадцати, не то сорокалетняя дамочка, любительница сладостей и комплиментов. Выражения никакого – одна окаменелость, остекленелость.
И на той же странице под этим портретом: «Принятие Моцарта в Болонскую Академию» (тот же 1770). Трое молодых людей бездарно разыгрывают в картине дурно сочиненную художником сцену. И дело тут не только в нарочитом позировании фигур, не знающих друг о друге, но и в явном нарушении перспективы в картине. На языке музыки – это похоже на трио, составленное из самостоятельных арий, надерганных из разных опер и насильственно объединенных в один ансамбль (так называемый кошачий концерт). Кто же из этих троих Моцарт? Это еще надо попотеть, чтобы угадать (именно, угадать, а не узнать), хотя у нас перед глазами (под снимком картины) фотография его портрета, в том же году написанного. И угадать тут не просто, его можно только вычислить от противного – это не он, этот тоже не он, значит, если Моцарт, как пишут, изображен на картине, – то вот он. Поэтому решусь предположить, что Моцарт, вероятно, сидит слева в торце стола, тот, который в профиль, справа – явно кто-то постарше двух остальных, предположим, профессор Академии, а в центре, в черной сутане (Моцарт не был посвящен в сан) один из соискателей почетного звания. Итак, Моцарт слева и самый молодой (14 лет), и вид у него почтительно просительный. Левую руку он прижимает к груди – жест молящий о снисхождении к его ответам, а правой протягивает экзаменатору лист исписанной нотной бумаги. Зауженная (дыней) кверху и книзу голова, покатый лоб, крючковатый нос, безвольный подбородок – образуют профиль узкий и острый, как секира, с узкими надрезами вместо глаз – и это всё Моцарт.
Пожалуй, только посмертный его портрет работы Б. Крафта, может быть, близок к оригиналу, но на то он и посмертный. Живой Моцарт не дается никому. Он постоянно мистифицирует окружающих, как на карнавале: пересмешничает, обезьянничает, меняет личины. Вот он, только что был рядом, и вот уже голос его где-то за тридевять земель. То он серьезен, печален, пронимает всех до слез и тут же осыплет бисером хохотка, как брызнет в лицо водой. Там покажет язык, тут на вас глядит сама скорбь. И в письмах, и в свидетельских показаниях, и в музыке – неуловим, неизъясним, необозрим – оборотень: ни Дон-Жуан, ни Командор, ни Фигаро, ни Альмавива; и Дон-Жуан, и Командор, и Фигаро, и Альмавива, и донна Анна, и Сюзанна, и Мазетто, и Тамино, и Церлина, и Папагено, и Керубино – всё это он, и он – никто. У него нет ни однозначного лица, ни однозначного имени. От его полного имени Иоганн Кризостом Вольфганг Теофил Сигизмунд в неизменном виде остался только Вольфганг. Иоганн Кризостом канули в небытие. Конфирмационное Сигизмунд, изредка всплывавшее в его ранних письмах из Италии, отпало незамеченным. А Теофил, что в переводе с греческого означает Боголюб, видоизменялось на протяжении его короткой жизни то в Готлиб (по-немецки), то в Амадеус, что тот же Боголюб, но уже по-латыни. Его болезнь не имела однозначного диагноза. У него нет своей могилы, не осталось свидетелей его погребения (карета сдвинулась с места и покатилась в сторону кладбища; кто-то проводил её до околицы и отстал, глядя, как она удаляется под мелким колючим дождем (а кто-то утверждает, что день был ясным и солнечным) и исчезает в туманной мороси, как в пучине, навеки. Куда она исчезла, доехала ли до кладбища или растворилась в мутной тяжелой влаге дождливых сумерек – кто нам теперь скажет, нет свидетелей… Никто, кроме Всевышнего и всезнающего сердца. Не верьте всем портретам в мире, всем описаниям, всем свидетельствам, документам и фотографиям (если бы таковая была, думаю, и она оказалась бы размытым мутным пятном, как дагерротип Шопена) – смотрите во все глаза, и да имеющий их – увидит…
День выступления французской пианистки назначили сразу же, как только она получила от Вольфганга ноты его нового сочинения. Всю свою тоску, страсть и надежду вложил он в этот концерт для м-ль Женом – он вырвется на волю, его опять оценят в Париже, как это было в детстве, и вознесут. Вот чем была для него м-ль Женом и этот концерт, двинувший его как музыканта на много лет вперед.
Итак, в Париж! Тогда, в Зальцбурге, приступая к сочинению финала концерта для м-ль Женом, он еще только предчувствовал эту дорогу: из-под домашнего крова под кров небесный. Но спустя год с небольшим, уже в Париже, он поминал её как свершившийся факт в финале а-moll’ной сонаты. Черное небо – чисто, стерильно, как в операционной, как стерильна смертельной бледностью ампутированная голова луны… Листья пожухли, осыпались, деревья обнажились и поблескивают, точно скелеты, в холодном лунном свете. Призрачный город, призрачный мир… – я слушаю presto a-moll’ной сонаты. Сухо, жестко, как в трескучий мороз, звучит в её финале искаженная тема финального presto концерта Es-dur, – коротко, сдержанно, графически скупо, без отступлений и лирических признаний концерта, без его рондо с менуэтом и чувственной стихией, из которой вдруг возникает удивительный и нежный облик – чей? Сначала лишь промелькнул, пахнув терпким хмелем, и снова показавшись, задержался – и вот уже захватил, заслонил собою всё… М-ль Женом кружится с ним, их пальцы соприкасаются, искрят. Легкая испарина пропитала её тонкое белье, благоухавшее свежестью вымороженной ткани – это всё трется, шуршит на ней, стягивает, топорщится, источает только ей одной присущий аромат – и кружится, кружится, кружится… Где-то сказано – в письмах? в воспоминаниях? чьих? – он еще раз встретится с ней в Париже. И это будет их прощанием. Значит, а-moll’ная соната – это тройное прощание: с матерью, там умершей, с м-ль Женом, за которой он бросился следом спустя полгода, сжигая за собой мосты, обольщенный её женским обаянием, тяжестью её приспущенных век, из-под которых струился отруйный взгляд, и – с тем юношей, максималистки настроенным, написавшим когда-то этот концерт для м-ль. Но что стало с душой, его сочинившей. Её пахучий, нежный, как крылышко бабочки, ярко зеленый и сочный листок – потемнел, кожисто заблестел, стал жестким, ломким, горько пахнувшим темным соком, въевшимся в пальцы…
Но до этого ещё далеко. М-ль Женом сейчас за клавиром в окружении оркестра. В паузах, когда оркестр солирует, она, горбясь, склоняется над инструментом и дышит на руки, отогревая замерзшие пальцы. В зале холодно, окна дворца прихвачены снизу наледью. Ежатся соседи, ежится Вольфганг. Иеронимус Коллоредо, князь-архиепископ, сидит отдельно в кресле у изразцовой печи – ему тепло. В решетчатые окна бьет яркое январское солнце. Вольфганг слепнет от жгучих лучей, и тогда сквозь золотистую пелену прорисовывается опаленный солнцем абрис женской фигуры, склонившейся над клавиром.
Еще очень далеко и до заключительного tutti, и до звучного плескота аплодисментов под сводами Мирабель, летней резиденции архиепископа. Его светлость скучает, рассеянно поглядывая на зал. Свесившейся с кресла рукой машинально тянется к горячим изразцам, обжегшись, тут же отдергивает пальцы.
Вольфганг ерзает, по ногам гуляет сквозняк. Если бы не теплая ладонь матери, время от времени ласково сжимающая ему руки, они бы тоже окоченели.
В лице Анны Марии, недоверчивом и настороженном, есть что-то птичье: беззаботное, неунывающее, беззащитное, – и в узко посаженных глазах, и в маленьких губках сердечком, еще недавно целовавших его по утрам. Таким это было счастьем – доспать в постели матери минуты, оставшиеся ему от утреннего сна, сбросив все ночные страхи и дурные мысли с той же легкостью, с какой он сбрасывал с себя одеяло, кинувшись в родительскую спальню. Зарыться там носом в подушку, и спать – так сладко, так крепко, как спится только в детстве.Пригрев его, мать уходила. Ему слышался за дверью её голос, отчитывавший Трезль, и бубнивое отпирание служанки.Медленно падали за окном хлопья. Сквозь разбухавшую дремоту тонкой струйкой, как в песочных часах, утекало в ничто иссякавшее сознание; и с последней утекшей песчинкой – он засыпал. Детский сон, что бездумное почивание в блаженной тьме материнской утробы, и каждое утро – заново рождение на свет Божий: всё в новость, всё в радость, всё как в первый раз. Безболезненно вспарывается светом утроба тьмы и бездыханное «я» заряжается его энергией: в доли секунды свет творит тебя и – через тебя – всё видимое и невидимое. Мать садится на постель, дует ему в ладошку; он обхватывает её руками, прижимается, замирает и даже зажмуривается… И только смерть (по его мнению, подлинная и лучшая подруга) да мать никогда не оставляли его без утешения.
Рука архиепископа боязливо касается обжигающих изразцов, сжимается в кулак и уже барабанит по глазурным плиткам сухими длинными пальцами в такт музыке. Глубокая пёсья печаль на лице. Глаза неподвижны, широко раскрыты, но внутренний взгляд блуждает, и от этого зеркало глаз запотело, как стекло в бане.
Что ему грезится под звуки Аллегро: бликующего, задыхающегося, кружащего голову и вдруг зависшего на взлете, когда сердце ухает в бездну из ледяных мурашек, а вы парите – бездыханны, бестелесны, в пустоте, в безмыслии, с одним только предчувствием – вот оно, здесь, совсем близко? Отсюда этот жар, этот нерв, этот полет и полуобморочное замирание: молчу, молчу, но ведь вот оно, чувствую, слышу, вижу!..
Княжеская кисть, вздрагивая и шевеля пальцами, упрямо жмется к голубоватым изразцам и, обжегшись, снова тянется к ним, словно мохнатая ночная бабочка бьется об огненное стекло лампы. Князь хмурится, опускает голову, рассматривает ткань своей мантии, носки туфель.
Угол его зрения расширяется, захватывает пол, стены, и вот уже забилась в сетчатке его глаз м-ль Женом за клавиром – истомленная, раскачивающаяся, с приспущенными веками; её пальцы пенным гребнем прокатываются по зыблющейся клавиатуре, зацепившись за крайние клавиши, скользят по ним, точно ноги на крутой скользкой горке, съезжая и замирая затухающим тремоло. Князь откидывается в кресле, прикрывает рукой глаза и вдруг, скакнув мизинцем к носу, быстро, но глубоко, ковыряет в ноздре. Его длинный пуделиный нос розовеет.