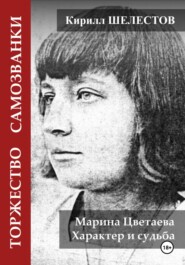скачать книгу бесплатно
На другой день, за этим же кофе, Аля рассказывала новый сон. Но теперь это был просто Климка, вез навоз в двуколке.
– Вот это другое дело…». (М.Цветаева в воспоминаниях современников. В 2-х тт. Т.1 М.; Аграф, 2002, с.106)
Этой добродушной иронии Ариадна и в старости не могла простить покойному писателю и отзывалась о нем неприязненно. С ее стороны это было несправедливо, не только потому, что Зайцевы много помогали ей и ее матери в ту тяжелую пору, но и потому что Зайцев мог бы рассказать и о других ее привычках, далеко не столь безобидных, которым она тоже научилась у «своей Марины».
«Два порока моего детства: ложь и воровство», – признавалась Ариадна годы спустя Пастернаку. Зайцев об этом промолчал.
Лгать и воровать Ариадну учила мать. Привычка к воровству со временем, видимо, прошла, а вот склонность ко лжи осталась и даже с годами усилилась. В поздних рассказах Ариадны о родителях, да и о себе правды почти уже не было.
* * *
Еще одно воспоминание об Але, – человека, совершенно иного склада, чем Б.Зайцев, – И.Эренбурга, относящееся к 1917 году, после февральской революции.
«Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала:
Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лилий полны объятья,
И ты без мысли глядишь…
Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой – Але – было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры, самой Марины» (И.Эренбург, Из книги «Люди, годы, жизни», в кн.: Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Рождение поэта, с. 125).
* * *
Революцию Цветаева переживала в Москве одна, с двумя дочерьми: Алей и маленькой Ирой; Эфрон воевал в Белой армии. Аля в те тяжелейшие годы была ей преданной помощницей. Она стойко, не жалуясь, переносила холод и голод, таскала дрова для печки, скребла кастрюли и сковородки, стояла с матерью в очередях за скудным пайком, выносила «окаренок».
«Окаренком» Цветаева называла ведро, куда сливались помои и прочие отходы жизнедеятельности (канализация в Москве не работала). Сама Цветаева выносить «окаренок» не любила и по ночам выливала в окно, прямо у дома.
Декабристы, обходившиеся в Сибири без слуг, не выливали нечистоты поблизости от своего жилья, не делал так и Пушкин, который в Михайловском сам отмывал ночной горшок. Но аристократия духа, к которой причисляла себя Цветаева, выше аристократии крови; ей позволено больше. Да и к гигиене Цветаева всегда была совершенно равнодушна.
Уходя из дома, Марина и Аля вместе привязывали к стулу Ирину, младшую нелюбимую дочь Цветаевой. В свои два с небольшим года девочка не могла говорить, только пела. Цветаева считала, что у нее был дефект в развитии, но, возможно, это было следствием недоедания. Так или иначе, но и Марина, и Аля Ирину презирали, и Аля с одобрения матери издевалась над ней.
Вот веселая запись в дневнике Цветаевой: «Аля закрыла Ирину с головой одеялом». Испуганный ребенок бьется, пытается освободиться. Аля:
– «Марина! – Глядите! Беснующаяся пирамида!». (Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки. Т.2. Записная книжка 7. с.11).
Марина и Аля в восторге хохочут. Умора, не правда ли?
* * *
«Аля мне нужна, как страстная любовь – ее ко мне», – писала Цветаева. (Записные книжки, ноябрь 1917).
Она видела в Ариадне не столько дочь, сколько младшую подругу, влюбленную в нее, поклоняющуюся ей и беззаветно ей преданную. Такого самозабвенного преклонения она всегда искала в мужчинах и женщинах и сердилась, если его не встречала. Подобное чувство к себе со стороны случайной подруги, второстепенной юной актрисы Сони Голлидэй, она описывала в повести «Сонечка», над которой смеялся Адамович. Вот цитата из повести, которую он приводит:
«– О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала!.. Когда я Вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что Вас нельзя не полюбить безумно, – я сама Вас так полюбила сразу…
– А он не полюбил.
– Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я Вас люблю. А его я презираю – за то, что не любит Вас – на коленях».
Кто здесь кого копирует: Аля Сонечку или Сонечка – Алю? Или Цветаева приписывает Сонечке то, что слышала от Али? Эта поздняя повесть, написанная Цветаевой в 45 лет, подчеркнуто автобиографична. К тому времени Аля успела вырасти и отдалиться от матери. Других столь же восторженных обожателей на ее место так и не нашлось, приходилось их выдумывать.
В рецензии на повесть Адамович замечает: «Будем откровенны: читать Цветаеву всегда неловко и тягостно, несмотря на то, что талант ее всегда и во всем очевиден. Отрывок из «Повести о Сонечке», (…) вовсе не исключителен для нее. В других формах и в других вариантах Цветаева пишет о себе неизменно в таком же тоне, и неизменно все ее воспоминания развертываются в атмосфере «обожания», которое то прямо, то косвенно затрагивает ее самое».
Журнал, начавший было печатать повесть, остановил публикацию, – откровенное самолюбование автора сочли неприличным. Цветаева, как обычно была этим страшно возмущена. Уже позже, в Москве, незадолго до смерти, она читала «Сонечку» в кругу своих новых поклонников. Когда одна слушательница заметила, что так писать о себе нескромно, Цветаева строптиво ответила: «Я имею на это полное право, я этого заслуживаю». (М. Белкина, Скрещение судеб, М., 1992, с. 264).
* * *
Она откровенно посвящала Алю в свои романы, и маленькая девочка, тосковавшая по отцу, которого едва помнила, писала любовникам матери вежливые письма, поздравляя их с праздниками и иными событиями.
Завершу цитату из «Сонечки».
– Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?
– Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец…
– Значит, внутри пылало, а я боялась – всю сцену – весь театр – всю Москву сожгу. (…).
Это был мой последний румянец в декабре 1918 года. Вся Сонечка – мой последний румянец. (…)
…Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку».
Адамович прав: это – совсем дурной вкус. И жаль, что «последний румянец» Цветаевой пришелся не на Алю, бесконечно ее любившую, а на случайную в ее жизни актрису, впоследствии ее забывшую.
* * *
После гибели Ирины Цветаева взялась откармливать Алю, или, как она сама выражалась, «пичкать». «Мама все в меня пихала, кормила меня до упаду, так что я и на Запад приехала не вспухшая от голода, а просто толстая», – рассказывала позже Ариадна. (В.Лосская. Марина Цветаева в жизни. М., Современник, 2011, с.72).
Те, кто встречал в ту пору мать и дочь, сохранили такие воспоминания об их отношениях:
«В 1920 г. мы приехали из деревни в Москву. Папа был знаком с Цветаевой. Он очень ей помогал, носил ей дрова, топил печки. Обстановка у них была кошмарная. Цветаева жила тогда одна с девочкой. Она с ней обращалась жестоко. Аля была в ужасном виде. Она ее сажала на стул, связывала сзади руки и пихала в рот пшенную кашу. Аля не могла глотать, держала все во рту, а потом выплевывала все под кровать. И под кроватью были крысы.» (Н.Б. Зайцева-Соллогуб, там же, с.68).
При этом Цветаева непрерывно внушала, точнее, вбивала в голову Али мысль о том, что в гибели маленькой Ирины виновата не она, Цветаева, отдавшая дочерей в детдом, официально отказавшись от них, а затем бросившая там Ирину умирать. А Аля, ради которой Цветаева пожертвовала Ириной. И Аля этому верила.
«А когда мне было уже 12 лет, я поняла, что мама могла тогда накормить, одеть и спасти только одного ребенка, не двоих. И ей пришлось сделать этот ужасный выбор. Конечно, я потом сама себя упрекала в смерти Ирины». (Там же, с.72).
Многолетняя знакомая Цветаевой рассказывала, что и «впоследствии, во Франции, когда мать с дочерью стали ссориться, она часто горько упрекала Алю в смерти девочки». (Там же). Себя Цветаева не упрекала. А за что?
Никто из интеллигентных женщин России, многие из которых находились в гораздо худшем положении, не поступил со своими детьми подобным образом. Но Ариадна не задумывалась над этим. Она была приучена подчиняться и подстраиваться, но не анализировать.
* * *
В 1922 в эмиграции Аля, наконец, встретилась с отцом, о котором хранила лишь смутные детские воспоминания. С ним, слабым, бесхарактерным, ласковым, у нее было гораздо больше общего, чем с резкой деспотичной матерью. Постепенно она все больше привязывалась к нему и, видя, как он порой плачет, проникалась к нему сочувствием.
До 12 лет Цветаева учила дочь сама, – чему считала нужным. Ариадна неплохо хотя и совершенно бессистемно знала литературу, но об истории, музыке, живописи понятия имела слабые, а о точных науках – и вовсе никаких. По настоянию отца (редкий случай, когда он сумел хоть на чем-то настоять), ее в возрасте 12 лет впервые отдали в школу, – это была бесплатная русская гимназия в Праге, которой управляли друзья Эфрона.
Школьное обучение Ариадны продолжалось совсем недолго, лишь одну зиму. Цветаева вновь забеременела и решила, что дочери хватит беспечно наслаждаться плодами просвещения. И Ариадна, вновь превратившись в Золушку, покорно выносила ведра, таскала дрова, мыла посуду.
После рождения сына Цветаева к дочери как-то совсем остыла. Подросшая Аля, утратившая и детскую поэтическую красоту, и детскую восторженность, казалась ей заурядной и неинтересной. Теперь ее целиком занимал маленький Мур, в котором она, как когда-то в Але, видела необычного ребенка. Мура Цветаева баловала и опекала, а на долю дочери доставались лишь выговоры да черновая работа.
В.Яновский, часто встречавшийся с Цветаевой в Париже, вспоминает: «Дочь Аля, милая, запуганная барышня, тогда лет 18, была добра, скромна и по-своему прелестна. То есть – полная противоположность матери. А Марина Ивановна ее держала воистину в черном теле.
Почему так, не ведаю, и без Фрейда здесь не распутаешь клубка. Объективно это было тоже проявлением недомыслия. В особенности, если принять во внимание нежное восхищение, с которым Цветаева прислушивалась ко всякой отрыжке своего сына – грузного, толстого, неприятного вундеркинда лет пятнадцати…
Он вел себя с наглостью заведомого гения, вмешивался в любой разговор старших и высказывался довольно развязно о любых предметах, чувствуя себя авторитетом и в живописи раннего Ренессанса, и в философии Соловьева. Какую бы ахинею он ни нес, все равно мать внимала с любовью и одобрением. Что, вероятно, окончательно губило его.
Аля добросовестно ухаживала за этим лимфатическим увальнем; Цветаева в быту обижала, эксплуатировала дочь, это было заметно и для постороннего наблюдателя.» (В.Яновский. «Поля Елисейские»).
* * *
Лишенная детства, Ариадна осталась и без систематического образования. В бюрократической Франции, куда семья переехала из Чехословакии, это лишало ее всякой надежды на достойную работу. Она, правда, немного рисовала и даже успела закончить два класса начального обучения рисованию, но для заработка этого было явно недостаточно. Да и подлинного таланта к живописи у Ариадны не было.
К 19 годам, по собственному признанию, она хорошо знала лишь греческую мифологию, которой мать ее «накачивала» с раннего детства, да жизнь голливудских актеров, – в ту пору она страстно увлекалась кино. Стихов Аля уже не сочиняла; она мечтала о карьере журналистки, пробовала писать в разные издания; ее небольшие заметки даже изредка печатали. Но жизненного опыта у нее не было, да и кругозор ее, откровенно говоря, был не особенно широк.
Не имея собственных средств к существованию, вынужденная по-прежнему заниматься домашним хозяйством, Ариадна на пороге своего двадцатилетия наконец взбунтовалась и заявила матери, что ей надоело быть у нее бесплатной прислугой, что она начинает самостоятельную жизнь. Цветаева была потрясена такой неблагодарностью. Негодуя, она жаловалась подругам, что пожертвовала для дочери всем, буквально, всем! И что же получила в ответ?! «Безбожно! Бесчеловечно!» «О слезы на глазах! Плач гнева и любви!».
Она влепила Але пощечину, и та ушла из дома. Отец был на стороне Ариадны, и это злило Цветаеву вдвойне. Впрочем, на настоящий бунт Аля была неспособна. Она вскоре вернулась, но отношения матери и дочери уже никогда не были близкими.
* * *
Должность мужа Цветаевой трудно назвать синекурой, однако ничего другого Эфрон не умел. До встречи с Цветаевой его кормили взрослые сестры, затем он целиком перешел на содержание жены. Отличавшийся слабым здоровьем, лишенный любых практических навыков, не приученный к труду, он не сумел найти свое место в дореволюционной России; еще меньше шансов было у него сделать это за границей.
Попробовав себя и в роли редактора, и в качестве оператора, и даже статиста в кино – во всех случаях неудачно – он в конце двадцатых годов сделался тайным агентом НКВД. Завербовал его, похоже, любовник его жены К. Родзевич, хотя Эфрон позже на следствии уверял, что все было наоборот, что это он завербовал Родзевича, а заодно и еще двадцать с чем-то человек. Видимо, это была запоздалая и бессознательная попытка реваншироваться.
Своими прокоммунистическими взглядами, которые до известной степени разделяла и Цветаева, во всяком случае, поначалу, Эфрон заразил и дочь. Ариадна тоже со временем сделалась секретным сотрудником НКВД. Эфрон возглавил «Союз возвращения на родину», созданный при советском представительстве в Париже на деньги НКВД, и издавал газету с выразительным названием «Наш Союз» – рупор советской пропаганды. Ариадна руководила в «Союзе» молодежной организацией, вела агитацию в пользу СССР среди эмигрантской молодежи, а заодно и сообщала чекистам интересующую их информацию о своих знакомых.
* * *
В СССР она вернулась первой из семьи, в 1937 году, пылая любовью к социалистической родине, которую она оставила десятилетней девочкой. Теперь ей было 25 и все что она видела приводило ее в восторг: размах строительства, энтузиазм масс, выставки достижений народного хозяйства, советские фильмы, советские праздники. Ей удалось устроиться в журнал «Revue de Moscou», лживое пропагандистское издание, обращенное к французским читателям, сочувствующим СССР. Ариадна писала в нем восторженные статейки о стране советов на французском языке и еще переводила чужие опусы, столь же правдивые и содержательные.
Здесь она встретила свою первую и единственную любовь, Самуила Гуревича, которого она называла Муля. (Попутно отмечу склонность к сюсюкающим уменьшительным, – дурной вкус, – унаследованную Ариадной от бабки, матери Цветаевой: Муся, Ася, Аля, и вот – Муля). «Муж, который даруется единожды в жизни, да и то не во всякой», – восторгалась Аля. Формально Муля был мужем другой женщины, от которой имел ребенка, но ради Али собирался оставить семью. Они даже уже сняли квартиру.
Счастливая Аля посылала во Францию радостные письма о том, как замечательно живется ей в стране свободного труда и как уверенно она смотрит в будущее. Эти письма ее отец публиковал в своей газете.
В это время он уже возглавлял тайную группу таких же как он шпионов-любителей, выслеживавших людей, которых впоследствии похищали и убивали. Он получал в НКВД регулярную зарплату, гордился своими заслугами перед родиной и тоже уверенно смотрел в будущее. Восхищалась отцом и Ариадна.
Уже пройдя лагеря и ссылку, пожилой женщиной, она нередко с удовольствием рассказывала поклонницам Цветаевой о том, как еще ее дед по отцу, Яков Константинович Эфрон, состоявший в молодости членом «Народной воли», принимал непосредственное участие в казни провокатора, проникшего в ряды организации. Впоследствии, правда, выяснилось, что это очередная выдумка не то Эфрона, не то Цветаевой, и что Яков Эфрон провокатора не казнил; но дело не в этом, а в том, какой способ обычно избирался «народовольцами» для казней.
Приговоренного заманивали в западню, нападали целой толпой и безоружного резали, душили, били камнями по голове, пока он испускал дух. Нередко жертвой оказывался вовсе не доносчик, а человек, разочаровавшийся в революционной идеологии и желавший покинуть организацию, как, например, студент Иванов, зверски убитый нечаевцами.
Было чем гордиться.
Методы, практикуемые группой Эфрона-сына, отличались лишь тем, что заманив в ловушку отступника (не предателя, а бывшего коллегу, отказавшегося выполнять приказы Сталина), нападавшие использовали пистолеты.
Тоже красиво.
* * *
Уверенность Али в будущем была, пожалуй, несколько преждевременной. В 1939-м ее арестовали, опять-таки первой из семьи. Потом была Лубянская тюрьма, допросы и восемь лет лагерей по статье за шпионаж.
Поначалу Аля храбрилась. Свой приговор она считала ошибкой, частным случаем, надеялась на скорое освобождение. Гуревич поддерживал ее в этом убеждении, хлопотал о ней на воле, посылал передачи.
Аля писала ему из тюрьмы, что на стройке она еще сильнее чувствует «волю и ум вождя». (Письмо Ариадны Гуревичу от 1 мая 1941 г. – по книге Белкиной, глава "Алины университеты", стр. 2). Вождь тоже не забывал об Але, то есть, конечно, не о ней конкретно, но о таких, как она, – условия ее лагерной жизни неуклонно ухудшались.
С комсомольским задором Аля первое время перевыполняла норму, не ведая звериной лагерной мудрости, что ударный труд – кратчайший путь в могилу, ибо главное в лагерях – беречь здоровье.
Здоровье на непосильных работах она вскоре потеряла, начались тяжелые болезни, ставшие хроническими. Гуревич, в чьей любви и поддержке она черпала силы, поняв, что такая связь бесперспективна и ставит под угрозу его карьеру, принял решение с ней расстаться. Он, однако, продолжал помогать ей и заботиться о Муре до тех пор, пока его самого не арестовали и не расстреляли.
С большим опозданием Аля узнала о расстреле отца, самоубийстве матери и гибели на фронте брата. Она осталась совсем одна, не зная даже, где могилы самых дорогих ей людей.
* * *
В 1948 году, по окончании срока Але разрешили поселиться в Рязани. Там она устроилась работать в художественное училище на нищенскую зарплату, не позволявшую сводить концы с концами. Ей было всего 35 лет, но молодость у нее уже отняли, надежды на семейную жизнь растоптали; морально и физически она была надломлена. Порой ее охватывали приступы отчаяния, но еще не до конца утратив природный оптимизм, она пыталась найти радость в работе с подростками.
Пастернак, когда-то помогавший ее матери, теперь опекал ее. Благодаря его денежным переводам, она смогла купить свое единственное пальто, – иначе всю зиму пришлось бы бегать в платье и кофте.
Увы, Рязань оказалась лишь короткой передышкой. Всего через год ее вновь арестовали и отправили в Туруханск на вечную ссылку. Там ее ждали морозы за пятьдесят градусов, тяжелая физическая работа по 14–16 часов в день, голод, одиночество, тоска. Она снимала жалкий, продуваемый ветрами угол с клопами, где у нее не было даже матраса. Старуха, владелица дома, сдирала с Ариадны за крышу над головой весь ее нищенский заработок. Если бы не Пастернак, регулярно высылавший ей деньги, может быть, она и не протянула бы до освобождения.
Души слабых людей страдание ломает, обезображивает. Оно сломало и Ариадну, но случилось это позже, как выражаются врачи, отложенной реакцией. В лагерях и ссылке ее душа оставалась прямой, чистой и высокой. Голодная, продрогшая, изнемогающая, она мечтала не о куске хлеба, как герои Шаламова и Солженицына, а о книгах и творчестве.
Она думала о Шекспире и Гете, о стихах матери и Пастернака, которые с раннего детства знала наизусть. В своих несчастьях она никогда никого не винила; ее письма к Пастернаку отличает благородная простота, до которой никогда не поднималась ее мать, всю жизнь захлебывавшаяся в обидах на человечество.
Ариадна по-прежнему верила в величие вождя, который тоже когда-то отбывал ссылку в Туруханске. И все нежнее любила память о своей Марине, которую, как ей казалось, она с годами стала понимать лучше. Она не обладала сильным характером и никогда не решалась взглянуть правде в глаза. Она придумывала мать, как придумывала товарища Сталина, и испытывала благодарность обоим за все, что они для нее сделали.
Она была очень советским человеком и в сказку о Советском Союзе верила свято.
* * *
И все же самую тяжелую правду – правду о себе, Ариадна знала, хотя бежала от нее и пыталась себя обмануть. На допросах в тюрьме, она, испуганная и растерянная, дала показания против отца, подтвердив, что он, как и она сама, являлся французским шпионом. Ее признания, наряду с заявлениями других подследственных, легли в основу его расстрельного приговора.
Много позже, когда протоколы ее допросов всплыли, она оправдывала себя тем, что оговорить отца ее вынудили пытками. Ее рассказы о побоях и пытках были безоговорочно приняты на веру всеми без исключения биографами Цветаевой, ставшими по совместительству и биографами самой Ариадны.
Но Алю не били, этого не понадобилось. Некоторые из ее сокамерниц пережили лагеря и вышли на свободу, они оставили свои воспоминания; ни одна из них не видела следов побоев на Але и не слышала от нее жалоб на истязания. Больше того, одна из девушек, сидевших вместе с Ариадной, уверяла, что Аля как-то пришла с допроса очень довольная и сказала, что наконец она «созналась»!». (М.Белкина. Скрещенье судеб, с.404)
Пытки и побои совершенно не согласуются с общим характером показаний Ариадны, многословных, откровенных, исповедальных, содержащих массу не относящихся к делу житейских подробностей. Их не могли знать следователи, диктовавшие другим жертвам «добровольные признания». Ариадна по собственной инициативе оговорила, кроме отца и других людей, в том числе, и друзей Эфрона, деливших с ним дачу в Болшево, и редактора журнала, в котором работала. Последнего она подозревала во вредительстве на том основании, что в одном из выпусков «Revue de Moscou» была несколько раз допущена опечатка.
К моменту ареста Ариадна уже несколько лет добросовестно «стучала» на знакомых; сначала во Франции, а потом и в Москве. В НКВД у нее имелись кураторы, на которых она ссылалась, давая показания, предлагая вызвать их для подтверждения ее слов. Тех, кто ее допрашивал, она воспринимала, как своих непосредственных начальников. Разве могла она, привыкшая к подчинению, усомниться в их честности и справедливости?
Если бы обожательницы Цветаевой страдали чуть меньшей предвзятостью, они бы без труда поняли то, что случилось с ней в тюрьме на самом деле, ведь все они читали протоколы допросов Ариадны (наиболее полно они приводятся в книге В.Шенталинского «Рабы свободы», глава «Марина, Ариадна, Сергей»). Белкина даже встречалась с ее сокамерницами и записывала их слова.
Те немногие, которые героически прошли через сталинские застенки, никого не оклеветав и не отправив на нары, никогда не осуждали всех тех, кто сломался. Тем меньше прав на это у нас. В сущности, не столь уж значимо: били Ариадну толстым справочником по голове, как она впоследствии утверждала, или только запугивали, – у каждого из нас свой порог страха и мужества. Ясно, что отца она любила и оговорила его против своей воли.
Но понимать характер Ариадны, ставшей главным источников сведений о Цветаевой и ее муже, необходимо для определения степени правдивости, которая закладывалась в фундамент цветаевской апологетики.
* * *