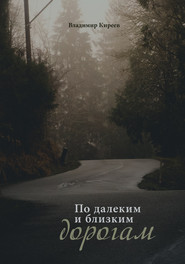скачать книгу бесплатно
Голос у него высокий, хриплый, будто он не откашлялся или долго молчал.
Помолившись о близких своих и о здравии своем, мы покинули храм.
Только когда вышел на улицу, понял, что не напрасно я приехал на
исповедь в самую древнюю церковь Восточной Сибири в день Николая Чудотворца. Совсем не случайность, что ради этого события нам пришлось преодолеть более тысячи километров.
Я подошел к крутому берегу реки. Кеть была покрыта льдом, заметена снегом, и от нее веяло каким-то уныньем. Такой она, наверное, была и 400 лет назад, когда в 1618 году сюда пришел отряд Тобольских казаков во главе с боярским сыном Петром Албычевым и стрелецким сотником, боярским сыном Черкасом Рукиным, возглавлявшими экспедицию с целью проведения дорог к Енисею и Тунгуске и объясачивания енисейских тунгусов, живших на восточном берегу Енисея. В этом же отряде служил подьячим Максим Перфильев, который много лет спустя основал Брацкий острог и первым по Лене и Витиму пришел в Забайкалье.
Казаки из Тобольска по Иртышу спускались до устья, а затем шли вверх по течению Оби мимо современных городов Сургут и Нижневартовск до Нарыма, который стоит в устье реки Кеть. От Нарыма по Кети до Маковского. Сколько километров составлял этот путь, я даже затрудняюсь сказать, но думаю, что не менее тысячи километров.
Из-за недостатка продуктов отряд был вынужден зазимовать на Кети. Они построили небольшой острожек, в котором им пришлось выдержать осаду кетского князя Намака, который был очень зол на непрошеных гостей, вторгшихся в его владения. Но вскоре был вынужден уйти на юг. Острог долго служил укреплением и был экономическим центром на пути к Енисею. Когда-то здесь была судоверфь, жили торговые люди, плотники, кузнецы, ямщики.
Через год этот же отряд основал Тунгусский острог (Енисейск).
В первой половине 17 века в селе была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, из которой мы только что вышли.
Достав из кармана куртки сотовый телефон, я старался снять храм, но снимок всей церкви не получался, для этого нужно было отойти на приличное расстояние, а там уже были сугробы снега. Вариантов не было: в ботинках я зашел в глубокий снег и сделал несколько снимков.
Историческое значение Маковского острога велико, ведь он явился своеобразным «трамплином» к созданию более мощного и долговременного острога на Енисее, а затем и города Енисейска, который стал служить восточными воротами для освоения среднего и верхнего течения реки Енисей, а также дальнейших просторов Восточной Сибири, вплоть до берегов Тихого океана. Отсюда пошли первые пути в Китай и Монголию.
По этому пути пришли крестьяне, которые в первой половине XVIII века из Илимского воеводства расселились вверх по рекам Ока и Ия и создали земледелие в современных Тулунском и Куйтунском районах.
Интересен тот факт, что после победы русских войск над шведами под Полтавой, часть пленных шведов везли этим путем до Илимского и Усть-Кутского острогов, где они работали землепашцами более десяти лет. Также в Илиме отбывал ссылку шведский генерал Канифер.
Прошли годы, Северная война между Россией и Швецией закончилась полным поражением Швеции. В августе 1721 года был подписан Ништадтский мир, согласно которому Россия получила выход к Балтийскому морю и вернула себе исконно русские земли. Швеция потеряла свое влияние в Европе. Петр I был провозглашен императором.
Указом Петра I от 8 октября 1721 года предписывалось освободить шведских офицеров и солдат весною по воде, а генералу Каниферу выделить суда, гребцов, припасы, деньги, проводников и немедленно отправить в Тобольск
Мы приехали в село еще затемно, и в свете фар вдоль главной улицы были видны только ветхие двухквартирные дома советской постройки. Они покосились, сгнили и обветшали. В некоторых уже никто не жил, там не было окон и дверей. А сейчас я увидел, что в селе есть добротные, ухоженные дома, рубленные из лиственницы. Одним много лет, другие построены сравнительно недавно. Дома, построенные до революции, выглядели лучше и благороднее. Невольно возникает непонимание того, что делали в годы советской власти. Сломали и закрыли церкви, а вместо них построили двухквартирные дома, больше похожие на бараки. На большее ума не хватило.
Отец Севастьян жил в доме, который стоял напротив храма. К нему мы подъехали утром. Низенький, аккуратно сложенный из бревен, с уютным палисадником. Домику, наверное, было лет сто. Поскольку село за свою историю ни разу не горело, то некоторые дома сохранились еще со времени их постройки. Рядом стояли такие же небольшие, но основательные избы с маленькими оконцами и кровлями. Для отвода воды к крышам домов были прикреплены желоба, сделанные из распиленных наполовину бревен.
Старец пригласил нас к себе. Мы остановились в нерешительности.
– Если стесняетесь войти, то это напрасно. В дом ко мне все заходят, мои двери всегда открыты.
Он открыл калитку, потом тяжелые дощатые двери, и, пропуская нас во двор, спросил:
– А вы надолго сюда?
– На один день.
– Что так скоро? Поживите. Тут замечательно.
– Нам домой надо. На работу. Хотим сегодня засветло до Енисейска добраться.
– В старину люди пешком сюда ходили. А сейчас на машинах ездят, другое время, это намного легче.
Весь двор по-казачьи был обустроен под одну крышу. Баня, туалет, дровяник и кладовая. Перед входом в дом располагалось невысокое крыльцо из двух ступенек. Мы зашли в дом.
Когда вошли в дом, показалось, что я уже был здесь. В доме инокиня Сусанна, что в переводе с еврейского означает Лилия, готовила обед. Женщина лет сорока, одета в монашеское обличье, смуглое лицо, большие карие глаза. Она приехала в село из женского монастыря с благими намерениями: помогать старцу Севастьяну вести хозяйство в доме. Здесь работников из соцзащиты нет, а ведь многие знают, что в доме, который стоит в селе, работы непочатый край, особенно летом. За огородом нужно ухаживать, забор ремонтировать. Не говоря уже о таких элементарных вещах, как сготовить обед, постирать белье.
Отец Севастьян пригласил нас в свою комнату. Тихо горели лампадки. На стенах – иконы. Фотографии царской семьи. И я подумал, что же открывается его взору из этой крошечной комнатки, ставшей местом духовного притяжения многих людей.
Он стал читать церковное писание, в котором определены грехи наши.
Губы мои будто сами собой стали шептать молитву. Словно какой-то нарыв прорвало. Я не искал слова, они приходили сами. Сейчас, когда я пишу это, мне уже не удается вспомнить те слова, вернуть то состояние. Помню только, что будто увидел себя со стороны и жизнь свою увидел, грешную и бестолковую, в которой было столько показного, ненастоящего, столько суеты и пустых слов, хождения в потемках, самомнения.
Потом старец пригласил нас к столу. Мы разговорились. Оказалось, что игумен Севастьян приехал в село семь лет назад из Енисейского монастыря. Раньше он служил в Кемерово, потом в Киселевске и 16 лет в Енисейском монастыре. Повидал он на своем веку немало, много где бывал, но лучше места, чем здесь, в Маковском, еще не встречал. Как долго пробудет здесь? А Бог его знает. Может быть, останется навсегда.
Услышав про Кемерово, я обрадовался:
– Батюшка, а я из Мариинска. Там у меня мать и старшая сестра живут.
– Да! – удивился он. – Я знаю этот город. Я служил там, правда, недолго, пока священник был в отпуске. А так я служил в Кемеровской епархии.
Он замолчал, задумался, а потом, как бы спохватившись, засмеялся и громко произнес:
– А сюда только вертолетом можно долететь.
– А вертолет к вам часто летает? – спросил я.
– Два раза в месяц. Для всех жителей это праздник. Мне письма привозят от людей со всей страны. Другим пенсии, третьим водку. Ведь пенсию на что-то нужно тратить. Вот и веселится село до следующего рейса с «большой земли».
– Батюшка! – обратилась к старцу Надежда. – Если Вам плохо здесь, поедемте к нам в Тулун. Там дом купим. Жить будете хорошо и в достатке.
Отец Севастьян внимательно выслушал, по-детски улыбнулся и сказал:
– Спасибо вам за предложение. Вы знаете, что я хочу вам сказать. По всему видно, вы добрые люди, но поймите меня. Много ли человеку в жизни надо? Дом у меня есть, храм через дорогу. Хожу на службы. Встаю рано – не спится, иду в церковь, печи топлю, чтобы прихожанам тепло было на службе.
А искушения, они есть везде.
Сусанна рассказала нам, что накануне в деревню заявился медведь-шатун. Рядом заготавливают лес, вот и разбудили хозяина тайги. Зашел во двор, разорвал собаку. Глава местной администрации Александр Ефимович Земляной сообщил по рации в полицию. Приехали полицейские из Енисейска на «УАЗике». Проехали по деревне, медведя не видно. Уже собрались уезжать. Тут к ним подошел отец Амвросий.
– Я на службу боюсь ходить, он вчера рядом с храмом бродил, того и гляди, что набросится. Он же голодный.
Полицейские остались и почти сутки дежурили в поселке, разъезжая по его окрестностям. Вечером следующего дня шатун вновь появился в поселке, где и был застрелен.
Также Сусанна рассказала нам, что в настоящее время население здесь живет за счет охоты, рыболовства, сбора дикоросов, пчеловодства. В селе имеется начальная школа, в которой учится с десяток школьников. Люди живут сейчас здесь не местные, без корней. Часть из них приехала в советский период по распределению, другие – по оргнабору в химлесхоз, третьи – ссыльные. Раньше жило много староверов.
Связь села с районом – летом только вертолетом, да по рации.
– Угощайтесь, – приглашал отец Севастьян, предлагая жареную рыбу в чугунной сковороде, покрытую бронзовой корочкой, – мясо нам нельзя, а вот рыбу, пожалуйста, кушайте.
– Батюшка! – спросила Надежда. – Пост ведь идет. Нам можно рыбу есть?
На что старец улыбнулся и, подняв на нее глаза, строго сказал:
– Конечно, можно, сегодня большой праздник. А вообще, я вам так скажу, ешьте, что угодно, главное, не ешьте друг друга.
Мы сидели за столом, разговаривали. Надежда спрашивала отца Севастьяна о своем, жена моя, Лилия, интересовалась тоже житейскими делами. Я отвлекся в разговоре с Александром и уже не помню, о ком шла речь, только услышал, когда Надежда сказала:
– Ну он же хороший человек, батюшка.
На что старец ответил:
– Добрым людям в России всегда нелегко живется.
Сегодня я часто вспоминаю эти слова, сказанные тихим, но твердым голосом, и они, безусловно, отражают нашу реальную действительность.
Мы с Александром вышли во двор. К нам подошел мужчина в суконной куртке, без шапки, с бородой, в зимних сапогах. Его я видел в храме, это он говорил о благодати. Познакомились. Нашего гостя звали Валерий. Он спросил, здесь ли отец Севастьян?
Александр ответил утвердительно.
– Вы чем занимаетесь в деревне? – полюбопытствовал я.
– Я пустынножитель, – смущенно улыбаясь, сказал он.– Ну, то есть я веду…, – и он замялся.
– Аскетический образ жизни, – подсказал я.
– Да! Да! – обрадовался он, что нашелся правильный ответ.
– Я не живу здесь. Я пришел сюда помолиться и подлечиться. Простыл я. Я живу в Ворожейке. Это 50 километров вниз по реке. Деревня, брошенная людьми, а дома стоят целые, заходи и живи. Даже церковь сохранилась, хоть и заброшена. Только пока никто туда не едет. Живу один в деревне.
– А чем занимаетесь? – спросил я.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: