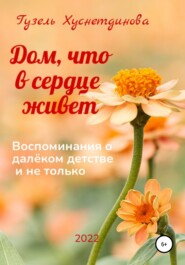скачать книгу бесплатно
После доения молоко для чистоты процеживается через несколько слоев марлевой ткани и начинается вечерний ритуал: нам наливают снова по кружке теплого молока.
Пишу сейчас об этом и мечтаю о таком напитке!..
Татарский чай
Чай татары пьют часто, как правило, черный и обязательно с молоком, особенно в деревне. На моей памяти, "без молока" могли попросить разве что городские гости, это не осуждалось, но воспринималось, словно какой-то "неполноценный" чай. Более того, по наличию или отсутствию молока в чае нередко могли судить об уровне жизни той или иной семьи: у каждого уважающего себя селянина есть корова, за исключением немощных старух, а если нет – значит, не могут себе позволить. Сейчас, конечно, пьют всякий чай – и с молоком, и без.
Чай пьют и отдельно, и могут завершать им прием любой, более плотной, пищи. Когда в дом кто-то приходит, даже если этого человека не звали заранее или он зашел случайно, не говоря уже о приглашенных гостях, у татар принято ставить чай – не важно, какое это время дня. Отказаться или принять угощение – дело ваше, но только жадный и невежливый хозяин не последует этому правилу – по крайней мере, так было раньше. И что бы ни было к столу, пусть даже готовый обед или ужин, без чая в конце не обходится. Даже плотный обед обычно запивают не компотом или чем-то в этом роде – только чай (если только дело не происходит в летнюю жару).
Татарское чаепитие – это небольшой, но ритуал, во время которого ведутся основные разговоры, с теми же гостями, например. Поэтому напитком с конфеткой или сахаром, как принято у некоторых, здесь не обойтись: принято подавать хотя бы бутерброды, блинчики или пирожки, кто чем богат. В деревне обычно с чаем едят хлеб с деревенскими густыми сливками или маслом (если гостей не ждали специально и не приготовили выпечку), мед или варенье, сладости или некоторые национальные пироги. Есть еще одна кажущаяся другим забавной особенность: татары, особенно пожилые, могут пить чай из блюдца. Из чашки наливаешь в блюдце, особым образом захватываешь его пальцами снизу или сбоку и пьешь уже из него – так быстрее остывает. Мне этот навык привычен с детства, хотя теперь я его использую редко, и он напоминает мне что-то очень родное.
Что такое «кыстыбый»?
Раз уж мы плавно перешли к еде, скажу о ней тоже несколько слов. Большинство блюд татарской кухни состоят из теста, мяса и картофеля. Царь любого застолья, особенно праздничного – бялеш (с ударением на последнем слоге, как и большинство других татарских слов): большой, на всю сковороду, пирог с мясом, картошкой и луком. Особенно вкусен бялеш из печи, но его можно печь и в духовке. Также у татар популярны учпочмаки или перемячи – треугольные или круглые пирожки на дрожжевом или пресном тесте, тоже с картофельно-мясной начинкой, есть кыстыбый – картофельное пюре в лепешке, сложенной пополам, сладкий чак-чак – кусочки теста, сложенные горкой и залитые медом или сахаром…
Но основное блюдо татарского застолья, особенно в деревне – суп. Очень простой, на мясном бульоне, с добавлением картофеля, моркови и лука, иногда – капусты. Особенность в том, что овощи режутся крупно: например, даже большая картофелина или морковь – всего на 2-3 части, капуста – на четвертинки, и после варки в бульоне выкладываются на отдельную большую общую тарелку, вместе с нарезанным на кусочки мясом или отдельно. А в бульоне, который разливается, как обычно, каждому по тарелке, обязательно должна быть домашняя лапша. Высшим пилотажем считается умение нарезать ее тонко – с непривычки она получается толстой и неровной. Сноровка приходит со временем. Есть даже мастерицы этого дела. В прежние времена, говорят, свекрови обращали особое внимание на то, как новоиспеченная невестка управляется с нарезкой лапши, и если она делала это хорошо, значит, умелая хозяюшка.
Сейчас я редко режу лапшу, да и в деревне нередко ее заменяют готовой вермишелью, но настоящий татарский суп без нее представить невозможно. Для меня это и одно из самых дорогих воспоминаний детства. Приезжая в гости к бабушке с дедушкой, мы сначала мылись в бане, а потом собирались за большим столом в гостиной на только что сваренный суп. Дедушка обязательно ел деревянной ложкой, говорил, что так удобнее – действительно, она не пропускает жар, как обычная железная, от нее не обожжешься. К супу почти всегда подавался катык – домашняя кислая простокваша. Она и охлаждает горячий суп, и придает ему кисловатый вкус, и облегчает пищеварение. Катык вкусен и сам по себе. Его можно есть просто так, с медом, сливками, иногда в нем настаивают нарезанную кубиками вареную свеклу, и получается розовый катык с оригинальным вкусом. А в жару из катыка делают айран – просто разбавляют большим количеством холодной воды. Хорош айран и после бани.
К слову, о распространенном в ресторанах экзотическом блюде "азу по-татарски" (сырой фарш с сырыми яйцами) многие татары слыхом не слыхивали, такого в татарской кухне нет вообще. Как я уже говорила выше, основу национальной кухни татар составляют тесто, мясо и картофель, и все обязательно отварное или пропеченное.
Бабушки в платочках
Иногда к бабушке приходили подруги, чистенькие старушки в платочках. Тогда пожилые татарки носили платки двумя способами: как косынку, сложив вдвое треугольником и завязав под подбородком, либо завязывали так же под подбородком два конца более узкой стороны платка, опустив остальную часть полностью на спину. Последний вариант считался более праздничным: одна из моих бабушек, по папиной линии, часто наряжалась на праздники именно так. Платок брался самый яркий и нарядный, с большими розами на зеленом, например, фоне, и, по возможности, с люрексом. А дома часто платок завязывали просто треугольником, но не под подбородком, а собрав все три конца на затылке.
Кстати, у меня с детства есть привычка: когда готовишь еду, обязательно повязывать на голову платочек – из гигиенических соображений, чтобы в еду при готовке, не дай бог, не упал волосок. В последнее время делаю это не всегда, но в гостях у родственников в деревне или при готовке национальных блюд, например, когда режу лапшу, то рука сама тянется за платком, без него "картина" кажется неполной.
Жаль, нарядных бабушек с платочком, распущенным по спине, теперь почти и не увидишь – более молодое поколение бабушек либо убирает волосы под платок на мусульманский манер, либо просто надевает платок обычно треугольником или обходится вовсе без него. Честно говоря, я скучаю по этим бабушкам из своего детства. Они обычно надевали цветистое длинное платье (именно платье, а не отдельный верх и низ, юбки носить было не принято), иногда под него широкие такие же цветистые штаны или простые чулки, сверху – кофту. Одно время особенно почитались однотонные, зеленые или фиолетовые, индийские кофты с аккуратной маленькой вышивкой, считающиеся из-за хорошего качества особым шиком. А на плечи и спину ниспадал тот самый нарядный платок. Так и ходили в гости или на традиционные праздничные ужины.
Умею почти все!
Однажды я просто из интереса решила сосчитать, какую деревенскую работу умею делать, и оказалось, что почти все. Никто меня специально не заставлял и не обучал, получалось просто как удовольствие, развлечение за компанию с мамой или бабушкой, но в итоге это принесло свои плоды. Я собирала со взрослыми колорадских жуков (пальцами брезговала, поэтому срывала вместе с листом, на котором они сидели, и бросала в банку со специальной жидкостью). Помогала маме полоть грядки, красить дом, забор, а однажды даже крышу – помню, как катала валик с серебристой краской по железному звенящему настилу. Толкла специальным инструментом на длинной палке с железной острой "трехножкой" снизу свекольную ботву и прочую зелень для кур, приносила воду из колонки через дорогу… Работой нас особо не нагружали, что-то, возможно, я пробовала всего раз, но навыки остались.
Как-то мы с мамой, взяв старое ведро и надев резиновые перчатки, ходили собирать по деревне лошадиные лепешки – так я узнала, что печку сперва смазывают глиной с добавлением этих самых лепешек, и только потом набело известью, потому что так ровнее ложится и крепче держится. Такая вот народная хитрость. Причем, эта смесь совершенно не пахнет – по крайней мере, когда печь обмазана и высохла, никаких характерных "ароматов" нет.
Умею я также ощипывать курицу. Работа не очень сложная, скорее, неприятная – зарезанную курицу кладут в таз и сначала обдают кипятком, чтобы перья легче отходили, и она очень своеобразно пахнет. Одни части ощипываются легче, чем другие. Потом обязательно вынимают внутренности. Теперь можно разделывать и готовить. Остатки пуха на коже опаляют над открытым огнем. Я не очень боялась убитых кур, но самой резать их никогда не решалась, хотя в деревне, если, например, нет рядом мужчины, это изредка делали и женщины. Никто не ужасался, вопрос был только в том, боишься это делать или нет. Приехали уважаемые гости – надо сварить суп: хозяин или хозяйка идут ловить курицу, обычное дело. В деревне ко многим подобным вещам относятся проще.
Кур у нас во дворе было в среднем около десяти, встречались не только белые, но и рыженькие, и "чернушки", и пестрые. Когда я выбегала их кормить, просто сыпала зерно прямо на землю, и они быстро сбегались и шустро начинали клевать свою еду. Еще я очень любила ходить по просьбе бабушки в курятник и искать на насесте в соломе яйца – запускаешь руку в "гнезда", ищешь на ощупь и радостно вынимаешь еще теплые яички – одно, два, а то и три! – складываешь их ковшик, а то и просто на подвернутый подол, и несешь домой. Конечно, деревенские яйца в мешочек с "городскими" не сравнить! Особенно вкусны в курином супе нежные желтые шарики – желтки яиц, которые курочка еще не успела снести. Их подают вместе с печенкой, сердцем и желудочком – я все это тоже обожаю.
Овечья "парикмахерская"
Еще мне почему-то запомнилась стрижка овец. Тоже мама делала, а я рядом была, и мне сунули в руки ножницы, чтобы попробовала. Мне понравилось. Овцы были лохматые, пушистые и грязно-серого цвета, их аккуратно связывали за ноги и клали на землю, и с помощью особых ножниц тонкими прядками состригали с них шерсть. Им не было больно: некоторые, правда, брыкались и пытались сбежать, но другие, убедившись, что им ничего не угрожает, лежали спокойно. После стрижки, ставшие трогательно худенькими и белыми, овцы и барашки резво убегали к своим сородичам. В каждом дворе обычно бывало от трех-четырех до десяти-пятнадцати овец. У нас, насколько помню, семь или восемь.
Состриженную шерсть сначала чистили и особым образом вычесывали, она оставалась грязно-серого или темного цвета и своеобразно пахла. Вечерами бабушка садилась за самодельную прялку, являвшую собой обычный стул со спинкой, к которой вертикально привязывалась палка. Шерсть укреплялась за палку на уровне головы или чуть выше сидящей рядом прядильщицы, чтобы ей было удобно, а та вытаскивала из облака шерсти кончик, и дальше дело для деревенской хозяйки того времени привычное: двумя руками кончик потихоньку растягивался все длиннее, а пальцы в то же время формировали из него нить. Нить наматывалась на веретено. Я тоже пробовала прясть: правда, у меня нить выходила с непривычки кривая и неравномерная, местами толще, местами – уже, а у бабушки она была всегда ровной. С веретена нить снимали в виде мотков примерно в полметра каждый, потом хорошенько стирали. Не раз я держала закрепленный на двух согнутых в локтях руках моток, а бабушка сматывала из него нитки в тугой клубок. Из него зимними вечерами вязались уже беленькие (или темные, в зависимости от цвета шерсти овцы) носочки. Обычно однотонные, но иногда мастерицы добавляли в вязание цветные нитки, и тогда носки получались с узорами, нарядные. Другие предметы одежды бабушки в деревне обычно не вязали: в основном, только носки и варежки.
Про казан с чабрецом
Одно из ярких детских воспоминаний – баня. Думаю, татарская баня очень схожа с русской: как правило, она состоит из предбанника, где обычно раздеваются и где стоит скамейка и установлены крючки для одежды на стене, и непосредственно самой бани, где находится печь, рядом с которым – деревянный полок, на который влезают и парятся. У окна часто ставят длинную низкую скамейку, где стоят тазы, там также сидят те, кто не любит жар.
Татарскую деревню невозможно представить без бани: она есть в каждом дворе, исключение составляют разве что очень старенькие бабушки, которым некому ее построить или нет для этого средств. Во времена моего детства пожилых одиноких женщин нередко приглашали попариться соседи или подруги – пусть старушка порадуется: даже если у той есть собственная баня, зачем ей лишний раз топить самой? Этой доброй традиции некоторые следуют по сей день.
В растопке бани есть свои премудрости: в определенный момент необходимо убрать заслонку в печи, чтобы весь дым ушел наружу. (В 80-е изредка встречались и так называемые старые, "черные" бани, где дым шел прямо в саму купальную комнату, но они были только у малоимущих – в основном, уже все строили обычные, "белые").
Когда баня почти готова, кто-то из семьи, обычно хозяйка, идет туда и моет пол и запаривает веник, кладя его в таз или корытце и залив горячей водой. У дедушки Алтафа висели в специальном сарайчике целые колонны веников – за ними в определенное время года специально ездили в лес. Есть особенности в вязке веников, в рубке веточек – чтобы сильно не повредить деревья. В татарской деревне в основном пользуются березовыми вениками.
Бабушка Сайра в теплое время года заваривала свежий чабрец в специальном чугунке у банной печки – аромат оттуда шел невероятный, а саму воду использовали для полоскания волос. До сих пор скучаю по этому запаху.
Сам поход в баню – тоже целый ритуал. Сначала идут те, кто хорошо переносит жар – в основном, мужчины (хотя были и крепкие старушки-родственницы или соседки, которые предпочитали такую температуру). Затем – по очереди остальные: мужья с женами (каждая семья, понятно, отдельно), группами "девочки" разного возраста или "мальчики". Специального правила на этот счет нет.
Иногда брали с собой катык, деревенскую простоквашу. Ею хорошо обмазать волосы, как маской, некоторые даже используют ее вместо шампуня, равно как и слегка взбитые яичные желтки – все это считается очень полезным и на удивление хорошо промывает голову. Хотя с давних пор, а тем более теперь, в бане обычно стоят мыло, шампуни, и народными средствами мало кто пользуется, разве что изредка и ради "экзотики".
Когда мы были маленькими, нас укладывали по одному на полок и обтирали веничком, бабушка даже приговаривала какие-то стишки, суть которых сводилась к "расти большой и здоровой!". И было принято сначала бить веником ступни: считалось, так "слова врагов остаются под ногами".
У моей другой бабушки, Минджихан, баня была скромнее, и она топила ее нечасто – в основном, когда приезжали в гости мы. Нэнэй жила одна, поэтому обычно ее приглашали в баню соседи. Помню, как бабушка шла домой из бани, распаренная, во всем чистом, по пути развесив во дворе на веревке свои только что выстиранные вещи, и они сохли на свежем воздухе.
«Мясные» традиции
Еще одно "мероприятие" в деревне моего детства – заклание крупного животного. Делается это обычно зимой, когда родившийся весной теленок подрастает и становится довольно раскормленным. Безусловно, зрелище жестокое и в буквальном смысле кровавое, но в селе является делом привычным, поэтому никого особо не пугает. Занимаются им обычно мужчины. Опустив подробности, скажу лишь, что действие должно совершаться правильно, согласно определенным, в том числе, религиозным нормам – только тогда мясо считается годным для употребления. Детям стоять рядом не разрешают, но и жесткого запрета нет, особенно мальчикам. Я однажды случайно подсмотрела, и, признаться, мне до сих пор не по себе, но так уж вышло, что все равно мясо ем по сей день. Животное жаль, это непередаваемо, но в деревне к этой ситуации несколько иное отношение: в первую очередь, это большое, сложное и необходимое дело, да и все понимают, что скот растят изначально именно с этой целью. Так уж вышло, что мясо, которое многие из нас любят, "добывается" именно так и не иначе, и кто-то должен этим вопросом заниматься.
Женщины бывают задействованы во второй части этого процесса, а именно: моют внутренности животного. Обычно воды нужно много, она может быть довольно холодной, а промывать нужно очень тщательно, по многу раз споласкивая, поэтому дело это непростое. Часто в помощь приглашают родственниц или соседок. Я тоже несколько раз участвовала в этом деле. В эти дни обычно готовят бялеш – пирог с картошкой луком и мясом или нарезанными кишками. Иногда внутренности просто выбрасывают.
Есть еще одна татарская традиция – в самом начале зимы, когда режут всех дворовых гусей, женщины собираются на специальное занятие – ощипывание птицы. У этого праздника есть даже специальное название – "Каз омэсе" ("гусиный праздник"). Раньше это был особый ритуал: собирались большие посиделки, пели песни, рассказывали интересные истории, готовили стол. Молодые люди присматривали себе невест. Но теперь, насколько я знаю, осталась только работа и застолье для гостей. Нужно ощипать птиц, промыть их и убрать мясо на зиму. В это же время готовится и популярная у многих татар закуска – вяленый гусь. Промытую и выпотрошенную птицу натирают большим количеством соли, накрывают и подвешивают коптиться на несколько недель в темном и прохладном месте – на чердаке или в чулане. Чем жирнее гусь, тем он вкуснее. Его едят и в сыром, и в вареном виде.
А раньше, говорят, на подобную общую работу собиралась разом почти вся деревня. Например, если кто-то строил дом, ему помогали все соседи. Под большую работу – например, поднять стены дома – приглашали односельчан специально, а потом угощали их. Жаль, теперь таких хороших традиций почти нигде не осталось.
Бабушкины молитвы
Татары – по вероисповеданию мусульмане. Отношение к религии в нашей семье всегда было спокойное. Это была часть жизни – но, в основном, пожилых людей. Моя бабушка Сайра была дочерью муллы, парадоксальным образом ставшая первой комсомолкой в деревне. Не могу назвать ее особо религиозной, по крайней мере, поклонов Аллаху никто в доме не бил и о вере громко не кричал, афишировать такие вещи было не принято. Но хорошо помню несколько случаев.
Как-то я, ученица начальной школы, приехала в гости к бабушке и, увидев у нее в серванте молитвы, напечатанные на красочной бумаге, заявила со смехом: "Ты что, бабушка, не знаешь? Бога же нет! Нам в школе так говорили!". Энкей была обыкновенной женщиной, не хочу ее наделять какой-то особой мудростью, но ответ ее запал мне в душу и потрясает до сих пор: "Кызым (дочка), ты пока не говори про Аллаха ничего – ни что он есть, ни что его нет. Когда вырастешь, все поймешь сама, и тогда уже скажешь точно". Благодаря бабушке я знаю несколько молитв. Когда я гостила у них, то обычно спала с ней в одной кровати, и перед сном бабушка всегда читала наизусть несколько коротких дога, иногда приговаривая: "Ты тоже старайся повторять за мной и заучить. Если читать молитвы на ночь – будешь спать спокойно и приснится только хорошее". Признаюсь: я не запомнила тогда ни одной молитвы, но спустя годы, когда бабушки самой уже на свете не было, невероятным образом узнала одну, которую энкей читала чаще всего, и все-таки выучила ее. Для меня это еще и память о бабушке. Она же разъяснила мне, что висящая у нее на стене "Аятель Курси" – самая главная и важная мусульманская молитва, и с тех пор я отношусь именно к этой части Корана с наибольшим уважением. Вот так семена, когда-то посаженные когда-то бабушкой, дали ростки уже в моей взрослой жизни.
К религии меня активно не приобщали, это делалось очень ненавязчиво, и никогда не преподносилась как некая обязанность. (Возможно, потому что Башкирия, о которой я рассказываю, в советское время жила так же, как и весь Союз, и вера, даже если у кого-то и была, особо не выпячивалась – в отличие, например, от более отдаленных регионов, где мусульмане соблюдали религиозные предписания давно и более серьезно). Да, видеть дома читающих намаз или держащих в руках четки стариков было явлением привычным, но не более того. Мусульманский пост – уразу тоже если и держали, то обычно пожилые люди. Если кто не знает, ее особенность в том, что пищу принимают только до рассвета и после захода солнца, днем нельзя даже пить. Духовный смысл уразы, как утверждают религиозные источники – в том, чтобы человек мог на себе испытать долю неимущих, которые не могут есть и пить вдоволь в течение дня, и быть благодарным Всевышнему за то, что у него самого есть возможность хорошо питаться. Также пост нацелен на духовное воспитание, ведь во время уразы верующий должен воздержаться от сквернословия, дурных поступков и т.п.
А вот дедушка Алтаф был атеистом. Сейчас модно "вспоминать" о неистово верующих родственниках, но я не хочу отклоняться от правды. Мой дед всю жизнь считал себя коммунистом и в Аллаха, насколько я знаю, особо не верил, хотя не припомню случая, чтобы он отрицал Его существование. Он вообще эту тему не затрагивал. При этом был очень добрым и хорошим человеком, любил детей. А в день похорон дедушки из-за туч внезапно засветило яркое солнце – говорят, так бывает только при уходе очень светлых, духовных людей…
Пышки, оладьи и хлеб
В теплое время года печь в доме топили обычно только в день, когда пекли хлеб. В этом тоже была для нас, детей, особая радость ожидания: обычно вместе с хлебом, который сам по себе хорош, бабушка закладывала в печь и яблочный пирог или пекла на золотящихся углях от сгоревших поленьев пышки, которые у нас называются кабартма или кольчэ. В отличие от жаренных на плите, они имели совершенно особый вкус, поэтому мы ждали их с нетерпением.
Пироги у бабушки тоже были своеобразные: на обычное тонко раскатанное тесто выкладывались самые обычные нарезанные яблоки с сахаром, все это накрывалось сверху другим платом теста, и все это защипывалось. Иногда выпечку смазывали яйцом для блеска. Это были самые простые пироги, но секрет в том, что их пекла бабушка, притом в печи, и это часть детства, потому они помнятся как одни из самых вкусных и любимых лакомств. Точно так же, как бабушкины оладьи: почему-то я больше нигде таких вкусных не ела. Рецепт самый обычный: кдеревенской простокваше бабушка добавляла несколько яиц, соль, чуть сахара, пищевую соду и муку, чтобы получилась густая смесь, выдерживала это тесто с полчаса в тепле под салфеткой и жарила на смазанной растительным маслом или животным жиром сковороде на обычной газовой плите. Ждала, когда низ у оладий подрумянится, а верх схватится и вздуется пузырьками, и переворачивала. Оладьи получались кругленькие, с одной стороны коричневые и плоские, с другой – светлые и с дырочками. Когда они были готовы, их купали в растопленном сливочном масле и подавали на стол. Я иногда пекла их под руководством бабушки сама, и сейчас делаю по памяти, – правда, заменяя деревенскую простоквашу (за ее неимением) обычным кефиром. Получается очень похоже, чем несказанно горжусь. И это тоже память о бабушке.
В день, когда пекли хлеб (это случалось примерно раз в неделю и прикидывалось заранее), бабушка с утра занималась тестом. Нужно было смешать продукты, несколько раз довести тесто до нужного объема, очень долго и не раз его месить, потом разложить по специальным железным формам и дать отстояться. В то же время топилась и доводилась до нужной температуры печь (понятно, что это определялось не градусником, а на основе опыта). Сгоревшие угли из печи выгребали, и в нее друг за другом с помощью кочерги отправлялись будущие буханки. Все это накрывалось заслонкой и пеклось несколько часов. Выпечка хлеба занимала как минимум полдня. Готовые румяные буханки доставали, вынимали из формы и смазывали иногда маслом, накрывали полотенцем и ждали их остывания. А мы, едва дождавшись момента, когда хлеб можно было уже взять в руки, просили нарезать горбушку, намазывали ее деревенской сметаной и свежим медом и наслаждались неповторимым вкусом. Пишу сейчас эти строки и понимаю, что вполне четко помню этот вкус и очень хочу снова его ощутить…
Моя первая подружка детства
Между нашим участком и хозяйством Миннисы тэй стоял небольшой дом Рэйфы тэй – бабушки моей лучшей подружки детства Лейсан. Райфа тэй была доброй и общительной, и у нее всегда в кармане водились конфеты. Если она встречала на улице какого-то ребенка, то непременно его угощала. В их доме благодаря своей подружке я бывала не раз. Муж Рэйфы тэй давно умер, она жила одна. И была довольно строгой бабушкой: моя подружка, приезжая к ней в гости, была всегда занята делом: то воду таскала в дом с улицы, то полола грядки, то убиралась дома. Играть она могла только в свободное время. Но мы все равно успевали встречаться и проказничать.
В раннем детстве у нас с Лейсан даже пальто были одинаковые, синие, но была у нее одна вещь, которой никогда не было у меня – вязаная "косынка". Это такая шапочка с завязками на подбородке, а на затылке у нее свисает бахрома. Помню, заходит она в наш двор и кричит во весь голос: "Гузеля!"– значит, зовет гулять. Тогда мы, дети, почему-то вызывали друг друга именно так, криком со двора.