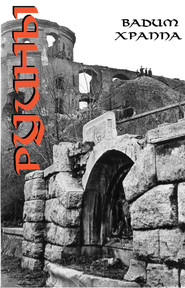скачать книгу бесплатно
– Эй! – крикнул Тюрин. – Вы там пошевеливайтесь! Может, перед подъемом еще погреться успеем.
«Какая, к черту, разница!» – подумал Ясюченя, но работать стал быстрее.
Вышли молодые москвичи из карантина и тоже стали убирать снег. Неуклюже, еле ползая.
– Скорее бы салаг до нас прислали, что ли… – сказал кто-то. – Все-таки полегче будет.
– Говорят, их не будут раскидывать по ротам. Так и оставят – молодую роту.
– Откуда ты знаешь? – спросил Ясюченя.
– Говорят…
– Что же, мы так и будем въебывать до конца?!
– Хреново, – сказал Говор. – Мне нужна хорошая шапка.
– Пойди, да сними.
– Там за ними смотрят. Я думал, когда в роту придут, заберу.
– Насрать мне на твою шапку! – сказал Ясюченя. – Что же, мы так и будем, до дембеля, на полах заезжать?!
– Да чего ты ко мне-то прицепился? Пойди к комбату, скажи ему, что не хочешь заезжать. Может, послушает.
– Еби твою в душу мать! – сказал Ясюченя.
– Надо будет на работе у них шапки посдирать, – сказал Говор. – Я знаю, где они работают. В обед сходим.
– Тебя потом ёный старшина здярот…
– Это Гулый?! Пошел он к ебени матери. Я ему на голову потом кирпич скину.
– Гляди, они уже в роту пайшли.
Иванов и Тюрин пошли в казарму, а Козий потоптался возле двери, но зайти не рискнул, а встал на веранде, закурил и стал ждать остальных.
– Давайте быстрее, да тоже пойдем, – сказал Ясюченя.
Снега оставалось немного, и они его быстро убрали.
Ясюченя дальше сушилки не пошел, а сел в угол, зарывшись в бушлаты. До шести оставалось минут тридцать, и можно было поспать. Здесь, в сушилке, Мамедов не сразу его найдет и, может, сам свою койку застелет.
Ясюченя уснул мгновенно, и тут же:
– Подъем!!!
Он встрепенулся, но вовремя вспомнил, что вскакивать не нужно, и только еще плотнее вжался в бушлаты. В казарме затопали.
– Рота, отбой!!! – вдруг резкий голос Саидова, от которого у Ясючени стало холодно в животе.
Топот, и все стихло.
– Подъем!!! – тот же голос.
Топот.
– Отбой!!!
Ясюченя знал, что сидящего в сушилке это не касается, но все равно было страшно. От такого подъема можно ждать чего угодно. Правда, больше часа это не продлится – опоздают на завтрак и на работу. Но – страшно. И никуда от этого страха не деться. Это очень страшно – услышать резкий, с чеченским акцентом, злобный голос Саидова.
– Что, суки, окабанели?!! Я вас научу, блядей, подниматься!!!
– Подъем! Засекаю время. Сорок пять секунд. Кузьмин, тебя что, падла, это не касается? В санчасть иди со своими ляжками! Если не положат, будешь прыгать у меня, пока не издохнешь! Тюрин! Ты что там свое рыло кривишь? Меня это не ебёт! Сюда иди! Отбой! Подъем! Отбой! Подъем! Отбой! Рота, подъем!
Топот.
– Становись! Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Смирно!
– Черныш! Ты что, ебаный потрох, стоять не можешь?!
Глухой удар и грохот опрокидываемых табуреток.
– Сгною на полах, ублюдки!!!
В сушилку зашел Кузьмин. Взял бушлат, надел валенки и вышел.
– Так ты что, сволочь, стоять не можешь?!! Поправь табуретки! По ниточке! Бегом, скотина!!!
Удар. Грохот.
– Поправить табуретки! Я вас научу, блядей, подниматься! Окабанели!!! Умываться! Через пять минут построение на улице. Что б постели были, как кирпичики. Что б углами масло резать можно! Проверю! У кого помято – выебу и высушу! Сгною на полах! Тюрин, я тебе, сучий потрох, ведро подпишу! Будешь у меня, пока на дембель не пойду, на пола заезжать! Разойдись! Ногаев! До завтрака – строевая подготовка. Всей роте!
Через несколько минут последние призывы топтали по периметру плац.
Ногаев сам замерз и держал руки в карманах бушлата, но выкрикивал команды тонким голосом, ругался и делал зверское лицо, подражая Саидову. Два раза он ударил Толстика, и у того по подбородку текла из носа кровь. Досталось и Ясючене. Ногаев пнул его в зад и попал сапогом по кобчику. Ходить было больно и трудно.
– Выше ногу, ублюдки! – вопил Ногаев.
Голос у него был гадкий, бабий, срывающийся на фальцет. Он все время норовил съездить кому-нибудь по носу – ему нравилось, как идет кровь, и целил именно в нос, но все это знали и старались вовремя увернуться. Не трогал он только ноябрьских – им вообще было полегче – и Иванова с Тюриным. Он у себя в Дагестане занимался какой-то своей национальной борьбой и, когда узнал, что Иванов дзюдоист, предложил побороться. Иванов отказывался, но Ногаев пригрозил, что устроит на полночи «подъем-отбой». Иванов сказал, что будет бороться, только без зрителей.
– Что, ссышь? – оскалился Ногаев.
– Я тебе подорву авторитет, – сказал Иванов.
Видно было, что Ногаев хочет съездить его по носу, но сдерживается. Они пошли куда-то за казарму. За ними все же увязались старики. Потом пришли. Ногаев держал рукав от кителя и разбил несколько носов. Все это еще больше укрепило положение Иванова и его друзей. Они как бы постарели на полгода. Ноябрьские относились к ним, как к своим. Но были старики, которым это не нравилось. А трое калининградцев лезли на рожон. Но, самое главное: их не любил Саидов.
Ни у кого не было часов и то, что пора идти на завтрак, можно было определить только, когда вышли бы на плац другие роты. Но они не выходили. А часов ни у кого не было. У Ясючени подарок отца, японские электронные, забрал Мамедов, а у того их выменял на финку ингуш Завгаев. Потом Завгаев кому-то их продал, и теперь вообще неизвестно где они? То, что отняли немного денег и красивый импортный бумажник, это черт с ним, но подарок отца сначала было очень жаль. Потом Ясюченя привык и даже стал забывать об этом. А сначала пытался жаловаться командиру роты, но тот сообщил об этом прямо Завгаеву. Ясюченю здорово потоптали ногами в сушилке. Хорошо хоть не завернутого в одеяло. В их роте такого еще не было, а в других… Говорят, по одеялу бьют табуретками.
Пошел снег. Крупными, с кулак, кусками, и густо. Стало теплее, но снег падал на лицо и за шиворот, и там таял. Ногаев ушел в казарму и выгнал командовать на плац ефрейтора-дежурного. Понемногу стали выползать на завтрак другие роты. Ходить стало веселее. Потом прямо с плаца роту погнали в столовую.
В дверях Ясюченя потянул носом. Пахло силосом из капусты, мороженой моркови и почерневшей картошки. Все это крошево было разбавлено теплой водой и называлось "рагу". Им кормили уже целый месяц.
За их столом сидел только один азербайджанец и допивал чай с жирно намазанным маслом куском белого хлеба. Миска из-под мяса была пустой, хлеб остался черный, а в плоской алюминиевой тарелке было три куска масла. Это – на шестерых. Зато черный хлеб остался весь. Старики его не ели. Их отделению не повезло, за столом было сразу четыре старика. После них ничего не оставалось.
Ясюченя сел на крашеную суриком скамью и тут же вскочил. Боль проткнула позвоночник. Все-таки сильно Ногаев достал его.
– Что скачешь? – ощерился на него Саидов и замахнулся тяжелым черпаком.
Ясюченя быстро сел. Боком, на одну ягодицу. Боль, хоть и не так, но чувствовалась.
Съел свою долю силоса и пять кусков хлеба. Выпил теплый желтый чай, отдававший жженым сахаром. Поговаривали, что чай такой желтый оттого, что в него добавляют какую-то гадость – «противостояние». Но Ясюченя знал, что это – ерунда. Когда он лежал в санчасти с грибком на ногах, то видел, как санинструктор сыпал в котлы с чаем аскорбиновую кислоту. И больше ничего.
Где-то в углу столовой, ближе к выходной двери, зародился грохот и стал расти так, что хотелось зажать руками уши. Ясюченя только потом сообразил, что провожают последнего дембеля. Сообразил, когда увидел, как гордо тот несет посуду со своего стола. Это традиция: дембель в свой последний день съедает все масло, которое он не ест месяц перед этим, и самолично несет посуду. Отряд в это время стучит, чем попало и по чему попало, лишь бы громче, кружками, от которых веером разлетается эмаль, черпаками, мисками, ложками, чем придется. Посуду нес рослый чеченец из второй роты в спортивных штанах, в тельняшке, в шлепанцах на босу ногу, в офицерской шинели с погонами прапорщика, но без звездочек.
По столовой из конца в конец бегали взъерошенные офицеры, пытаясь остановить бешенство шестисот человек в щепы разносящих, недавно закупленной посудой, деревянные столы. И – шесть сотен орущих глоток.
Ясюченя тоже орал и лупил двумя руками, кружкой и ложкой по миске.
Чеченец донес посуду, поставил ее в окно перед испуганным евреем посудомоем и театрально вышел вон. Гром оборвался. Все принялись доедать.
Пока комбат хрипел на разводе по поводу разрушенной посуды, Ясюченя промерз так, что не верилось, что можно когда-нибудь оттаять. Он стоял и прятал в воротник то одно, то другое ухо и чуть не выл от боли в них. Они были уже обморожены однажды и теперь нестерпимо болели от холода.
В задних рядах кто-то с громким треском выпустил газы. В роте засмеялись. Ясюченя не мог без риска обернуться, чтобы посмотреть, кто это, но знал наверняка – Мамедов. Только у него хватало такого остроумия. Но было не до смеха. Очень холодно. Мозги замерзли и потрескивали. Казалось, он замерзнет, не доехав до стройки, и это не было страшно, страх тоже замерз. Но комбат выдал последние матюки, отряд протопал перед трибуной и, через КПП, вышел к машинам. Можно было опустить уши у шапки.
Ясюченя влез через борт в кузов, привалился к стенке фургона и так застыл, потихоньку примерзая к скамье. Мамедову было холодно сидеть на голых досках, и он сел на колени Ясючене. Но так Ясючене было даже теплее. Он только опасался, что Мамедов станет слишком часто пускать газы. Ногаев затянул нудную ногайскую песню, и ее подхватили кумыки, аварцы, даргинцы и даже кто-то из Чечни. Потом азербайджанец Ахмедов стал петь песни из индийских фильмов, и остальные подвывали ему. Они попытались заставить подвывать и молодых, но из этого ничего не вышло. Время от времени старики прерывали пение, чтобы поорать на прохожих. Когда ехали через город, люди испуганно шарахались в стороны, уворачиваясь от комьев ругани и льда, сыпавшихся из машины.
Ясюченя заметил, что у Мамедова побелели уши, но не сказал ему об этом. Черт с тобой, собака, подумал он, хоть бы они у тебя отвалились, наконец. Подумал медленно, лениво и без злобы. Просто так: неплохо бы у тебя, собаки, отвалились бы уши. Он посмотрел на черный бугристый затылок – чурки никогда не опускали клапанов у шапок, считали западло – и представил Мамедова без ушей. Это ничего не изменило в его внешнем облике. Вот бы, отравить тебя, – подумал он. Или встретить на гражданке в Молодечно, да заставить собственное говно жрать. Подумал, но тоже без злобы – научился.
Из машины вывалились быстро и – по бытовкам. Единственная отрада, что в их бригаде был один чурка – Ахмедов. Ни рыба, ни мясо. Особенного вреда от него не было. Он иногда закладывал Саидову или Ногаеву, но не часто, и сам редко к кому лез. За это с ним делились тем, что получали из дома в посылках через гражданских сердобольных теток из бригады. В бригаде, кроме троих калининградцев, трех белорусов, двух хохлов и Ахмедова было несколько химиков[1 - Химики – условно осужденные на стройки народного хозяйства] с разными сроками, в основном по двести шестой[2 - двести шестая – 206 ст. УК РСФСР – хулиганство (с вариациями).], и четыре вольных тетки, две из которых – химички в прошлом. Хорошие, добрые тетки. На их адрес можно было получать посылки. Про одну говорили, что она убила мужа, но никто в этом не был уверен. Она была самой жалостливой и веселой, и все время пела песни.
Ахмедов сел писать письма.
Иванов с Тюриным взяли отбойный молоток, и пошли в подвалы пробивать дыры для силовых кабелей, которые проектировщики умудрились не запроектировать. Остальная часть бригады разбрелась по цеху подметать и кое-где залить бетоном огрехи строителей.
Бетона была заказана только одна машина, но и ее оказалось с лихвой. Почти половину кучи пришлось на тачках перевозить к разбитому окну и через него выкидывать. Когда закончили, Ясюченя пошел греться к тумбам, в которых прогревали рулоны стали.
В цехе сновали французы, устанавливали свои станки. В ярко-синих комбинезонах с множеством карманов и карманчиков на молниях; в желтых замшевых перчатках; в белых, будто рекламных, касках; быстрые и сосредоточенные, они выглядели ненормально рядом с чумазыми, в драной спецовке, череповецкими работягами. Если у француза попросить закурить, он на секунду останавливает свою целеустремленность, радостно улыбается и протягивает сигареты, от одного вида которых кружится голова, и тут же забывает о тебе, ныряя в работу. Ясюченя только раз это делал и заклялся больше к ним подходить. Почему-то это было унизительным. Он вообще старался не попадаться им на глаза.
Проходя мимо загороженного сколоченными досками от опалубки входа в подвал, он услышал стук молотка. Перелез через ограду и стал спускаться вдоль шланга от компрессора. Нижние ступеньки оказались в воде, и Ясюченя пожалел, что не в резиновых сапогах. А утром в бытовке он еще удивился тому, что калининградцы одевают резину: это в такой-то мороз! Он осторожно боком присел на нижнюю незатопленную ступеньку. Отсюда видна была вся камера. Тюрин, согнувшись втрипогибели, наполовину влез в выдолбленную дыру и оттуда торчал только его зад, казавшийся массивным в ватных штанах.
В углу на куче мусора и бетонного щебня, с незатопленной и относительно сухой верхушкой, спал Иванов. Спокойно, будто не было грохота молотка, усиленного бетонными стенами десятикратно. Ясюченя позавидовал.
Он взял маленький камешек и кинул в зад Тюрину, но не попал. Пока подыскивал другой, Тюрин закончил дрожать и стал выбираться из дыры. Молоток он оставил шипеть в ней. Оглянулся и, увидев Ясюченю, подошел, осторожно ступая по воде. Она доходила почти до края сапог. Сел рядом.
– Там, наверху, Саидов приехал, – сказал Ясюченя. – Ходит.
– Хуй с ним.
Ясюченя протянул ему сигарету.
Тюрин посмотрел название.
– Гродненская «Прима». Ты что, посылку получил?
Ясюченя помотал головой.
– Из старых запасов.
Тюрин снял рукавицу и обтер лицо рукой.
– Бетон, сука, наверное, марки шестьсот. Да еще в сырости стоял… Заебал вконец. У вас там что наверху?
– Уже ничего. Подмели, теперь хуем груши околачиваем. А чего у вас воду не выкачивают?
Тюрин пожал плечами. Он курил, пуская дым через нос, и пусто смотрел в серую стену.
– Выпить хочется, – вдруг сказал он. – До жути.
– Я писал домой. Должны прислать, – сказал Ясюченя. И добавил:
– Скорей бы уж молодых пригнали в роту.
– Не пригонят.
– Откуда ты знаешь?
– Ребят, командиров из карантина сегодня видел. Им уже объявили.
– Ебаный в рот! – сказал Ясюченя.
– Такие вот дела…
Тюрин бросил окурок в воду. Он зашипел, дернулся в сторону и стал медленно кружиться на месте.
– Ладно, – сказал Тюрин, встал и пошел по воде к Иванову.
– Вы на обед-то собираетесь? – спросил Ясюченя, вставая. Когда вставал, в кобчике остро кольнуло. Но уже не так, как утром.
– А сколько времени? – остановился Тюрин.
– Около двенадцати. Я когда к вам шел, было без десяти.
– Ну, через полчаса смоемся. Слушай, я тебя все хочу спросить. А почему ты без бульбонского акцента разговариваешь?
– У меня мать русская. Да и жили мы раньше в Минске, а там никто по-белорусски не говорит. Учился в русской школе.
Он хотел сказать про институт, но не стал. Зачем? Лишние расспросы. Кому это здесь надо?