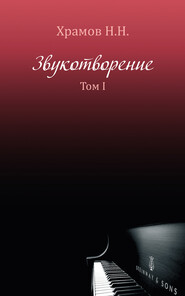скачать книгу бесплатно
– Ишь. Заговорил!! Ну-ну…
Тоже к зеркалу подалась – лоск навести. Дородная, властная, с гордыней непомерной, во взгляде да из-под бровей неженских угадываемой. Отражение напротив сказилось тотчас – чета супружеская являла собой нелицеприятное зрелище: как бы друг перед другом ни скрывали чувства низменнейшие, однако физиономии буквально перекошены от злобы и ненависти, страха подступающего… Внутри сознания копошилось тревожное, смутное-не смутное, но неприятно волнительное предощущение близкого конца – всему. Загнать вглубь нервную дрожь, вызванную и неприятием происходящего в минуты эти на площади перед обителью роскошной их, и подспудным предвидением открывающихся в скором будущем потрясений великих, и общей неудовлетворённостью вся и всем – не могли. Оба. Ни Он, ни она. Слой амальгамы впечатал в полировочку гладкую застывшие в порывах нереализованных позы – ненормальные, взбешённые… и угрожающие, и растерянные сразу… Так и стыли, пожирая глазами нечто невидимое, зазеркальное, готовое, казалось, вот-вот вылупиться из ледянистого покрова необъятного и стать не кошмаром надвигающимся, но вполне зримым и осязаемым воплощением уготованной мести. Самовлюблённая чета, хозяева Сибири русской – Он и она. Четыре кулака, стиснутых судорожно, грозили и тем, кто сейчас на площади находился, и – пуще прежнего – грозили мороку ужасному, наплыву призрачному, грядущему. Стращали тем, что, разжавшись, в патлы-кудри ближнего вцепиться могут неистово. Опасность была взаимной и явной, тут уж никуда не отвертеться! Незадолго до сценки сей про меж них серьёзнейшая размолвка вышла. Не первая, не последняя, разумеется… Плюс эти вот события… К тому же настроение Родиона Яковлевича подпорчено изрядно было донесением одного из его помощников на местах (уцелевшим непонятно как), что стихийное бедствие вчерашнее слизнуло с лица земли прииск новый, «неверинский»; так мысленно называл золотоносное место Горелов. Погибло невесть сколько людей – впрочем, последнее обстоятельство заботило меньше всего. Жаль, прибыли поубавится, да восстановление хозяйства потребует и времени и вложений дополнительных! Конечно, несметные россыпи, жилы рудоносные возродятся! Скорее бы… И хрустнули кулаки миллионера от нетерпения.
Ждать невмочь. Совершенно не тешит душу, что беда – смертельная-не смертельная – пройдёт, дело-то поправимое! Однако… однако денежка уплывает, мимо кармана идёт!
Понемногу стихал шум на площади.
Редело. Чем ниже вечер, тем гуще ночь. Ночнело скоропалительно, почти сразу – словно кто спешил мантией с плеча добрецкого накрыть люд, уберечь от неприятностей назревающих. Небо – накатом агатово-слюдяным, над стрехой – лунища, взгромоздилась вороной, только сыр один и виден, сама же —?? да ещё сияние лёгкое, восковое, оплывшее… И взорваться готов блеск изюминок, накрыть ситом звёздным купол холодно-фиолетовый… Повеяло стужей…
Редело. По-одному, по-двое разбредались старокандалинские – кто к кому кто куда… Иван Зарудный в тайгу подался, по зимовьям, заимкам, кущникам, так просто… Знал: в городе ему не жить, научен горьким опытом досыта был. А тайга тайну скроет, на то она и есть тайга. Дремучая, вальяжная, расписная, она стала для него надёжным отныне пристанищем. К тому же лучше Ивана Зарудного вряд ли её кто теперь знавал – ведь Трофима Бугрова более не существовало.
4
Мыкался по белу свету Толя Глазов, среди злых и незлых людей жил-рос – по старой памяти, как по грамоте, душу свою закалял, к новым пыткам и радостям по судьбе шагал. Хотя радостей, конечно, было совсем ничего – так, на пятак, раз-два и обчёлся! А всё ж…
Однова, без работы оставшись, забрёл на пристань. Его туда постоянно и неудержимо влекла непонятная сила, страстная власть позатайная. День ветреный, стужий выдался; шелестел над затоками редкий лист палый, мостил пятнашками зыбь-рябь. Зачинались осеня жухлые, докипала цветь… Внимание подростка привлекли двое мужиков, что на брёвнах, к сплаву готовых, сидючи, промеж собой гута-рили втихомолочку. Порывы дуновенные с реки приносили обрывки фраз, отдельные слова, которые невольно заинтересовали парня.
– У их, веслинских, подворные да подушные, айв нас, рабов работных, ась?! Одна забота – жарь до пота. Пробавиться нечем. Ни те грядочки какой… Душу отвесть! Укащику – рупь, самому – полтина. Живёшь, как скотина! Помню, тятька-т покойный крушец варил – по-кричному железо выделывал. А жили всё равно впроголодь! Бывалоча, с огня домой возвёрнется, в закуте свовом ото всех нас особится – с тоски-т… а мы, мал мала меньше, носами хлюпали, не разумели, что к чему. Токмо под ложечкой сосало – не приведи Господь! Жуть брала. Четверо нас было, голоштанников. Двое с голендухи помёрли… ну, с её, окаянной! Тятька бился-бился, сам росинки маковой от смены до смены не возьмёт бывалоча, отощал вконец… Захилял… Вона как! В закуте свовом однажды и преставился, храни, Господь, душу евойную! Маманька-т ишшо допрежь тово Боженьке душу отдала! Щас вспомню: ком к горлу. Зря, штоль, грят: кадык невелик, а рёву много! Эх-х!! Вот инно думекаю: а пошто человеку жить-то? Да рази ж мамка с папкой, когда меня стругали, гадали так? Им в обох ладно-любо было, а потом хоча трава не расти! Не мог меня тятяня в сторонку сдрючить?! Хы!! И то верно: жизня, она завсегда должна своё брать. Жисть наша. Так то— жисть! А мы што – живём? В гробину живьём… С ноги на ногу переминамся… Едри тя…
– Цыц, расшабанился!
– Чевой-та цыц? Тише да тише!! Молчбою прав не будешь. Когда схоронили мы с тятькой да брательничками маманю нашу, земля ей пухом, то нечаянно, в поминанье, прослышал, как она нас выкармливала. Угу… мне, сопле, скока было тогда? Годочков семь-восемь, да вот врезалось в память: маманька тогда однова без работы ходила, ну… с мужиками, что на ногах твёрдо стояли, спала, будучи мужниной женою… Понятно, домой ворочалась как след, ни гу-гу! Грех? Грех! Да не скажи-и… Она у мужиков тех заместо платы то полковрижечки, то ишшо чево домой притаранит, нам, бишь, малькам… Где так давали, а где и откровенно подворовывала, хоча воровством это рази назовёшь? Случалось, жалеючи, с поняткой, иные от дома без всяких со стороны ейной услуг отрывали на поживость… Короче… она тогда без работы, грю, ходила. Налево. Правда, и по дому поспевала… Словом, как-то застукала её сука одна. Пришибла маненько маманю нашу. Та оклемалась, бабы, оне тово, живучи больно, токмо вот с поры той в услугах ейных бабьих ей отказывали болыпо. С трудом на работёнку какую-никакую пристроилась… Дык вот беда: побои-то те опосля боком вышли! Схоронили мы её, бедовую, безгрешную! А вскорости и тятяньку туда ж, под её крестик, поклали, штоб рядком лягали… да вот… тако и было… Мы и поклали, кто в живых, спасибо им, родным, остался… Взрослых-то – пара бабок, да старик-сосед, уж, почитай, скоро год, как Богу душу отдал. Мнда-а… А годы-то всё волоком, волоком… Ни в жисть не выжить! Оттого-то я сюды, к реке, и подался. Брательник мой, Ваньча, тот дома, грит: от могилки сродной ни шагу! Мол, буду в городе мозоли натирать. Ну. А я вот – сюды… Подался-то подался, а толку ни на грош. Ума не приложу, деять што? Та ж маета. Не иначе, как зря всё. Надыть Зарудного, Сеньча, искать, да под евойную защиту итить. Рази ужо на свете божьем трепыхамся, то и жить горазд надыть, ну. Верно думекаю?
Помолчал малость, пожевал губами невысказанное что-то, застыл… с выражением обиды нереченной на лице, потом тихо, надломленно продолжил:
– Седня ведь в аккурат пятая годовщинка батянькиной кончины. Вот и решил помянуть с тобой, Сеньча. А что душу изливаю, так не обессудь! Не всё ж нелюдимить, не до самого ж отшествия в мир иной! Возьми вот, на-ка, хлопни!..
Вынул из торбы невеличкой, в ногах, бутылёк, початый, стакан, свёрточек – движения уверенные, замедленные, скупые… Оглянулся…
– А те, пострел, чевой тут надыть? Ась? Чё ошивашься тут? Глянь-ко, Сеньча, што за образина така! Да ты, харя, не проказный часом? Ну-к, вали отседа, да шибчее! Ещё нас заразит!
– Не пужайтесь, дяди! Энто меня в Старой Кандале тако. Слыхали, небось? На всюю жисть зарубочки. Потому должон я Зарудного сыскать. Она мне заместо отца родного. Ну.
– Ты вот чё, паря, языком зря не мели. Те скока годков? Чьих кровей бушь? Могешь чево?
Всё это время Сеньча практически не проронил ни «гу-гу», со стаканом в руке то на подошедшего, то на дружка своего, Григория Луконина, кстати(!), зыркал.
Глазов ответил не сразу. Кивнул Сеньче сперва: мол, пей, не дивись-не давись, а то ненароком расплескаешь, до рта не донесёшь стопарик-то. Затем, важно, слова разделяя, интонацией подчёркивая самые, на погляд его, существенные, главные, начал:
– Четырнадцатый. Зовите Анатолием. Рабывал на ватагах… кимряком был… подсобил кой-кому мельничку смастачить – большо, по плотницкой части… Да и по мелочишке не промах, сгожусь!
– А жиганить могешь? Ты, погляжу, дюжий не по годам! Ась? Грю, дюжий шибко!
– Шибко не шибко, а коль выйдет сшибка, позрим, большо!
– Доводилось, поди?
– Всяко бывалоча. Токмо ты, дядя, зубы мне тово, не заговаривай!
– Мнда-а… Ну, так как? Жиганить на «ГРОМ» пойдёшь? Работёнка ломовая – черновая да грошовая! Мне как раз помощник до зарезу нужон. Надумаешь ежли, приходь завтра. С ранья приходь. Вот сюды прямо и вали! Сведу тя с капитаном, приглянешься ему – возьмёт на борт. Кочегарить бушь, по Лене походишь… А тама, мобыть, и дёру вместях дадим, в обох, грю, разумеешь? К Зарудному. Я-т тя припомнил… Ну.
– Цыц ты, непутёвая башка!
– Ну, о-от. Заладил! Дык ты ишшо не хлопнул? Ну, мы, брат, про такое не договаривались. А парень этот наш, наш, я ево хорошо помню. У Авдотьюшки одно время жил, верно ведь?
– Угу… И щас захаживаю.
– Так што вот так вот, «УГУ»! Ежли насчёт «ГРОМА» надумаешь, к завтрему милости просим. Бугаина ты – ого-го, на все двадцать, а капитану нашему сильные нравятся, глядишь, под руку попадёшь – возьмёт!
Словом, Толя ушёл от них обнадёженный. Правда, Сеньча, исподлобья да искоса посматривая на обезображенное лицо парня, больше отмалчивался, хорошо хоть, что не «цыцкал»… Поведением таким в ком другом непременно заронил бы подозрительность, суждение в слабохарактерности и странности откровенной своей, однако Толя был человеком верного склада: сызмальства умел различать в людях порядочность, фальшь, иные качества, сам же никогда не кривил душой.
На следующее утро, ни свет ни заря, опять на пристани был. Сонно и славно поплёскивали у бортов лодчонок, судёнышек разных, к пирсу скрипучему ластились упругие, холодкие волны, от воды тянуло свежестью, запахом далёких солёных льдов… Поёживаясь, мальчик оглядывал пришвартованные берлинки, завозни, поромы, уженки… «ГРОМА» не находил. «Не-е, не солгал! В жисть не поверю, что за баглая приняли да обуфонили!» Перед мысленным взором паренька стояло открытое, прямое выражение лица того, с кем только вчера общался накоротке (не знал ещё, что это был Григорий Луконин, известный в среде своей да и вообще у портовых всех исключительной обязательностью и порядочностью). Потому и решил ждать, надежда ведь помирает последней! Ни слухом ни духом не ведал Анатолий, что глухою ноченькой нонешней, покуда сам он дрыхнул мертвецки на поленнице, «ГРОМ» с якорька снялся и сейчас, в канун дня разгорающегося, уже верстах в тридцати с лишком от Ярков пенную борозду «ложит» – под всеми парами вниз по-те-чению жмёт, испытывает себя перед дальней дороженькой речной. Не знал, увы! А Григорий Луконин, вкалывая в машинном, у топки, нет-нет да вспоминал мальца вчерашнего, который оказался одним из кандалинских – вроде как наобещал в три короба, а на деле… «Не по-людски вышло…», думал, отирая грязной ладонью грязный же потище со лба.
Светало ещё скорее, чем ночнело в краях сибирских – и для глаза местного вовсе неприметно. Прозрачной тонкой плёнкой подёрнулась мироколица, ясной, чистой зарью наливались изнутри дали дальние – просторы, суземы на том бережку, и чешуйчато подблёскивала, пуще прежнего мерцала весноватая рябь реки, оченно тихой, степенной, под перламутровыми покровами своими наверняка скрывающая и омуты, и заверти, и тайное тайн, извечное, как память её.
Четыре дня минуло после отплытия внезапного «ГРОМА», а Толя всё ждал, ненадолго покидая пристань, чтобы подработать малость на собственное пропитание, да Авдотьюшке подсобить, ждал, попутно расспрашивая люд портовый насчёт пароходика этого. С одним, с другим переговорил и выведал, между прочим, что «ГРОМ» представляет собой плавучий дворец-музей и принадлежит Горелову всё тому же, а капитаном на нём – некто Мещеряков, и что Зарудный Иван гдей-то во глухих борах скрывается, да не прячется из-за боязни великой, но сбирает народ сибирский для схватки решительной с окаянными режимщиками. Кстати, Луконина многие знавали, отзывались о Григории Кузьмиче с добром – отседова само собой вытекало, что он, Толя, просто обязан был повстречаться с машинистом и через последнего, с помощью братней, плюс оказии маненькой – фарта! – дай Бог, непременно сыскать Зарудного. Конечно, не чурался Толя и других каких возможностей к Ивану след проторить. В любом раскладе без Зарудного он себе дальнейшей жизни не представлял. И даже не в том дело было, что уж больно полюбился ему этот Человечище – берёг в сердце воспоминания о днях, когда тот, ни жив ни мёртв, в их доме отлёживался, когда мать, Тамарочка наша убиенная, за беглым доглядала, когда Прошка с ним играл и ручонками нежными больные места гладил – залечивал, когда много чего нового, интересного рассказывал им Иван вечерами таёжными под завывы ветра да потрескиванье уютное чушек в печи (топить не переставали, ибо к ночи студёно, знобко становилось, не взыщите, такова весна!)… Нет, не в этом дело было. Не только в этом. От Ивана исходила цельность, самодостаточность, веяло пониманием главного в жизни, в чём Толя хотел разобраться также и шагать затем верным, правильным путём. Конечно, он чувствовал себя почти счастливым и сейчас, думая о… далеком ли прошлом, возвращаясь памятью туда, в коротенькое детство своё, он разве что не блаженствовал, не умиротворялся, хотя и постоянно ощущал осадок нехороший, с горчинкой. Осадок смутный и безымянный пока… Э-эх, прежняя жизнь! Розовая явь, холёные мечты… Мы остро, больно переживаем радость колкую в груди и неосознанно, инстинктивно отодвигаем от себя новый, наступающий без продыху день-деньской… Боимся заглядывать в грядущее? Забегать вперёд? Кто знает! Может, отдаём отчёт в том, что завтра будет не так, иначе превсё и, главное, вряд ли лучше, краше, чем вчера, в босоногом детстве – в том сладко-кисло-горько-солёном несне… Ах, как наивно, светло, чисто было-то… До умопомрачения здорово… хорошо… Как будто самая заветная грёза осуществилась давным-давно, а потом, после, сейчас – ни-че-го. Другие синицы в руках – крупные, телами трепетными, зрелые вполне и к тебе, к груди твоей непременно прижимающиеся – мол, держи нас крепче, не оброни-не выпусти на ходу всём твоём!; да-а, иные синички-то проходу не дают, а журавлик, журавушка прямёхонько из детских чудненьких денёчков наших летит-парит непостижимо, непостижимо и недостижимо, и дотянуться до него нам не получится более – никогда… Толику же, Глазову подвезло-таки: попал спустя ажно месяц на «ГРОМ» и бок о бок с Лукониным стал уголёк в топку щедро валить-закидывать – а что? Силушка в наличии? Попахать не грех. Кабы харч погуще, то и подавно за троих справлялся бы, ведь Григорий Кузьмич могет, а чем он, баглай, хужее? На крайняк за двоих у него всегда выходило, ну, и тут промашки не станется. (Баглаем Толяна когдысь ещё мельник Тропыч кликал – Тропыч, ибо долго хаживал по свету белому, с законом не в ладах был, с годами кое как разобрался, а после всё искал, искал свойное дело, по душе чтоб! Заимел таковое, да, но и вёрст перемерил многошенько, правда, повторить должно, не валился с тропы, отчего и получил ярлычок нежненький сей!]
«ГРОМ», как и приисков десятки, банков, угодий всяких, дорог, заводов и заводишков о две-три трубы принадлежал (также повторить особливо стоит!] Горелову и являлся единственным на Лене большущим прогулочным пароходом, сделанным на заказ в далёкой Америке. Капитанил на судне в прошлом офицер морской Мещеряков – человек до мозга костей военный, бывалый и норову крутого, упрямого. Если бы со здоровьем в порядке было, глядишь, в большие чины выбился, поскольку морскую науку знал туго, досконально, авторитетом пользовался непререкаемым и в кругах, что адмиралтейских, что пароходства (им же, кстати, в Сибири и созданного с благоволения высшего!] уважаем безмерно был. Его слово для всех и каждого законом являлось, ежели, конечно, произносилось оно на борту судна, с капитанского мостика. Не премину отметить: сие относилось и к самому Родиону Яковлевичу, который частенько во дни ли навигации, в какие иные, на свой страх и риск вверх-вниз по речище челночил, благо крепостью-статью корабль сей отличался весьма и весьма выгодно от хилых собратьев меньших. В удовольствие, со дружками-неконкурентами именитыми, с особами царской фамилии (а вы думали!!], с «шагалихами»… Короче, флотский волк Мещеряков был гордостью «ГРОМА», был подстать «ГРОМУ» и порой казалось, что судно, аки существо живое, само выбрало в капитаны себе Николая Николаевича. Нашло, присмотрелось к офицеру – и выбрало! И не ошиблось, не разочаровалось в выборе.
Мещеряков с первого же погляда Толю зауважал, проникся к нему симпатией, потому без раздумий долгих взял на борт – помощником Луконина. Помимо Григория Кузьмича в экипаж «ГРОМА» входили рабочие и мастера других специальностей, числом двенадцать человек. Все они составляли крепкую, сплочённую команду, в которой наш сразу же почувствовал себя родным, желанным. Объединяла людей общая долюшка: вкалывать без роздыху посменно, надежды на лучшее завтра лелеять… Справедливости ради, добавить важно: Мещеряков пот из подчинённых своих не выжимал и относился к ним профессионально – то бишь, требовательно, строго, но и с пониманием, значит.
…Изнуряла в низах работа Григория Кузьмича. Хоть и был двужильным, точёным, да жилявость эта в последнее время шагренью подсократилась: выбивался из сил мужик и говаривал любое своё «на энтовом свете не устанешь, так на том не отдохнёшь» уже без бравой лихости-ухарства. Молчаливее, замкнутее стал – невосприимчивей к крохотным завалявшимся ли? с чужого стола перепадающим реденько житейским радостям.
Люд чёрный, он таков! Тянет-потянет лямку бурлацкую, скрипит зубами, а как подожмёт… припрёт возрасток да в придачу к нему утома зрелости почтенной как нахлынет волной окаменевшей, так сразу взыграет внутри жёсткое и угрюмое протестное «Я» и тогда ничто не заставит, никто и ничто не заставит мужика корячиться, надрываться. Конечно, он ещё повайкает маненько, но скорее по инерции, а самое страшное: в исступлённом мозгу, в сожжённой душе не останется местечка живого для того, чтобы какое там журавли – синие пташечки скромные гнёздышки «тама» вили… Тем паче, когда один на светушке белом ты – перст перстом один! Огрубеет, очерствеет сердце, останется в нём единая страсть незаманная – напоследок хотя бы по-человечески пожить! Оттого и сподвигся Кузьмич (пока только в мыслях!] к Зарудному дорогу искать. И, поминая намедни годовщину энную «батькиной кончины», самосидки глонув, оттого-то и разоткровенничался!..
Толяну тяготы пудовые нипочём были! Работал споро, жадно, зло и каждую минутоньку свободную стремился на палубу нижнюю, на дек, который, слыхивал, Мещеряков по привычке разве что не гвардейской, но боевой однозначно, орлолпдеком величает – есть такое… пространство на боевом корабле, вот капитан и пользуется обычной своей лексикой флотской. Один раз скоб-трапом и выше поднялся, чтобы, значит, видеть дальше. Глазами пожирал берега реки в надежде зыбкой след-примету какую в отдаленье сыскать и чтобы о Зарудном Иване подсказала она. «Дым от костерка хоча… – думал нетерпеливо, впиваясь в марево, в парящие безвесно и безвестно по оба борта, по сторонушки обе, словно подрубленные, крылья тайги – большо, есть же кто, ну…» Увы, тщетно! Ничегошеньки не мог выглядеть, да и ничего за марями призрачными не пряталось, не хоронилось, окро-мя одних и тех же лесов, лесов, лесов… И – опять лесов, что скалы да бугры расцвечивали… Тогда решил он на пути обратном крепко с Кузьмичём потолковать.
Первые дни плавания томило ужасно. Красноталое солнце опаляло всёшеньки в полдень знойный – молила теней облачных природа; к вечеру, однако, остыль, на осеннюю схожая, да сдобренная умиротворением, от воды веющим, брала-таки своё и враз делалось удивительно хорошо…. Прозорно, осиянно лучиками тонкими, чуть-чуть, в меру самую, тепло… наконец, просто любо-дорого… Любо-дорого… Остыль вся шла откуда-то сверху, с первых звёздочек самых – была она невидима и легка, лоскотна касаниями своими нежными, исцеляющими к потной коже и как бы просила мальчика остаться, не уходить, подолгу бывать в часы свободные вне машинного отделения, открывать для души не целованную красотищу вокруг… Красоту суровую, дикую, но за сердце берущую и отпускающую душу сразу… Серая с прожилками Лена, слюдянистая высинь-синь в огнях проточных, зеленотёмная мать-мачеха растайга… Утопая взглядом в ней, почему-то забывал Толя обо всём на свете – о хорошем ли (а много его, хорошего, видел?), о плохом, что ожесточило, но не сломило характер, эдакий стержневой штырь не согнуло в дугу – напротив, закалило сталь. И казалось пацану: ни хорошего, ни плохого, ни прошлого, ни будущего нетути вовсе… Да что там прошлое и будущее! Главного – настоящего! – и того не мог он нащупать в помине, вот ведь странно. Мира, жизни, передряг, рубцов, далей тёплых и чужих, веры фанатичной и безверия полного, человеческих исканий та-кожде не существовало! Не было ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО.
Кроме тайги… вдоль глади речной.
А если и попадались на каком берегу избёнки, срубы, якутов незатейливые хижинки-мазанки, рыбацкие снасти, похожие на тенёта, заимки… то мнились они скорее дополнением, украсой, декоративными прелестями, а не одинокими вместилищами таких же одиноких, неминучих и неисповедимых человеческих судеб. Потому что не верилось даже, что в краях этих помимо тайги возможно ещё былиночкам людским тяготеть… Иное представлялось: нет места горемыкам под солнцем живым, лишние они на земле-власянице… что удел сынов и дщерей смертных – Христовы тяготы носить в приделах не здешних, не тутошних – в Бог весть какех!
В один из вечеров дивных, когда «ГРОМ» рокотал мерно по скатёрке лазурной-зеркальной, скользил курсом единственным в лето не бабье покуда, Толя на излюбленном пятачке своём находился, на деке – на деке, им же и выбранном, умилялся панорамой проплывающей да тягучую думу пытал. Внезапно закашлял, заурчал с перебоями двигатель – замер-заглох, подавился будто милями, позади кормы которые, либо перед бушпритом (на пароходе всё напоминало настоящее морское судно!), что стрелой нацеленной указывал направление на север… И тотчас ошпарила отовсюду безгласица немовейная, прям-таки колокольчики в ушах зазвенели! Несказанная, невыразимая тишина с поднебесья ширного, с Лены-тайги стекала за борт и… она же на палубу парохода восходила-вплывала и вновь струями мощными, незримыми, словно власы девичьи призрачные-угадываемые, оттуда на плечи реки ниспадала, где средь волн исчезала, чтобы опять воротиться и – до бесконечности так… Она, немота сущего рядом-вокруг, то поплёскивала реденько, то дуновениями нежными обвевала лицо, то звуком случайно оброненным, откровенным шептала: многолика и прозрачна я… найдёшь, что душенька пожелает в мгновении каждом отдохновенном нашем, только не проворонь, слышишь?.. Но вот, через ми нуту-другую, исторгла вдруг стогласье цельное. По ней, ж-жив-вой! застучали, будто по наковальне, рабочие, спецы от механики железной, к ремонту срочному приступившие – переродилось молчание. Забурлило, заклокотало на десятки ладов, снова впряглись силы лошадиные и поволокли со скрежетом, с монотонностью, лямочкам-бур-лакам подстать, вдоль берегов обрубистых тайги по большой воде пароход – воротилось всё на круги своя, недолго трудяги колдовали-чинили. А Толя стоял, стоял… – не мог забыть тихости и кротости мира, коих не ценил-не замечал прежде, о чём просто не догадывался. Ведь вот что странно: человеку-то, оказывается, для полноты чувственной, для души человеческой же(!) потребна малость самая: капелька росы на стебельке, глоток тишины искренней, возможность шажок чуточный в сторону от стези сделать. И – в беличье колесо!! До умопомрачения!! Выматывая жилы, разматывая свойный клубок нервов!! Опять. Опять, опять!!! Дабы не отстать якобы от жизни загребущей… И ещё: упиваясь тишиною, завороженно и даже одичало сердцем к ней стремясь, подсознательно, неизреченно проникся он, Толя, смутной, до конца не оформившейся живой мыслью, что тишина эта сродни сосуду драгоценному, в коем ТАКОЕ!!! храниться должно, ТАКО-О-ОЕ… – и уж, по крайней мере, не стук молотков-топоров и гаечных ключей!
…Спустя недели две после начала плавания столкнулся Толя на палубе нижней с девчушкой голубоглазой – дочуркой единственной Горелова, наследницей миллионов его. Была она вся в белом, из-под шляпки и вуали, паутиновой будто, на самом деле плотно-муаровой, но с отливом настолько волнующе-волнистым, легчайшим, что казалась сотканной паучком-добрячком; из-под них струились на лобик прямой, чистый, на крохотные плечи золотисто-каштановые локоны, показалось Анатолию, вьющиеся и – а это не показалось, ибо воистину так было – до волосиночки кажинной ухоженные, на подбор… В руках девочка держала куклу необычайную и певуче лопотала ей на ушко секреты заветные… Толя неуклюже, рывком посторонился, незнакомка с грацией премилой реверанс сотворила, потом, улыбнувшись, куда-то дальше поплыла… сказочное диво… фея… а он вослед глазел и поражался, и не чувствовал под собой палубы, сердце стучало, тукало и вокруг комочка впечатлительного ширилось что-то новое, странно-хорошее, трепетное, отдалённо напоминающее то чувство, которое охватило мальчика ни с того ни с сего во время поломки недавней в машинном отделении, когда спустилась с неба тишина… не так ли осеняют крылом божественным, ангельским, ибо нарастает томление в груди и невесть откуда вот-вот придёт СЧАСТЬЕ… ну, пускай не само оно, его прообраз, первая ласточка, – зато свыше и по зову тайному, выстраданному… И не нужно имя искать – Лебяжечка оно… Произнеси, не стесняйся умилённости, ласковости – их нам ой, как недостаёт!
Бугрятся мускулы; гарь и пекло адовые; грохот-гуд огня; бесноватые блики полымей; восьмого пота нет; угля сажей не замараешь; мозоли роговатые в пол-ладонищи; лопата жвых, ж-жвых!! железо клокочет-переворачивается в утробе механической; окалина брызжет, ревмя огрызается шипением стозмейным, вспышисто бьётся в нутре – не подступись!; Кузьмич кряхтит, сволочится; пить… пи-ить… а некогда, нельзя и мутится, черствеет рассудок; дрожь, вибрация сквозь стопы обе до кончиков ногтей аж… что ещё??? – Толя пахал нещадно в чаду, нахраписто, угорело пахал и помнил, хранил в душе тишину ту благоговейную – паузу! – равно как и видение прелестное, стан-силуэт лилейный… мечтал о встрече новой-случайной с прекрасным, молочно-берёзовым чадом, реверанс невесомый девочки вторично лицезреть… локоны шелковые кончиками пальцев своих осязать (сам себе в этом не признавался!]… ненароком… а что?., а что?!. Почему бы и нет?..
Бездыханная лепота, когда остановился пульс в организме стальном «ГРОМА», девчушка сказочная, личика которой не разглядел, заприметил лишь беспредельность, что ленится в очах, вызрил власы – кудель позлащённую? струи водопадные словно, спереди чёлочкой… – всё это повторилось необычно, странно… Так возвращаются хорошие, добрые сны, если думать и грезить о них, тосковать сладко и ждать, ждать в восторженном забытье…
Был вечер призрачный, воздушный… сквозь вязь волнительную волн, широко, выразительно и неотделимо от глади водной проступающую наружу, издающую плеск мягостный, пленительный, сквозь толщу омутовую и текучую во глубине тёмной-непроницаемой взору… сквозь что-то ещё, словами неописуемое, угадывалось, виднелось чуть-чуть… лицо Лены – переливающийся абрис отрешённости вековой от мировых скорбей, страстей, страстишек… И не лицо, – лик! Лик, готовый принять в средоточие, в лоно своё Толину тоску-печаль… Лик, лик, готовый до штришка, до былиночки донной явить собственное сопереживание-таки, не равнодушие, не отринутость внешние, кажущиеся, а именно сострадание человеку… В возвышенные минуты, о которых речь, Толе показалось, что Лена и есть та самая девочка, изображение коей застало его внезапно, когда находился на деке, и тогда же, в мгновение ока, предстала незнакомочка ему вся, словно сфокусированная силой небесной на тончайшей плёнке блискучей и ею же, пелеринкой сей, подёрнутая, занавешенная, будто вуалью, фатой газовой… Два образа – родная река и чудесная девчушечка – слились в сердце… Он обомлел. На него необычайно сильно подействовало увиденное и… услышанное – воротившаяся вскоре тишина… Итак, он стоял на деке. Отовсюду веяло заунывным и щемящим – веер ли? парус белый? несли встречь токи освежающие, тёплые, искренние. В глаза же ему смотрело изумительное, алмазинке чистородной подобное личико вполне обычной земной девочки, и настолько озарено оно было закатным огнём, что даже зыбкая, колышащаяся мерно вода под килем не могла смыть очертания губ, носика, лба с аккуратной чёлкой.
Веяло заунывным и щемящим… веяло чем-то солодким, дрёмным… по весне ласково-мерцающим и облагораживающим пилигрима любого. И красиво-неповторимою делалась грустинка невольная, поднимающаяся надокрест и – парящая? обволакивающая? обдающая?.. Красиво-неповторимою и до конца нерастраченной… Успокаивала, укачивала, будто это кручинушка тихая, не чувство неизъяснимое, а колыбель для души…
Да, он обомлел. Баюкался на волнах качельных «ГРОМ», мальчик от непосильных трудов праведных передых себе организовал, а лицо девочки, которое романтичная натура его приняла было за Лены лик, восходило к нему… длилось действо фантастическое секунды считанные, но впечатление производило неизгладимое. Дрожью-трепетом проникся Толя. Что, что было это? Галлюцинация?? И в момент, когда прикоснулось бесплотное нечто-распрекрасное к Толе, когда глаза в глаза сошлись оба, рухнули в никуда, в тартарары монотонные шум-трескотня машинные, исчезла вибрация, легчайшая здесь, снаружи, словно совсем пропала некая сеточка металлическая, наброшенная невидимой рукой на остов судна, – безмолвие вновь обуяло мир. И вздрогнул Толя… Провалился в пустоту невыдуманную… Оглушённо стоял, буравя толщу водополую… Пот градом… «Что, что сталось? – думал он, а может, не он, может, думало что-то вовне его и заставляло учащённо биться пульс… – чур, чур меня!!» Сам же продолжал шарить глазами по пучине стелющейся, успокаивающейся… Увы! Увы, померкла мара, божественнный идеал (не иначе!) стаял-пропал, и только мнился след незримый – недостающего лица зияющий оклад… Странно… Ничегошеньки-то и нет…
Но что было? Неужели и впрямь – галлюцинация?!
И наваждение не кончалось, нет! Анатолий отчётливо понимал: пусто, плавно за бортом, лишь его собственную тень, ломкую, несмываемую, лйзывали волны, волны, волны… Эх! Была бы Лена не рекой, а живою девонькой, то наверняка бы сердечко ейное распирало всё то же непостижимое чувство приподнятое – противоположное ревности оно!..
Плыл вечер, солнечный и смуглый… Вечер, когда повторились красота одухотворённая и тишь завораживающая только для него будто. Повторились и околдовали… Щемящую жажду души не избыть! Ему, очарованному, немедленно, срочно, позарез! нужно было увидеть ту самую девчушку, иначе, он знал, произойдёт обвал – рухнет мир!!! Загнанно колотилось подростка сердце, кровь прилила к щекам, щёки горели. Не ведая, что делает-творит, поправ приказ строжайший Мещерякова «на главную палубу – ни ногой!», Анатолий решительно ступил на сходень, рванулся наверх, туда, где жили, гуляли, бесились с жиру и по-своему несчастны были другие такие… и не такие человеки.
Махом пересёк дек, – выше, выше…
ОНА была одна – вся в червонном вечере – на палубе и мечтательно, нежно, ласково-кротко с озорнинкой и непосредственностью смотрела перед собой – на него. Толя впился глазами в сон-не сон: да-а… фея Розы в обрамлении дикой, за четыре предела уходящей и благоуханной вовсю чаровницы-весны поздней… на фоне Лены… едва читаемых вдалеке из-за разлива необъятного чащоб, скал, просто каёмочек береговых… и снова тайги, тайги, тайги… без чего вообще немыслима панорама сибирская…
Завидев Толю, девочка вздрогнула, но в лице не переменилась – по-прежнему куколкой разве что не фарфоровой в упор глядела на запыхавшегося, чумазого, как чертеняка, пацана и…
…и теперь он смог её получше изучить, открыть… Малюсенький курносик, тонкие губки, глаза, просто глаза, обычные, с капельками печали на дне зрачков… словно две слезиночки, две пронизи, два королька влажных применились туточки… два светлячка! придавших умильное и доверчиво-доброе, с наивинкой, выражение лицу и невольно примагнитивших к себе сторонние взоры… Ямочки-яблочки на щеках с родинкой робкой, едва заметной, будто пальчиком кто взял да и придавил чуточку самую кожицу-то молочную в загаре пеночно-песочном, первом… Подбородок овальный, крохотный… Вот и весь, собственно, сказ, портрет весь. Однако было в облике девочки что-то такое, необычайное, таинственно-летящее, но и с личиком этим неразлучимое ни при каких, казалось бы, обстоятельствах, что-то не по годам ей и что не просто притягивало – втягивало, погружало в бесконечность свою матовую и в чём разобраться с первого раза невозможно было никак. Измученная, обессиленная красота…
– А я вас уже видела! Раньше встречала! Вы внизу работаете – и после молчания минутного (не замешательства!) – вы всегда чёрный такой? В саже?! А это что на лице у вас? Вам больно, больно? Хотите, я скажу папеньке и он велит Филе, ну, доктору нашему, Лазарет Лазаретычу, вылечить вас? Хотите? Папенька мне ни в чём не отказывает! – тут лицо её, нечаянно ли? подёрнулось от глаз идущей завесой дымчатой измученности и бессилия ранних, на грустиночке замешенных и подмеченных остро Анатолием… – А хотите – и снова просветлело небесно – я вам сыграю «БАРКАРОЛУ»? Хотите, хотите? Но сначала вам нужно умыться!
Вынула из нагрудного батистовый платочек…
– Погодите-ка!
…послюнявила его, к Толе шагнула, на цыпочки привстала и приложила лоскутик белейший ко лбу мальчугана, затем кончиками пальцев, «подушечками», по горящей его щеке провела – осторожно, мягенько. В изумленьи:
– Вот я сейчас ототру, поглажу и ни капелечки больно не будет! Ага?!
Так и сделала, после чего взяла по-хозяйски Толю за руку и повела его, не упирающегося, за собой, в сказочный Сезам, лопоча по пути о том о сём, чем ещё больше смутила послушно идущего подростка.
Самое время добавить: «ГРОМ» служил Родиону Яковлевичу верой и правдой не первый год и оборудован, отделан был, особенно внутри, по классу люкс с плюсом-воскликом, на любой вкус, на натуру с откликом! Убранство кают, салонов многочисленных, перепланированных, где-то соединённых, а где-то и образующих анфилады в местах для оного изначально не предусмотренных; смешение стилей, нечто вроде эклектики; нагромождения фолиантов в шкапах разнообразных по форме и размерам; обилие блеска золото-хрустального, лепнины, антиквариата и далеко не безделиц отовсюду поражало самое изысканное воображение и удовлетворить должно было необузданную любую страсть-фантазию. Поставцы с резьбой… ковры восточные… клетки с птичками… аквариумы с рыбками… Диваны-кресла, работы ручной и лаком сверкающие, покрытиями забранные… вазы, иные в рост человека, гобелены, свечи в подсвечниках и в канделябрах витиеватых, люстры ажурные и массивные, иконы-иконки вперемешку с картинами, полотнами передвижников (и всё оригиналы, оригиналы!], а перед окладами – статуэточки, фигурки нелепые-лепые, россыпи экзотических заморских «штучек-дрючек» на стеклянных, мраморных специальных стеллажах, подставках… Полочки, полочки, полочки, заставленные чем попало, чем попало! но – то ли из минералов-самоцветов уральских, то ли из стекла венецианского, то ли – дерева эбенового… А на стенах, вразброс, хаотично и вместе в хронологии, последовательности просматриваемой: оружие древнее и старинное, доспехи рыцарские времён людовиков, карлов, наполеонов… и на поверхностях резьба, инкрустация, чернь, виньеточки да филигрань с эмблемами! Огромные шахматы – слоны из слоновьей же кости, шахматы поменьше – на клеточках выстроенные перед парадом ли, сражением генеральным бронзовые ополчения… Одеяния – камзолы, шитые золотом, нечто непонятное-удивительное с позументами, что-то совершенно нерусское, но сплошь в бисере, в стеклярусах, а неподалёку – родные сарафаны ситцевые… шелка, пан-бархатные платья и на столиках – головные уборы, короны, также салфетки камчатные, орнаменты, вязание и кроены необычайные в простоте именно, спокойствии своих на фоне кричащего пира-ампира, ибо невесть сколько античного и под старину размещалось тут… Пестрота тонов, цветовых гамм, смешений-смещений откровенных множества оттенков, колеров, дисгармоний, вплоть до насыщения плотного фарблёного стекла казались несопоставимыми хотя бы по причине кучности их и радужности не к месту… Изурочья по серебру, фарфору тонкому-китай-скому, росписи по дереву невиданных пород, шкатулочки, шкуры с выделкой на полах и прямо на ворсе по щиколотки, бутыли с винами коллекционными-выдержанными эпох минувших и непременно искрящиеся в светах льющихся, штуковины механические-заводные (о чём Толя позже проведал] и в нескольких ящичках причудливых под стеклом створчатым-раздвижным – каменья крупные, драгоценные: опалы, в том числе чёрные, редчайшие! жемчуга в раковинах и просто на песчаных подстилочках, рубины, алмазы негранёные, сапфиры да изумруды… опять же бок о бок с яшмой, малахитами, александритом – не от хозяйки ли медной горы подношения… за что вот только?! В большущем, замыкающем анфиладу целую помещений каютных салоне Анатолий и вообще обомлел. Как минуточек пару назад, хотя ему-то казалось, что в Сезаме дивном пребывает вечность целую…
Посреди залы настоящей, выложенной мрамором белым в прожилках голубоватых, на возвышении небольшом стояло… – что это?! Гигантское снежно-ангельское крыло? А второе где же?? А может, колоссальных размеров серебристый, светлозарный лебедь?! Или… Толя не мог уразуметь. Утопая в пушистых разводах напольных, бороздя вслед за девочкой невиданное доселе, он инстинктивно вобрал голову в плечи… зажмурился даже… Озирался если, так с восторгом мучительным – был раздавлен… вознесён!! С него хватит… Но что это? ЭТО… переливалось, сверкало, излучало силу магическую, метало искры-молнии, разило огнём-жаром чермным, бросало в дрожь похлеще, чем изображение на волнах, недавнее, но уже почти позабытое, отодвинутое на второй план за время скоротечное «экскурсии». Что ЭТО?.. ОНО притягивало – отталкивало великолепием пышным…
– Садитесь, садитесь! Прямо сюда вот… Что же вы?
Управляемый девочкой, не сразу, но таки послушно присел на краешек стульчика с оббивкой в розочках глупых. Он спал, он боялся, что сей миг очнётся, выйдет из паморочного забытья и улетучится, развеется многоцветье, исчезнет волшебство фееричное, сгинут чары неземные сна, грёз наяву… а их место займёт огненная пасть топки, лопаты ж-жвых, восьмого пота нет, угля сажей не замараешь… что «тама» ещё?!
– Слушайте!
Не-т, ЭТОГО он уже не мог перенести!
Ноздри его раздулись, затрепетали…
Никогда, нигде, ничего подобного он не испытывал.
Билось и не билось сердце в груди. Сердце больше ему, Анатолию, не принадлежало! Было во власти ЭТОГО… кощунства родного!!!
Самая родимая боль…
Самая желанная тоска…
Что же ЭТО???
Оно вырывало сердце – из сердца сердце! вырывало, оставляя мякиш полый, который не в силах был сопротивляться. Мотыльком преданным ОНО металось, неслось к огню несуществующему и вместе с тем полыхающему – но вот где, где?.. Обжигало, воспламеняло неизведанной прежде страстью, лучами мощными и незримыми… Ненасытно было, о-о, как ненасытно было ОНО, ибо возвращалось, возвращалось (а уходило ли вообще?), вернувшись же на останки бренные, на мякиш, зашедшийся в пульсе, в рыданиях, в ожидании возвращения этого, снова и снова набрасывалось с приговором бессмертным своим, вновь и вновь выкорчёвывая из плоти живой суть, ипостась, чтобы опять и жестоко вырваться прочь, выгнетая, изнутряя донельзя обитель души, но и даруя невыносимое счастье вечного высвобождения такого – сердца от сердца, сердца от сердца! сердца от сердца!! Даруя бесчисленное количество раз и по нарастающей… Агоги…
Он чувствовал: плачет. Боялся шелохнуться, ничтожный, беззащитный под напором медовой и полынной чистоты, в пламенах жгучих и нестерпимых…
Но качался мир, влекомо и притягательно звучала музыка Петра Ильича Чайковского и он, переродившийся, встал… Он видел ЭТУ музыку. Так прозревают слепцы. Нежно-нежным крылом забилась она о брег сердешный и словно отозвались эхом многоголосым зазывные, тёплые дали – во черни[2 - Во черни – в тайге], мшаринах, в кровавых разлучных слезах и с памятью светлой, святой… о завтрашнем дне.
Толе казалось: летит, парит в струях наплывных, стозвонких – встречь судьбе. В счастливый придел!..
Он – шёл. Неосознанно. К девочке. К роялю. Выпучив глаза, вздёрнув руки (по-шатунски – лапищи), тотчас опустив их, потом за голову схватившись и шепча губами молитву незнаемую, на алтарь Музыки приносимую…
Он НА МУЗВІКУ ШЁЛ!..
…остановился инструмента подле, взглянул на клавиши, на ручонки принцессы – испариной покрылся лоб, дрожь в коленях не унималась… Молчал, внемля…
А музыка продолжала звучать.
Ах, как же звучала она! И не было ничего вокруг, в нём самом – нигде, никогда и ничего, оказывается, не было и в помине – ни этого огромного плавучего музея, ни Кандалы Старой, ни тайги, сквозь которую широко и плавно струит величавая Лена, ни Зарудного. Ничего, кроме невесть откуда взявшейся, им самим не подозреваемой его… его ли?? души – души истинной, доселе неведомой, не предполагаемой даже… кроме движения – по живому, её, души этой новорождённой, в душу старокандалинскую, всегдашнюю, чтобы поддержать сердечко-то, мякиш, который с каждым звуком всё более метался, мучался в груди, разрывался и не мог разорваться на части.
…Несколько лет назад впервые он ощутил потребу из лоскутков бересты, камушков, обточенных временем ли, волною накатистой, из молоденького и крепкого кедрача – да из чего попало, буквально всего! – разные игрушки и куколки мастерить. Что-то получалось, что-то не очень – его привлекал сам процесс, зуд в пальцах унять хотелось, да полюбоваться после на творение рук своих. Так вот, страстишка оная час от часу становилась забористее и куды-ы там испарилась? – напротив, за грудки инно брала! Не отпускала! Поделки, что выходили из-под рук золотых, ублажали малышню. Он щедро дарил детворе бедняцкой милых, забавных дружков, ни на что не похожих, и только «лесного человечка» оставил себе – то была наилучшая, удачнейшая работа, поскольку с особенным, радостным подъёмом, по наитию, вдохновенно лепил-вытачивал «товарища по несчастью», любил, одухотворял куклёнка, делил с ним печали и светлые минуточки редкие, разговаривал с игрунчиком и когда трудился над ним, и тем более после, ведь лесовичок всёшеньки разумел, хоть и не отвечал, нем был, нем, но не глух и охотно помогал сиротинушке… Прошкой! называл Толя с горечью сладкой деревянного небожка. И берёг пуще ока зеницы…
И вот сейчас, музыку слушая, проникся мыслью-озарением: впредь также будет разные диковинки создавать, глядишь, на хлеб-соль… хоча-а… Мысль сия стала предтечей потока иного, неожиданного. Вспыхнув, не померкнув, толкнула сознание… И выкристаллизовалось главное решение, кремневую твёрдость обрело, ясность полную и ошибки здесь, сомнений малейших не было.
Тем временем кончилась Музыка…
– А меня Клавой зовут. Давайте знакомиться!
«…а меня клавой зовут… давайте… знако… клавой зовут…»
И он не выдержал, не стерпел: вон, шеметом бросился, анфиладу, дворцовую ажно, в обратном направлении пронзив, на свет вынырнул из сокровищницы сказочной, чуть ли не прыжком – вниз, туда, где жил-пахал, выхватил из закутка, ему выделенного, «ПРОШКУ» (тот дремал прилежно!] и они уже вдвоём(!) наверх помчались, в рай запретный, где один из них, он, Толя Глазов, оставил не частицу – часть огромную себя и часть эта растворилась без остатка в звуках чарующих, в образе Лебяженьки-феи по имени «…а меня клавой зовут…»; рывком взметнулся он вдругорядь за последние полчаса без малого наверх, одним-единым махом преодолел барьеры, запреты, приказания… и, не говоря ни слова, протянул на ладони «братишку»…
– Это мне? Ой, здорово как! А у него имя есть?
5
…«ГРОМ» продолжал свой путь по широченной, в жизнь человеческую, Лене-реке.
Толя и Клава подружились. Им нравилось тайно от всех встречаться в укромных местах, которых на большом пароходе было предостаточно, заранее договариваясь о времени и месте свиданьица очередного, хотя общение дочери миллионера с простым, забитым пареньком, вкалывающем без продыху-разгибу по десять-двенадцать часов в сутки, походило на бунт против норм-приличий светских, социальных, так сказать! Толю подкупала в девочке чистота. Чистота и непосредственность. Знал: отец Клавы – изверг, но разумел также, что дети, маленькие, не повинны в грехах и преступлениях родителей. И уж подавно пороки грязные отцов не распространяются на таких вот очаровательных «маловок», созданных природой самой из упований, надежд на грядущее благолепие мира – не должны прорастать плёвела сорные на ниве нежной, богданной!.. Жизнь научила его жить: думать и поступать по высшей справедливости, не по годам мудро. Девочка представлялась ему открытой книгой без слов. Текст решил написать сам и этим бросить вызов миллионеру, отнять у него дочь. Конечно, он только подсознательно, безотчётно думал про такое и побуждения оные носили поначалу не определившийся до конца характер, однако бежали дни, пропадали за кормой мили сибирские и в сердце подростковое отчётливей и настойчивей билось желание спасти Клавушку от алчности, присущей барчукам, сохранить в ребёнке безгрешность и святость земные… «Покуда рядом – не дам сатане на растерзание душу кристальную!» – примерно так думал он, заодно понимая, что поступая столь верно, решительно, целенапористо, непременно отмстит(!] и за собственные раны былые, и за боль Кандалы всей. Не по возрасту ответственный, серьёзный выбор свой сделал не сразу. Но в одночасье. Излишне говорить, что Клаву в планы сии не посвящал и что относился к ней не как к объекту некоего эксперимента – относился к Другу нежно, заботливо – как к чему-то сокровенному, дорогому, за что готов был биться не покладая рук, по крайней мере, попытаться, ведь ещё неизвестно, когда встретит-найдёт Зарудного… А на пароходе этом он, похоже, будет долго, не одну навигацию: Кузьмич явно сдаёт, так что… Встречаться же с Клавушкой вдали от сторонних глаз-ушей было здорово и полезно – прежде всего, для неё!
В свою очередь и Клава испытывала к юнцу, выглядевшему, между прочим, гораздо старше и мужественнее четырнадцати (без малого] лет своих, с одной стороны, робость, чуточку даже сторонилась всегда грязного, лохматого «дяди мальчика» (так она про себя его называла], но одначе скорёхонько к Толе попривыкла, а приобыкнув, приняла таким, какой он есть – в саже, с едучим, острым запашком пота, немногословного и – главное! – доброго. Доброго. Он стал для неё старшим братом – иным не представляла. Клава или не замечала нищенских лохмотьев на нём – не замечала и всё тут! или же начинала, играючи, приводить всё это по возможности в порядок: оттирала пятна, малюсенькими ножницами подравнивала ногти, стригла заусеницы, что-то там зашивала, нередко таскала ему, голодному, вкусности разные, каких он, отродясь, не видывал и не ел… Он ведь тоже был из сказки – вот что преобладало в её отношении к нему. Сказки же бывают разные и кому-кому, а взрослым это известно хорошо…
Однажды, потеряв бдительность всякую, завороженно стояли в одном из особых мест, уютно уединясь, поскольку тянуло друг к другу и противиться чувству сильному не могли. Завороженно, ибо очаровывала, околдовывала расчудесная палитра таёжная.
В радужной, слегка подрумяненной карусели брызг, пены, бликов, отражений угадывалась восторженная, приподнятая нота – всё в мире… в мире и согласии сосуществовало, дышало искренностью, томилось, искрило прямо-таки в приметах первых заувядания – лето преломилось уже… осенело… Пело, цвело-доцветало, увы, кругом!.. Солнце плавило кроны, осеняло клубы дымчато-зелёные дерев и кустарников, их пепельно-сизые вдали массивы и это делало берега более задумчивыми, рельефными. Оно швыряло со всего маху золочёную пыльцу на паутинки, дымочки летучие и те мерцали, мерцали ответно… долго… а солнце, притомившись, покрывалось налётом, надцветом аленьким, загустевало маково… уже не так ослепительно… Задевало скалы прибрежные-причуд-ливые, верхушки великанов статных от хвой… посыпало цве-томётно мириадом осколочков, дребезг, искр, згой, раззвёздною аки, и реку, и землю, и глаза прищуренные… чуть-чуть… Штрих-блёсточки ливней этих солнечных, мельтеша в бирюзе подобием крылышек стрекозиных в садах, гасли быстро, в никуда на лету канули и тогда взгляду открывалась омытая светами лучистыми, первозданная, чёткая, с исподу глянцевитая панорама далей… ближних и заокоёмных, в прогалинах внезапных-сквозящих – капелька в море, да, но какая, какая!
И с минуточкой убегающей каждою добавлялось в акварель звонкую по мазочку турмалиновой цвети – это с заходья просачивались разводы по атласу… покрова… Ложились на синесвод неба, на синьку вод Лены неброскими подтёками, тенётами уже… пеленали их в предзакатные рдяные лепестки. И багровели берега, и темнели урманы, углублялись в себя, серели нежно прогалины, долы расписные, поля-луга…
Неохватная блажь, обещание манны небесной – зарочной! – а под ними – сокровищница сокровений земных: разливы, дали, полёт в заокоём!.. Подвенечная улыбка… алая, многозначительная, многообещающая на устах чеширских словно… то тут, то там… из ниоткуда? в никуда?
Скосив глаза в сторону девочки, Толя вдруг впервые будто заметил: до чего же прекрасна Клавуня! Чтой-то себе лопочет, тараторит, потом замолкает, а на личике, в сусальных возблесках купающемся, ландышем ли распустилась, с губ ли чьих коралловых на её, детские, слетела ответная улыбка… ещё более алая, тёплая и готовая, казалось ему, вот-вот выпорхнуть с веточки, где насиженное гнёздышко души чистейшей свила, и затем плавно, тихо вплыть под навес обетованный, под сень хрустальную, купол прозрачный – встречь безбрежью гульливому… к голубо…певной мечте!..
Бесконечно, изнутри словно, разворачивалась тайга и, вторя ей, но только не подражая, разматывалась с плеском невнятным перламутровая лента Лены, по которой неустанно, неостановимо полз «ГРОМ». Брала начало недалече – за горизонтом, вытекала из зарности палевой сразу, хотя, в действительности, долгое время текла по широтам сибирским и далеко на севере впадала в океан ледовитый, а не в бирюзовость тёмную, Фаворскую…