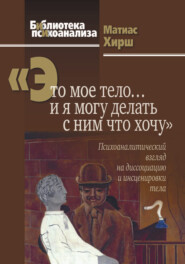скачать книгу бесплатно
Представление Шенгольда (Shengold, 1979) о вертикальном расщеплении частей «Я», обособлении как попытке совладать с травмой (аналогия с теориями диссоциации Жане уже упоминалась) хорошо применима к диссоциации «Я» и тела. В литературе тело обозначалось и как контейнер (Meltzer, 1986; Bovensiepen, 2002; Pollak, 2009), и как «не-контейнер» (Gutwinski-Jeggle, 1995). По этой модели тело становится сосудом, который вбирает в себя травматическое насилие, место, в котором травматический интроект вновь становится материальным, так сказать, экстернализируется в тело. Но если подумать о модели контейнера в категориях отношений, то оно обретает функции объекта. Оно словно тело того ребенка, ставшего когда-то жертвой насилия или агрессии, которое освобождает остальные части «Я» от идентичности жертвы. Такое понимание встречалось у Плассмана (Plassmann, 1989) в связи с искусственно вызванными заболеваниями. Подобно тому как пациентка искусственно вызывает болезни, есть матери, которые вполне сознательно вызывают у своих детей искусственные, зачастую опасные для жизни болезни: это замещающий синдром Мюнхгаузена, в динамике которого мать регулярно лжет (выступая Мюнхгаузеном), т. е. нуждается в ребенке и его заболевании настолько, что боится раскрытия истинной причины его болезни. В абьюзивных семьях ребенок (или дети) зачастую становится тем, кому адресовано содержащееся в семье насилие, его своеобразным контейнером. Динамику девочек-подростков, склонных к самоповреждению, можно понять именно так: девочка производит обмен ролями «преступник – жертва», делая жертвой свое тело. Теперь она агрессор, а не жертва, она не беспомощна и не должна подчиняться, она может принимать решения и обретает власть, которой у нее нет в других ситуациях.
Тело как суррогат матери
Это происходит с каждым маленьким ребенком (по меньшей мере, в нашей культуре), который начинает воспринимать себя отдельно от матери и должен прийти к болезненному пониманию того, что утратил свое всевластие, которым иллюзорно обладал в слиянии с матерью, пока еще верил, что по собственной воле организует и контролирует материнское окружение. Разочарованный ввиду своей прогрессирующей способности к реалистичному восприятию и ментализации, ребенок создает у себя в фантазии суррогатный объект, над которым у него есть власть, который он может использовать как спутника, как утешение, в конце концов, как суррогат матери. Винникотт (Winnicott, 1971) совершил гениальное открытие, выяснив значение знаменитого плюшевого мишки. Конечно, это может быть и другой объект – куколка или одеяло, в любом случае объект этот мягкий, но это не сама вещь, а, скорее, фантазия, которая в ней воплощается. Винникотт расширил эту идею и перенес ее на область игры вообще, а оттуда – на креативную деятельность человека вплоть до религии – все эти создания можно понимать как переходные объекты, которые помогают человеку выживать психологически. Переходный объект маленького ребенка помогает ему заснуть. Когда ему уже нельзя лежать рядом с матерью, чтобы безопасно совершить тяжелый переход от бодрствования ко сну, тогда по меньшей мере переходный объект должен выполнить эту функцию – для многих детей заснуть без медвежонка немыслимо.
Более или менее патологическим образом собственное тело тоже может использоваться как переходный объект. Например, кто-то перед сном задумчиво трогает контур своего тела вновь и вновь, будто проверяя, целое ли оно, а потом спокойно засыпает.
Одного пациента, исполнившего свою детскую мечту стать капитаном (чтобы управлять огромным материнским кораблем), в детстве сильно бил отец. Он рассказал, что перед тем, как заснуть, он не укрывался в нетопленой комнате. Так он мог чувствовать, как мерзнет тело, и одновременно продолжал дело отца и наказывал себя сам. Уже Карл Филипп Моритц (Moritz, 1785/1972, S. 29) видел связь между самоповреждением, деперсонализацией и заботой о себе.
Сама мысль о собственном разрушении была ему не только приятна, она даже вызывала сладострастное ощущение, когда по вечерам он прежде, чем заснуть, живо воображал себе распад собственного тела.
Есть и другое измерение: тело берет на себя функцию объекта не только агрессии, когда посредством самоповреждения и истощения при анорексии оно становится идеализированным материнским спутником. В соответствующих главах я к этому вернусь. Собственное тело как объект в рамках психоаналитической травматологии занимает меня уже давно (Hirsch, 1989a, 1998a, 2002a). У многих пациентов, страдающих болями, можно наблюдать, что посредством боли тело становится ощутимым, оно существует, присутствует и таким образом становится своего рода спутником и, соответственно, особенно при длительной терапии, пациенток можно уличить в том, что они совсем не хотят избавляться от своей боли, мечтают сохранить ее, чтобы не остаться без нее в одиночестве (Hirsch, 1989c). И даже в случае семейного насилия, будь то насилие сексуальное, физическое или же (эмоциональное) пренебрежение: все было бы слишком просто, если бы агрессор был представлен в психике ребенка, а затем и взрослого пациента исключительно негативно. Ребенок бы не выжил, если бы отец и мать были исключительно врагами и насильниками – всегда есть и положительные черты. А посредством идеализации и идентификации с агрессором образ неудовлетворительных родителей становится более приемлемым. Ни один из детей, которые подвергаются насильственному обращению, не может отказаться от родителей, он не хотел бы добровольно покинуть семью (если не принимать во внимание экстремальные случаи, но в таких семьях ребенка можно обозначить как суицидального, ему уже безразличны как связи с родителями, так и связи с жизнью). Социальный работник, который желает ребенку добра и хочет забрать его из абьюзивной семьи, получит от ребенка своего рода подножку. Так же и пациентка держится за свое болящее или кровоточащее тело, потому что иначе она якобы окажется совсем одна. Кроме того, в восклицании «Это мое тело!» содержится бунтарский триумф, позитивный момент власти, ведь некоторые девочки выставляют свои вызванные самоповреждением шрамы напоказ с гордостью, словно амулет (Paar, DKPM-Frhjahrstagung, 1992), но чаще всего девочки эти шрамы все же скрывают. В любом случае анорексички гордятся тем, что создали в своем, уже стоящим на краю могилы теле антимать, не-мать, диаметральную противоположность матери с ее презираемым жирным телом.
Тело как переходный объект
Даже собственное тело может использоваться как переходный объект: это известно с тех пор, как Джон Кафка (1969) опубликовал работу «Тело как переходный объект: психоаналитическое исследование самоповреждающего поведения пациента». Пациентка Кафки сравнивала кровь с «одеялом безопасности», мягким «одеяльцем», которое используется подобно плюшевому мишке. Пациентка говорит: «Пока у нас есть кровь, мы в определенном смысле носим это потенциальное „одеяло безопасности“ с собой, оно дает тепло, словно защитная оболочка» (S. 209). Одна пациентка выразила материнскую функцию собственного тела следующим образом: она рассказала, что страстно хочет танцевать, причем в одиночестве. Тогда она могла бы переживать счастливые эмоции, связанные с телом, чувствовать себя будто мать, которая держит на руках младенца. В этом состоянии она отделена от тела, которое танцует в одиночестве: «Я могу передать себя ему, тогда я исполню желание симбиоза с самой собой». Она закрывает глаза, ей больше никто не нужен. Ощущение всемогущества и независимости, триумфа описывает Кернберг (Kernberg, 1975, S. 149): «У многих пациентов с тенденциями к самоповреждению, которые пытаются освободить себя от напряжений любого рода посредством причиняемой себе боли (тем, что режут себя, обжигают кожу и т. д.), можно наблюдать искреннее желание к саморазрушению и огромную гордость за обретенную посредством него власть, своеобразное ощущение всевластия и гордости за то, что не нужно прибегать к помощи других, чтобы достичь удовлетворения». К идее замещения матери переходным объектом я добавил еще кое-что (Hirsch, 1989b, S. 18): «Переходный объект должен обеспечить не только утешение перед лицом одиночества и объединения с хорошей матерью, он служит и защитой от „плохой“ преследующей матери. Если эта защита создана самостоятельно, возникает прекрасное чувство – ты не подчиняешься никому, что, кстати, выражается в форме отказа от отношений с внешними объектами, особенно терапевтами. Эти внешние материнские объекты, которые хотят и при этом не могут помочь, должны чувствовать свою беспомощность, соответствующую всему масштабу всемогущества пациента». Этот – мазохистский – триумф над материнским объектом, наряду с самоповреждающим поведением, имеет место при анорексическом расстройстве, как мы увидим ниже, где истощенное тело становится самостоятельно созданной анти матерью, триумфальным антагонистом реальной матери, тело которой ни в коем случае не должно стать образцом для растущей девушки. А при булимии пища становится (переходным) объектом, над которым у «Я» есть абсолютная власть.
Использование тела для установки границ
Третья функция тела, которое подвергают дурному обращению, – это установка границ. Причиняющее боль, поврежденное тело служит тому, чтобы отстранить от тела объекты, переживаемые как интрузивные (например, партнера, собственных детей, других близких). Так, болезненная и мокнущая экзема держит партнера на расстоянии. В то же время впечатляющее, быстро успокаивающее действие самоповреждающего поведения, которое мы уже упомянули выше, объясняется тем, что болезненная, кровоточащая поверхность тела становится ощутимой и таким образом образует границу «я-тела», суррогат границы «Я», искусственную границу тела, которая должна, словно протез, защищать границу «Я» от опасности дезинтеграции. Она как «вторая кожа» (Bick, 1968), искусственно созданный корсет, который предотвращает вызывающую страх дезинтеграцию «Я». Эстер Бик, которая исходит из понятия недифференцированного психосоматического «Я», считает, что части психики не отделены от частей тела, а должны удерживаться вместе с помощью кожи как внешней границы. Анзьё ссылается на Бик.
Внутренняя функция удержания частей «Я» вместе является следствием интроекции внешнего объекта, который может держать части тела. Этот контейнированный объект обычно переживается младенцем при грудном вскармливании двойственным образом: как переживание материнской груди во рту и в то же время как ощущение собственной кожи, которая удерживается кожей матери, держащей его тело, ее тепла, ее голоса, ее знакомого запаха. Контейнированный объект переживается конкретно, как кожа. Если контейнированная функция интроецирована, ребенок может обрести представление о внутреннем «Я» и разделенности «Я» и объекта – каждый в своей коже. Если функция холдинга исполняется матерью неадекватно <…>, ребенок не интроецирует ее и вместо нормальной интроекции возникает длительная патологическая проективная идентификация, которая ведет к нарушениям идентичности. Состояния неинтеграции сохраняются (Anzieu, 1985, S. 250).
Тройственная функция диссоциированного тела, или «я-тела», тела как части «Я», как внешнего объекта и как органа-границы также отмечается Анзьё (там же, S. 127) в связи с теорией границ «Я» Пауля Федерна. Терапевтические интервенции нацелены на то, чтобы усиливать границы «Я», исправлять ложные реальности и «правильно использовать тестирование реальности». Этот вид терапии в конце концов должен придать «ясность в отношении тройственного статуса тела пациента: как части „я“, как части внешнего мира и как границы между „я“ и миром».
Диссоциация тела в ситуации травмы (перитравматическая диссоциация)
Хотя диссоциация «Я» и тела повсеместна и повседневна, ее патологические формы возникают в результате тяжелых травматизаций. Диссоциация служит защитой от всепоглощающего страха уничтожения. Она возникает и в ситуации травмы как непосредственная реакция на актуальное травматическое событие, и позднее, в аналогичных травме ситуациях, когда возникает похожий страх уничтожения, от которого требуется защититься. Целые области психики отделяются от «Я» и становятся управляемыми, так как за расщеплением следует их отрицание и отвержение: это касается таких областей, как память, аффекты, символизация. Так же и телесное «Я» отделяется от психического или целостного «Я». Иными словами, часть приносится в жертву, чтобы спасти целое. Идею расщепления тела можно найти уже в конце XIX века у Жане: «Теория диссоциации Жане <…> утверждает, что как соматоформные, так и психические составляющие опыта, реакций и функций могут быть закодированы в подсистемах психики, чтобы избежать интеграции в целостную личность» (Nijenhuis, 2004, S. 97). Это защитная функция диссоциации как расщепления. С другой стороны, диссоциация может описывать некое состояние, а именно не слишком удачную попытку справиться с травматическим опытом или его эквивалентом в дальнейшем, в ситуациях, запускающих диссоциацию. В этом случае речь идет об измененных состояниях сознания, таких как амнезия или транс, вплоть до расщепления частей личности, и в это частично вовлекается тело. Например, переживания деперсонализации нередко являются переживанием деформации тела или его частей.
Беате-Теа Тидерманн увидела по телевизору фильм, где речь шла о сексуальном насилии. Если бы она знала об этом заранее, она бы не стала смотреть фильм, но насилие там было представлено так деликатно, что она досмотрела фильм до конца. Насилие – это ее тема, она даже не знает, как это объяснить… После фильма она чувствовала себя нехорошо и переживала странные состояния, ее тело изменилось, стало бесформенным в одном месте и скукожилось в другом. Тогда же возникло чувство, что голову защемило. Когда она ощутила, куда выросло тело в ее представлении, у нее возникло чувство, что оно действительно там, хотя она знала, что его там нет. Мне вспоминается картина, как я говорю ей: «Чувство деформации тела представляется мне так, будто амеба скручивается, отодвигает свое одноклеточное тело, чтобы избежать опасности, захвата». Тогда пациентка говорит: «Сейчас я думаю о ситуации три года назад, т. е. тогда я была уже взрослой. Это было во время приема у отца, который посадил меня к себе на колени на террасе так, что моя грудь оказалась у него в руках, а когда другой гость это заметил, отец сказал: „Я имею права подержать за грудь собственную дочь…“ Тогда я совершенно отключилась, не могла ничего сказать и позволила делать это со мной, а если бы меня тогда спросили, правильно ли это, я бы ничего не возразила против его действий». Только часть ее, которую она называет «другая», терроризирует, протестует, не позволяет себя подавлять, обращает на себя внимание, причиняет ей боль и парализует, так что она не может ходить на работу. Эта часть не оставляет ее в покое. Пациентка рассказывает о диссоциативных реакциях как в самой ситуации насилия, так и в реакции на актуальные события, которые сталкивают ее с темой насилия.
К этим состояниям диссоциации, при которых отщепляется тело, относятся также конверсия, ранее известная как истерия, и формы соматизации. Непросто собрать все эти разнообразные психические состояния и телесные реакции, т. е. диссоциативные переживания тела, в нозологическую общность. Сегодня царит убеждение, что объединяет их этиология, т. е. травматизация. Хофманн с соавт. (Hoffmann et al., 2004, S. 127) поднимают вопрос о том, существуют ли диссоциативные нарушения, истерическая конверсия и соматизация параллельно в смысле ко-морбидностии их возникновения или же (с чем я склонен согласиться) сегодня стоит «расширить список расстройств, примыкающих к диссоциации (симптомы конверсии, диссоциативные симптомы вплоть до диссоциативного расстройства личности) <…> за счет общего генезиса в смысле этиологии травмы, и включить в этот ряд и другие расстройства. Речь здесь идет <…> в первую очередь о посттравматических стрессовых расстройствах, комплексном посттравматическом стрессовом расстройстве, пограничном расстройстве личности и расстройстве соматизации. Различные картины расстройств <…> составляют здесь своего рода феноменологически дифферентный континуум различных нозологических субъединиц, объединяемых общей этиологией, хотя масштаб травматической составляющей в любом случае варьируется».
Исследователи видят «иерархию, которая простирается от диссоциации как нарушения функций сознания через конверсию (нарушения функции сознания и телесных функций) до соматизации как расстройства исключительно телесных функций» (там же, S. 126). Кохут (Kohut, 1971) различает горизонтальное и вертикальное расщепление: эта оппозиция маркирует разницу между более динамическим пониманием вытеснения у Фрейда (так сказать, сверху вниз) и пониманием диссоциации у Жане, который представлял различные разделы личности скорее дескриптивно (ср.: Hoffmann et al., 2004, S. 114 и далее). Шенгольд (Shengold, 1979) использовал понятие вертикального расщепления при травматизации: он говорит о компартментации как попытке совладать с травмой. Отщепленное «я-тело» я бы понимал как один из таких разделов, как субсистему, в которую смещается травма, чтобы сохранить психическое «Я» и выжить.
Особенно впечатляют рассказы о диссоциативных телесных феноменах, которые возникают при травматизации. Жертвы «в определенной мере покидают свои тела» и «наблюдают нарушение телесной целостности будто со стороны» (Dulz, Lanzoni, 1996, S. 20). Об этом пишет Джулиана Сгрена, которая провела четыре недели в плену в Ираке в 2005 году.
Парить между жизнью и смертью. Надежда сменяется отчаянием, иллюзия – разочарованием. 24 часа в сутки наедине со своими мыслями, я иногда боюсь сойти с ума. Все, что окружает меня в плену, реальное и вымышленное, я интерпретирую как послание жизни или смерти. Я классифицирую каждый звук, анализирую каждое событие, каждый взгляд. А когда мои мысли заигрывают со смертью, у меня порой возникает чувство, что я действительно расстаюсь с жизнью: я вдруг перестаю чувствовать свое тело, как будто оно отделилось от духа, я начинаю смотреть на себя со стороны. Но в этом чувстве нет ничего трансцендентального, оно больше похоже на стратегию защиты: возможно, мне это нужно, чтобы исторгнуть смерть, или же это попытка сбежать из темной комнаты, в которой заключено мое тело. Спустя несколько минут это чувство изменяется, оно становится еще неприятнее. Когда я вздрагиваю, я чувствую ледяной холод в ступнях и по кусочкам снова начинаю чувствовать тело. В эти моменты я нахожу это даже успокаивающим, когда я, укутанная в гору одеял, начинаю потеть: я жива (Sgrena, 2005, цит. по: S?ddeutsche Zeitung 02.02.2006).
То же мы встречаем и в рассказе о жертве швейцарской системы воспитания, в которой дети овеществлялись, царившей вплоть до 1970-х годов.
Кэти четыре года, когда она оказывается в приемной семье. Ее опекун – толстый крестьянин, который в первую же ночь бьет Кэти по голове, потому что она плачет. Приемная мать отводит глаза. «Здесь, – Катарина Клодель кладет свои мягкие пальцы на картины на стене, показывает на окно, за которым Кэти били, год за годом, – из окна я видела церковный шпиль, и, когда удары были слишком сильными, я думала, что моя голова висит там, на шпиле» («Овеществление и вытеснение» / Verdingt und Verdrngt, S?ddeutsche Zeitung 19.10.2009).
Другой пример приводит Варис Дирие[5 - См. главу «Мутиляция гениталий» в разделе «Инсценировки тела».] (1998, S. 70), описывая обрезание, которое ей пришлось пережить в пятилетнем (!) возрасте.
Мои ноги тем временем совершенно онемели, но боль в паху была такой жуткой, что я хотела только умереть. И вдруг я почувствовала, что вознеслась над землей, оставила свои муки позади и смотрела на эту сцену сверху, видела, как эта женщина латала мое тело, пока моя мать держала меня, извивающуюся. В тот момент я чувствовала только совершенное умиротворение – ни заботы, ни страха.
В литературе о травмирующем воздействии сексуального насилия есть целый ряд описания отключения (tuning out), аффектов и диссоциации тела во время нападения (ср.: Hirsch, 1987, S. 105). Переживания жертвы описываются так: «Я не могу это выносить… это безумие… а я такая маленькая… могу только позволить этому происходить… Крушение… Разрушение слабого» (Eist, Mandel, 1968, S. 230). Жертва сбегает в состояние отключки, в котором уже нельзя доверять своим чувствам. Похожим наблюдением делился уже Ференци (1933, S. 518): «Одолевающая сила авторитета взрослого делает ребенка немым, отбирает у него чувства». Писательница Хербьерг Вассму (Wassmo, 1981, S. 138) описывает защитный механизм жертвы следующим образом:
Единственная помощь <…> состояла в том, что у нее появилось время очнуться, защититься, сделаться бесчувственной перед тем, что ей предстояло, и отделиться от тела в кровати, как от старой одежды.
Пациентки из моей практики часто рассказывают об этом отключении чувств: они либо оставались «пассивными и неподвижными», либо становились «твердыми, как доска». Одна пациентка говорила: «Когда страдание стало слишком сильным, я забавным образом почувствовала себя спокойной и пустой». Экардт-Хенн (Eckardt-Henn, 2004, S. 288) рассказывает похожее: «Молодая девушка <…> долго описывала своего отца, который с шестилетнего возраста принуждал ее к оральному сексу, как любящего и заботливого мужчину. „Он был таким нежным <…>, а когда он стал таким отвратительным <…> и во мне была эта мерзкая штука <…>, тогда появились эти состояния, и я могла как птичка вылетать из себя. Моя голова была отделена, и то, что происходило, происходило не со мной. Мне казалось прекрасным, что он был так нежен, и все было в порядке“».
Когда психический аппарат переполнен страхом, необходимы масштабные и искажающие душевную жизнь операции, чтобы ребенок был в состоянии продолжать думать и чувствовать. Во время остро травмирующих событий человек может лишиться сил или отрезать чувства. При повторяющихся травмах этот механизм становится хроническим. Происходящее так ужасно, что его нельзя почувствовать и зафиксировать – человек предпочитает масштабную изоляцию чувств на фоне смятения и отрицания (Shengold, 1979, S. 538).
Наблюдения такого рода появились давно: у же Ференци (Ferenczi, 1933, S. 519) говорит о состоянии «травматического сна», в котором акт нападения перестает существовать «как жесткая внешняя реальность». В результате во время травмирующей ситуации и впоследствии, в качестве привычки, рождается «механически послушное существо», которого мы знаем из творчества Патрика Зюскинда. Шенгольд (Shengold, 1979, S. 538) обозначает это состояние как «гипнотическое состояние жизни – смерти», жизни «понарошку». Как это понимал уже Ференци, смысл таких экстремальных мер очевиден: без них насилие породило бы всепоглощающие, разрушительные чувства страха, гнева, уничтожения и покинутости, которые заполонили бы и разрушили бы «Я». Если не получается отключиться, возникают реакции, описанные Вассмо (Wassmo, 1981, S. 152 и далее): «Однажды вечером дверь так внезапно заскрипела, что у нее уже не было времени покинуть тело и уплыть в мыслях за окно. Торе пришлось воспринимать все, что с ней происходило. Тогда она начала хныкать, стонать и изгибаться. Она не смогла лежать неподвижно, чтобы этим вечером все опять быстро закончилось. Она не могла совладать с собой». Это беспокойство и самооборона смутили насильника и пробудили в нем агрессию, так что вместо привычных посягательств он перешел к изнасилованию. «Мягким, мягким было сопротивление, оно просило о пощаде и поддавалось. Потом все прорвалось. Тора чувствовала это вне себя, не знала, где это началось и закончилось, это не было связано с ее подлинным „Я“. <…> Она поняла, что это была отвратительная реальность. <…> Она осталась лежать в согнутом положении и хватала ртом воздух, пока не смогла наконец снова дышать. Она лежала на краю кровати, разделенная надвое. Нижняя половина была другим человеком».
Двухэтапная защита: диссоциация как защита от эквивалента травмы и отщепление тела как защита от состояния диссоциации
Я хотел бы ввести понятие двухэтапной защиты, последовательные фазы которой не так легко различить, потому что термин диссоциация используется для обоих. Мы узнали о диссоциации в качестве защитного процесса, спасения или попытки спастись от разрушительных последствий самого травматического воздействия. Впоследствии травмированные люди очень чувствительны к, в общем, безвредным стимулам, которые, однако, приобретают огромное значение из-за некоторой связи с первоначальной травматизацией. Аарон Аппельфельд (Appelfeld, 1999/2005) приписывает эту уязвимость памяти тела (можно назвать ее процедуральной, или травматической, памятью).
Из военных лет у меня осталось всего несколько воспоминаний, как будто это длилось вовсе не шесть лет. <…> Вот и все о том, что принято называть сознанием. Но руки, ноги, спина и колени знают больше, чем память. Если бы я мог что-то создать из них, картины заполонили бы меня (S. 8 и далее).
Все, что произошло в то время, было запечатлено в клетках моего тела. Не в памяти (S. 95).
Память, похоже, имеет длинные корни в теле. Иногда запаха гнилой соломы или птичьего крика достаточно, чтобы забросить меня вглубь себя (S. 57).
Уже Ференци (Ferenczi, 1921, S. 211) говорил о памяти тела, которая постулирует «„систему памяти эго“, перед которой стоит задача регистрировать собственные телесные и соответствующие психические процессы». В дальнейшем он обозначает систему, которую я называю памятью «Я», как память тела, которая регистрирует и хранит психические и физические события из истории «Я». Кроме того, он говорит о воспоминаниях, связанных с болью (S. 214), и называет это «системой памяти „Я“» и «системой памяти органов» (см.: Hirsch, 2002c).
Опять же, как и в травмирующей ситуации, возникает панический страх, от которого, в свою очередь, нужно защититься: через диссоциацию, психическое дистанцирование, отключение, через «травматический транс». Однако это диссоциативное состояние может стать настолько угрожающим и невыносимым, что от него тоже нужно будет защититься. И это происходит через расщепление аффектов или, в первую очередь, самого «я-тела» (путаницу вносит то, что здесь также говорится о диссоциации «я-тела»). Представьте себе пациентку-подростка, травмированную в детстве и испытывающую связанный с травмой невыносимый диффузный страх, из-за которого реальность грозится ускользнуть от нее и который на самом деле является страхом разрушения «Я», дезинтеграции и кошмарной пустоты. Это состояние соответствует первоначальной травмирующей ситуации и борьба с ним ведется теми же средствами: расщеплением частей «Я», т. е. диссоциацией как механизмом защиты. Но если итоговое состояние снова невыносимо, вторая фаза защиты вступает в силу: при отщеплении тела создается «другой», которого можно использовать для облегчения страданий «Я». Это расщепление позволяет воздействовать на тело, что может привести к большому облегчению. Таким образом, двухфазную защиту можно охарактеризовать следующим образом: диссоциативное состояние (отключение, травматический транс) отгоняет чрезмерный страх перед психотической дезинтеграцией, а если диссоциативное состояние, в свою очередь, невыносимо, то посредством расщепления «я-тела» от него можно защититься агированием в отношении тела. (Это мнение разделяет Эккардт-Хенн, личное сообщение, 2006.) Подросток теперь мысленно отделяет свое тело и использует его как внешний объект; акт самоповреждения действует как внутривенная инъекция психотропного препарата (Sachsse, 1994) против невыносимых состояний напряжения. Искусственно вызванные заболевания и приступы патологического пищевого поведения обладают столь же успокаивающим, стабилизирующим эффектом. Другие патологические явления также основаны на расщеплении «я-тела» или репрезентаций частей тела или органов. Я бы причислил к таким проявлениям ипохондрию, дисморфофобию, фиксированные расстройства питания, такие как подростковая анорексия, психосоматические заболевания и расстройства соматизации.
Пожертвовать частью, чтобы спасти целое
Ференци (Ferenczi, 1921, S. 216) понял смысл расщепления репрезентативных частей уже на раннем этапе развития психоанализа. Он сравнивает саморазрушительные телесные привычки, такие как склонность к расцарапыванию кожи и самоповреждению, с «автотомией» некоторых более примитивных животных (см. также: Hirsch, 2002b), которые жертвуют частью тела, чтобы спасти все тело. Ференци уже тогда рассматривал феномен расщепления «я-тела» (там же, S. 221). Он описывает состояние каталепсии, «при котором даже собственное тело воспринимается как нечто чуждое „Я“, как элемент внешнего мира, судьба которого совершенно безразлична обладателю тела». Конечно, в качестве примера «низших животных» сразу приходит в голову ящерица, которая жертвует своим хвостом в поисках безопасности. Для нее это несложно, ведь хвост снова отрастает. В «Детском анализе со взрослыми» Ференци описывает пациента, который «<просыпается…> от травматической комы с нечувствительностью и трупоподобной бледностью одной руки. Нетрудно было обнаружить смещение всех страданий, даже умирания, на одну часть тела. Трупная бледность руки стала репрезентацией всего страдающего человека и окончанием его борьбы в бесчувственности и умирании (Ferenczi, 1931, S. 506 и далее).
Принцип принесения в жертву части для спасения целого Куттер (Kutter, 1980) впоследствии применил к психосоматике. Он говорит о «репрезентациях ампутированной части тела» и пишет: «Части репрезентаций тела приравниваются к объекту, подобно жертве для спасения себя» (Kutter, 1981, S. 55). Пациент Куттера говорит: «Я предложил родителям сожрать мою печень. Вот как я спас себя» (там же). В письмах Франца Кафки к его невесте Милене (см.: Gutwinski-Jeggle, 1997) есть отрывок, в котором описывается именно это расщепление. Кафка пишет в апреле 1920 года: «Объяснение, которое я в моем случае дал болезни, подходит <…> ко многим другим случаям. Мозг больше не мог выносить беспокойство и боль, возложенные на него. Он сказал: „Я сдаюсь. Если есть кто-то здесь, кто еще заботится о сохранении целого, тогда он может освободить меня от моего бремени, и тогда можно еще продержаться“. Добровольцем выступило легкое, ему особо нечего было терять. Эти переговоры между мозгом и легким, которые происходили без моего ведома, возможно, были ужасными» (Kafka: Briefe an Milena, 1994, S. 7). Мы знаем, что Кафка страдал от туберкулеза и в итоге пал жертвой этой болезни.
В не слишком известном фильме «Тень и туман» Вуди Аллена 1992 года друзья в борделе рассуждают о своем отчаянном социальном положении, и один из героев говорит: «Так много раз мой мозг велел мне прекратить это все, ведь это не имеет смысла! Но моя кровь каждый день говорит мне: „Живи, живи!“».
Точно так же пациентка со злокачественной опухолью пыталась сделать все возможное, чтобы помочь своему организму выздороветь. Она занималась релаксацией, придерживалась здоровой диеты и узнала от своего целителя, что нужно «визуализировать» органы: она говорила с печенью, в которой уже росли существенные метастазы, гладила живот в области печени и говорила: «Ну, мы должны справиться…». Она даже беседовала со своей иммунной системой, извиняясь, что не обращалась с ней хорошо и нагрузила ее чрезмерной работой в прошлом, что не уделяла достаточно внимания тому, чтобы избежать стресса.
Яркий пример, описанный в прессе в мае 2003 года, может проиллюстрировать принцип жертвоприношения части тела во спасение целого.
Альпинист спас себе жизнь, ампутировав руку карманным ножом
Солт-Лейк-Сити. Чтобы спастись, американский альпинист принял самое сложное решение в своей жизни: Аарон Рулстон в отчаянии отрезал себе руку карманным ножом, после того как провел пять дней, придавленный валуном. Туристы нашли 27-летнего альпиниста в четверг в Национальном парке Каньонленд, штат Юта, с культей руки до локтя. «Этот парень – редкий герой», – сообщил в пятницу агентству AFP в Солт-Лейк-Сити сержант полиции Митч Ветере: «У него была воля к жизни, которой нет у других людей. Это невероятно». По словам Ветере, в субботу Рулстон отправился в поход в Голубой Каньон, где его придавил отвалившийся кусок скалы. Через пять дней молодой человек ампутировал себе руку перочинным ножом, соскочил с 21-метровой скалы и прошел еще восемь километров, пока не встретил туристов. Затем они предупредили шерифа и его коллег, которые уже прочесывали Национальный парк в поисках пропавшего без вести. После того как нашли брошенную машину Рулстона, его объявили в розыск. «Он был в сознании и полностью спокоен, хотя мы могли видеть ужасную травму, которую он себе причинил», – сказал шериф. Рулстон сам наложил себе повязку. «Единственным, что он попросил у нас, была вода». Она кончилась у него за два дня до его отчаянного освобождения. Храбрец из Аспена впоследствии сам сел на спасательный вертолет, который отвез его в больницу в Гранд-Джанкшн, штат Колорадо, на границе с Ютой. Спасатели попытались высвободить его отрезанную руку из-под валуна в пятницу» (AFP).
Дифференциация «Я», «я-тела» и внешних объектов в раннем детстве
За последние годы ни одна психоаналитическая концепция не подвергалась такому пересмотру, как первичный нарциссизм. Фрейд предполагал, что на начальном этапе развития новорожденный полностью сосредоточен на себе и своем теле и не вступает в контакт с объектами внешнего мира. Сегодня мы знаем, что новорожденный постоянно находится в контакте с окружающей средой, имеет ярко выраженную восприимчивость и различает объекты по запаху, окраске голоса или, например, сердечному ритму. Разумеется, возникает вопрос, насколько «компетентный младенец» (Dornes, 1993) способен создавать психологические репрезентации идей и значений взаимодействия, которые выходят за рамки узнавания и распознавания стимулов и реакций на них. Тем не менее Стерн (Stern, 1985) делает вывод из наблюдений младенческих взаимодействий с «ядром „Я“» и описывает так называемые RIG, интернализированные представления обобщенных взаимодействий. Но Цельниг и Бухгольц (Zellnig, Buchholz, 1990, S. 828) отмечают, что сам Стерн (Stern, 1983) предпочитал использовать термин «схема» для этих примитивных представлений, в то время как «скорее абстрактные, поддерживаемые символом внутренние репрезентации» появляются только к концу второго года жизни.
Если и есть противоречия между психоаналитическими концепциями развития и исследованиями новорожденных, их вполне можно разрешить предположением о развивающихся вплоть до высокого символического уровня представлениях о себе, в том числе о «я-теле» и о внешних объектах. Проще говоря, развитие «я-тела» означает, что концепция тела возникает на более высоком символическом уровне. Происходит дифференциация источников, например, телесных стимулов, дифференциация внешнего и внутреннего, собственного тела, неодушевленных предметов и живых объектов. Уже давно есть идеи об этой поступательной эволюции символических качеств телесных репрезентаций. Дери (Deri, 1978) предполагает, что первый уровень – протосимволический (например, сосание большого пальца), второй уровень соответствует переходному объекту и, наконец, за ним следует зрелый лингвистически-ментальный символ. Развивающаяся символическая деятельность сопровождается десоматизацией аффектов (Schur, 1955), т. е. первоначально невидимые психофизические ощущения дифференцируются в реакциях и восприятии тела и, с другой стороны, аффективных реакциях, которые принимают психический характер.
Режим аутистического касания
Можно сказать, что концепцию первичного нарциссизма сегодня сменила идея «режима аутистического касания». Хотя Огден (Ogden, 1989, S. 35) подчеркивает различие между простым физическим рефлексом и режимом аутистического касания, в котором телесные ритмы, движения, контакт с кожей, даже речь воспринимаются и каким-то образом интернализируются, он также указывает досимволический характер этого процесса (там же, S. 32). Младенец не способен к рефлексии и не образует «объект», т. е. представление об объекте. Тустин (Tustin, 1986) конструирует «адгезивное уравнение»: собственное тело приравнивается к объекту для защиты от экзистенциальных страхов растворения «Я», тело объекта – это собственное тело, которое таким образом обеспечивает безопасность. Эти идеи основаны на концепции «второй кожи», разработанной Эстер Бик (Bick, 1968, 1986). Под ней понимается конкретная фантазия о стабильной поверхности тела, призванной бороться с чувством растворения тела или его границ. Соответствующие меры включают как психосоматические реакции кожи (экземы), так и вредные привычки, такие как расцарапывание, накручивание и вырывание волос («трихотилломания»), привычка грызть ногти и «перионохомания», ритмические движения, напевание и т. д. (Мы уже знакомы с такими привычками в связи с созданием суррогата границы «Я» посредством искусственной границы тела.)[6 - В последнее время эти представления, в том числе «адгезивная идентификация» Мельтцера (1975), возводят к идее значения границ «Я» для психозов, которую изначально развил Тауск, а за ним Федерн (1956).]
Джойс Макдугалл (McDougall, 1989, S. 152) акцентирует внимание на континууме границ «Я», тела и материнского объекта, в том числе в переносе, и цитирует свою пациентку, реагирующую кожным заболеванием: «Когда я от вас далеко, по крайней мере, я знаю, что у меня есть кожа. Она говорит со мной и дает мне уверенность, что я живу в ней». Другими словами, ее страдающее тело имело функцию чужеродного переходного объекта. Ее воспаленная кожа давала ей ощущение, что она жива, что ее части удерживаются вместе, и в то же время содержала память о внешнем объекте (аналитик и их «общая кожа», которая давала ей безопасность).
Очевидно, что концепция аутистического касания очень важна для формирования границ «я-тела», а затем и психических границ «Я», в тесном взаимодействии тел матери и ребенка. Огден (Ogden, 1989, S. 51) говорит о «специфическом способе приписывания смысла опыту». Это касается «формирования досимволических связей», а также «образования ограниченных поверхностей». Необработанные сенсорные данные упорядочиваются формированием досимволических связей между сенсорными впечатлениями. Эти впечатления приводят к образованию ограниченных поверхностей» (там же). «Объектные отношения <переживаются> в режиме аутистического касания в форме сенсорных поверхностей, возникающих в результате взаимодействия индивида с его объектами и посредством сенсорных преобразований, которые происходят в процессе этих взаимодействий» (там же, S. 53). В то время как у Малера (Mahler, Pine, Bergman, 1975) реальный, действующий объект играет второстепенную роль, по крайней мере, в раннем младенчестве, Огден придает большое значение рассмотрению действующего объекта, с которым должен осуществляться поверхностный контакт, даже если зрелой символической репрезентации объекта еще нет. Речь идет о «создании форм чувственного опыта, который „лечит“ или „делает приемлемым“ осознание обособленности» (Ogden, 1989, S. 54). Если на этой стадии первичного материнства (Winnicott, 1956) окружающая среда достаточно хороша, отсутствие объекта не должно стать катастрофической угрозой, но может стать стимулом для развития мышления и деятельности. Но если окружающая среда неадекватна, возникает прикрепляющаяся, адгезивная идентификация (по Мельтцеру), которая представляет собой чрезвычайную меру, чтобы не свалиться в необозримую пустоту, «безымянный ужас». Этот термин, введенный Бионом (Bion, 1962b, S. 116), содержит подавляющий страх перед пустотой, но «безымянный» означает отсутствие символизации, которая в противном случае помогла бы преодолеть и сделать переносимым отсутствие объекта. Огден, скорее, говорит о «бесформенном ужасе» (Ogden, 1989, S. 40). Ужас соответствует «безумию младенца», как это сформулировал Винникотт (Winnicott, 1971, S. 113). Цилли Кристиансен, пациентка, купившая пакет яблок, назвала это «большим серым[7 - Немецкое слове «серый» (grau) созвучно слову «ужас» (Grauen). – Прим. пер.] животным».
Если мы согласимся с тем, что физический контакт – неотъемлемое условие для формирования границ и способности к символизации, то мы используем контакт с телом и поверхностью тела, кожей как точку контакта между матерью и ребенком, как метафору для формирования границ «Я». Напротив, у пациентов с серьезными нарушениями, которые были травмированы эмоциональным дефицитом, могут возникнуть конкретные идеи, например, что кожа проницаема, как сито. Пациент Огдена (Ogden, 1989, S. 40), шизофренический подросток, боялся принять душ (там же, S. 60 и далее), как будто тело могло слиться с водой: потеря его собственного запаха тела означала для него потерю себя. Каждое принуждение представляет собой «конструкцию фиксированного сенсорного контейнирования опыта <…> для сенсорного заполнения дыр в ощущении себя <…>, ведь пациент боится <…>, что через них <…> может вытечь реальное содержимое тела» (там же, S. 69). Одна пациентка Бокановского (Bokanowski, 2005, S. 22) развила в ходе анализа страх «опустошения в присутствии аналитика». Иногда у нее даже был «галлюцинаторный» «страх, что через руки вытечет вся кровь». Эти страхи, кажется, возникают все чаще.
При нарушениях на уровне аутистического касания мы снова и снова слышим от пациентов о разрушительных переживаниях, будто они протекают, распадаются или растворяются, и они переживают это так, как если бы на поверхности кожи были дыра или дыры, представляющие опасность смертельного распада (Klwer, 2005, S. 208).
Я сам (Hirsch, 2004c, S. 120) однажды имел возможность наблюдать за пятилетним ребенком, который поранился и в стрессовой ситуации несчастного случая развил этот страх «вытекания».
Ребенок едет на велосипеде по склону во время семейного отдыха, не может выдержать скорость и падает. Отец мчится к нему, ребенок ужасно кричит, у него «дыра в теле» (на колене ссадина). Отец берет ребенка на руки и держит его крепко, тем самым формируя символическую границу тела. Он подтверждает страх, но добавляет, что содержимое тела не может выбежать так быстро, и одновременно успокаивает ребенка сообщением, что дома они тут же наклеят пластырь. Двойное воздействия принятия и эмпатии, а также исправление нереалистичных аффектов собственным успокаивающим аффектом позволяют ребенку провести границу между внутренней тревожностью и внешней реальностью, дают понять, что страх потерять содержимое тела оправдан как фантазия, но не основан на реальности. Ни фраза «Перестань так думать!», ни одинаково сильный страх со стороны отца не помогли бы ребенку на этом этапе.
Я выбрал этот пример с тем, чтобы проиллюстрировать, как опекун воспринимает и признает беспокойство маленького ребенка, а также обеспечивает физический контакт, чтобы удовлетворить потребность в границах, но подавляющая сила страха смягчается благодаря взаимодействию, которое отвечает на страх метафорически, играючи устраняя его предполагаемую причину.
«Протопсихика»
Даже сегодня, несмотря на выводы исследователей младенчества, можно предположить, что в развитии «Я» и «я-тела» изначально господствует состояние психофизической необособленности. Тут можно натолкнуться на очень старые идеи. Уже в 1919 году Ференци в очередной раз раньше других говорит о «протопсихике», т. е. психофизическом единстве, и понимает истерическую конверсию как регрессивное обращение к изначальному жестовому языку, «знаковой магии» в качестве первоначальной символики тела. Как это часто бывает, Ференци не цитируют, когда аналитики последующих поколений используют его идеи. Анна Фрейд (Freud А., 1978, S. 2912) считает, что «в самые ранние годы существует единство между телом и духом». Бион (Bion, 1961, цит. по: Gutwinski-Jeggle, 1997, S. 142) рассуждает о «протоментальной системе <…>, в которой соматическое и ментальное <…> не дифференцированы». Гаддини исходит из идеи психофизического функционального континуума (B?hme-Bloem, 2002). Представитель школы Маргарет Малер Эрнест Кафка (Kafka, 1971) говорит о «гипотетическом недифференцированном состоянии», о «неразделенной психосоме». В дальнейшем важно развить отдельные структуры из этого неразделенного состояния. Младенец приобретает первое представление о себе как о теле, открывая различие тактильных ощущений в контакте собственного тела с другими предметами. Таким образом, в начале формирования «Я» присутствует и опыт границ, а именно опыт границ собственного тела, и открытие первого внешнего объекта в собственном теле, которое принадлежит как «Я», так и внешнему миру. Фрейд (Freud, 1923b, S. 253) сформулировал эту идею в «Я и Оно»: «Прежде всего, „Я“ является физическим». «Прежде всего» подразумевается хронологически, первая концепция «Я» возникает благодаря телу, представлению о «я-теле».
Собственное тело, и особенно его поверхность, – это место, из которого могут исходить одновременно внешние и внутренние переживания. Оно рассматривается как сторонний объект, но дает осязанию двойственные ощущения, одно из которых можно приравнять к внутреннему восприятию. В психофизиологии достаточно много обсуждалось, как собственное тело выделяется из мира восприятия. Боль также, похоже, играет определенную роль, а то, как болезненные расстройства дают новое знание об органах, можно считать образцом того, как вообще возникает идея собственного тела (там же).
Младенец, так сказать, с удивлением обнаруживает, что имеет значение, касается ли он предмета и замечает ощущение на руке или же касается части собственного тела, вызывая двойное тактильное ощущение как в касающейся, так и в затронутой касанием части тела. Это различие, вероятно, будет первым шагом к способности различать внешние объекты и себя (сначала тело). Еще до Фрейда Виктор Тауск (Tausk, 1919, S. 20) говорил о «стадии развития, на которой собственное тело было предметом поиска объекта». «Это должно быть время, когда ребенок открывает собственное тело по кусочкам как внешний мир, хватая свои руки и ноги как посторонние предметы. В это время все „происходит“ только от собственного тела, его психика <мы бы скорее сказали „Я“> является объектом стимуляции, которая очень часто осуществляется собственным телом, а также посторонними предметами».
В своей знаменитой и важной работе «О развитии аппарата влияния при шизофрении» Тауск объясняет бредовые представления многих пациентов о том, что на их мысли и чувства влияет внешний аппарат проекцией частей тела вовне. Это не имеет никакого отношения к психоаналитической инстинктивной психологии, как подчеркивает Анзьё (Anzieu, 1974, S. 134), речь идет не о генитальной и прегенитальной сексуальности, а о «диссоциации образа тела у субъекта». Таким образом, Тауск был настоящим первооткрывателем феномена диссоциации тела, потому что пациенты отделяли части своей телесной репрезентации, чтобы иметь возможность проецировать их. «Проекция собственного тела восходит к стадии развития, в которой собственное тело было предметом поиска объекта» (там же). Позднее Лихтенберг (Lichtenberg, 1983, S. 116) снова взял на вооружение формулировку Фрейда о первом самовосприятии во время прикосновения одной части тела к другой. Этому процессу приписывается интегративная функцию: действия тела «расширяют область представлений о себе, усиливая тот образ восприятия, когда одна часть „Я“ получает статус „объекта“, а другая в ситуации умеренно высокого эмоционального напряжения сохраняет статус „агента“». Интеграция этих двух аспектов самого себя (возбужденного и ласкового, ощущающего и действующего, так сказать, преступника и жертвы) в единое целое способствует опыту самосознания как «„места“, „контейнера“, в котором есть и „Я“ как объект, и действующее „Я“». Таким образом, деятельность собственного тела должна, как правило, брать на себя функции, которые раньше принадлежали материнской части диады «мать – дитя», и я думаю, что саморазрушительное отыгрывание на уровне тела происходит именно на фоне этого процесса, переросшего в патологию и содержащего деструктивный гнев. Даже в случаях самоповреждения «Я» делится на действующую и пассивную часть, сносящую такое обращение. Однако оно приводит не к интеграции, не к расширению «представлений о себе» – происходящее между «преступником и жертвой» служит лишь разрядке чрезмерного напряжения.
Дифференциация «Я» и объекта
При оптимальном развитии младенца в ребенка дифференциация репрезентаций себя и тела не означает длительного расщепления, но, на мой взгляд, способствует интеграции в общее понятие «Я», в котором телесное и психическое «Я» разделяются, но остаются связанными. Благодаря этой интеграции тело становится своего рода ненавязчивым компаньоном (см.: Hirsch, 1989a), присутствие которого считается само собой разумеющимся. «„Я“ основано на „я-теле“, но только тогда, когда все идет хорошо, личность младенца начинает связываться с телом и физическими функциями, а кожа становится ограничивающей мембраной. Чтобы описать этот процесс, я использовал термин персонализация, потому что сущность «деперсонализации», по-видимому, означает потерю твердого союза между „я“ и телом» (Winnicott, 1962, S. 76 и далее).
Если образование границ тела нарушается в неадекватной материнской среде, то дифференциация между «Я», телом и внешним объектом не происходит или же происходит не до конца. Физические ощущения, такие как боль и «душевная боль», аффективные реакции, такие как беспокойство, боль сепарации, горе или гнев, недостаточно дифференцированы и не воспринимаются как обладающие отчетливым внутренним или внешним происхождением, исходящие от тела или же от материнского объекта. Результатом является постоянная потенциальная диссоциация «Я» и «я-тела», подобно заранее определенной точке разлома, которая может быть регрессивно использована в целях защиты и которая снова и снова используется в стрессовых ситуациях. Винникотт (Winnicott, 1966, S. 514) также говорит: «Расщепление психики и сомы является регрессивным <sic!> феноменом, в котором архаичные атавизмы используются при построении защитной организации. Напротив, тенденция к психосоматической интеграции является частью движения вперед в развитии». Уже Шильдер (Schilder, 1935) признал, что образование «я-тела» зависит от «достаточно хорошей» (Винникотт) материнской среды. Оно требует интуитивной поддержки со стороны материнской фигуры, которая адекватно удовлетворяет потребности ребенка и реагирует на его физические состояния извне. Макдугалл (McDougall, 1989) говорит о необходимости диалога с матерью, чтобы границы тела и особенно функцию отверстий в теле можно было символизировать. Травматические нарушения во время формирования границ тела можно рассматривать как пренебрежение регулированием невыносимых состояний напряженности извне или как чрезмерную травматическую стимуляцию, т. е. неадекватное воздействие на организм и его функции, которые не отвечают потребностям ребенка. Если сначала мать «обладает» телом ребенка, как выразился Гризер (Grieser, 2008, S. 126), т. е. мать может сказать: «Тело ребенка – мое!», – то впоследствии, в восприятии и матери, и ребенка перед ней встает задача постепенно дать телу ребенка свободу или же все более и более предоставлять его «Я» самого ребенка (Kutter, 2001, S. 153). В результате возникает то, что Куттер называет триангуляцией матери, «Я» и тела.
Психосоматическая триангуляция достигается при создании ограниченной репрезентации тела, которое находится в сбалансированном отношении с представлением о себе как объекте (Grieser, 2008, S. 128).
Корни психического в теле
Сегодня, похоже, возрождается идея о том, что психика, т. е. ментальное, уходит корнями в тело. В своих попытках объединить теорию привязанности и психоаналитическое мышление Фонаги и Таргет (Fonagy, Target, 2007) указывают на недавние попытки найти нейрофизиологические данные, свидетельствующие о том, что связи между мозгом и телом формируют психику и сознание, связи, «которые все чаще понимаются как „воплощенные“, возникающие из обслуживания физических потребностей в конкретный момент, в конкретном месте и социальном контексте. Эта идея также во многом лежала в основе психоаналитического мышления, которое исторически подтвердило укорененность символической мысли в сенсорном, эмоциональном и проигранном опыте взаимодействия с объектами» (S. 411). Аналогичным образом в этой работе происхождение внутренних рабочих моделей, или репрезентаций, видится в ранних сенсорно-моторных и эмоциональных переживаниях в связи с фигурой опекуна. Язык и символическое мышление могут быть «воплощены» филогенетически и онтогенетически, т. е. обоснованы в теле, они развиваются на основе жестов и действий и, таким образом, базируются на опыте раннего физического взаимодействия с первичным объектом. Группа финских психиатров и педиатров (Lehtonen et al., 2006) вслед за Фрейдом, для которого «я-тело» является организационной базой структурной теории, которую он определил как психическую проекцию поверхности тела, исходит из гипотезы, что ощущения на поверхности тела, возникающие вследствие ухода за ребенком, обеспечивают младенца сенсорно-аффективной стимуляцией, которая начинает проекцию сенсорных процессов в психику <!>. Результатом является «первобытный соматический аффект удовлетворения» (S. 1335). Если эти прорастающие переживания регулярно повторяются, они, вероятно, играют роль в организации примитивного протосимволического психического опыта.
Все перечисленные авторы говорят о переходе от позитивного физического опыта взаимодействия с опекуном к первоначальным ментальным представлениям и репрезентациям. Однако эти новые идеи восходят к давней традиции представления о важности адекватной материнской среды. Эрнест Кафка (Kafka, 1971, S. 233) суммирует связь между образованием «я-тела» и дифференциацией аффектов, а также развитием символизации: «Тело постепенно становится сознательным, оно отделено от диффузного психического опыта. За этим следует осознание более дифференцированных мыслей и чувств, отличных от конкретного физического опыта. Наконец, появляются мысли и способность различать типы психического опыта отдельно от физического опыта». Эта формулировка, которой уже почти 40 лет, по-прежнему актуальна. Так, теория отражения аффектов Фонаги с соавт. (Fonagy et al., 2002) «предполагает, что младенец изначально замечает только диффузные внутренние сигналы тела», которые он учится группировать и дифференцировать «через родительские реакции» (Dornes, 2004, S. 179), т. е. через осмысленный, символизирующий ответ материнской среды.
Это описывает то, что сегодня понимается как «достаточно хорошая материнская среда», т. е. достаточно успешная взаимосвязь между ребенком и опекуном, которая удовлетворяет основную потребность ребенка в том, чтобы заново обнаружить свои намерения в психике объекта. Согласно Фонаги и Таргету (Fonagy, Target, 2000, S. 965), «ребенок постепенно осознает, что у него есть чувства и мысли, и медленно развивает способность их различать, особенно благодаря опыту родителей, которые реагируют на его внутренние переживания <…>. Важно то, как они обычно реагируют на эмоциональные выражения ребенка, и то, как они выражают сами себя, направляют внимание ребенка на его внутренние переживания, формируют их, придают им значение и позволяют ребенку все лучше регулировать и переносить их. Первичные репрезентации опыта организуются во вторичных презентациях этих психических и физических состояний. <…> Опыт аффектов – это бутон, из которого расцветает ментализация аффектов, но все зависит от того, есть ли у ребенка хотя бы одна стабильная и надежная связь с объектом».
Первая символизация в контейнировании
Что касается ранней травматизации посредством эмоциональной депривации, то связь между идеей родителей о том, «какой умственный опыт получает ребенок», очень важна в качестве «основы для устойчивого чувства собственного „Я“» (там же). Эта идея может быть обнаружена уже в концепции контейнирования Биона (Bion, 1962а), но здесь она расширена предположением, что таким образом происходит первая символизация. Мать не только интерпретирует физические выражения ребенка, но и возвращает ему применимую версию того, что он сообщил (уже у Винникотта – Winnicott, 1967).
Если такая функция зеркала отсутствует или искажена, это может привести к психической организации, в которой внутренние переживания плохо представлены, поэтому приходится искать другие формы для сохранения психического опыта. К ним относятся, например, саморазрушительное или агрессивное поведение (Fonagy, Target, 2000, S. 965 и далее).
Центральная идея Фонаги, с которой он выходит за пределы концепции Биона, состоит в том, что первая символизация у младенца происходит в ходе приемлемого контейнирования матерью, и это интернализируется как хороший объектный опыт.
«Отказ этой функции приводит к отчаянному поиску альтернативных путей к контейнированию мыслей и сильных чувств». Ребенок принимает «психику других с этим <sic!> искаженным, неполным или негативным образом ребенка в свое чувство идентичности. Этот образ становится зачатком потенциально преследующего объекта, который пребывает в „Я“, но остается чуждым и неассимилируемым. Возникает отчаянное желание сепарации в надежде обрести автономную идентичность или независимое существование. <…> Парадоксальным образом <…> возникающее впоследствии стремление к сепарации приводит к слиянию, <…> потому что объект является частью структуры „Я“» (Fonagy, Target, 1995, S. 294).
Преследующий внутренний объект можно также обозначить как травматический интроект, который после своего отщепления проецируется на тело.
«Когда объекты не представлены должным образом как мыслящие и чувствующие существа, тогда они могут в известной степени контролироваться посредством телесного опыта, формирующего дистанцию или же близость». Решением дилеммы становится самоповреждение, «освобождение „Я“ от других через разрушение других внутри „Я“» (там же, S. 296).
Поэтому можно предположить, что развивающаяся символизация «Я» и объекта (ментализация), а также собственного тела и его границ (включая отверстия в теле, как подчеркивает Макдугалл) делает терпимым отсутствие доступного ребенку материнского объекта. Но это также означает (и это очень важный момент для более позднего отыгрывания на уровне тела), что не только более или менее зрелое символическое воображение может заменить или исправить отсутствующий или травмированный материнский объект, но и то, что в первоначальной символической деятельности физические ощущения, по крайней мере, временно представляют собой своего рода материнскую заботу. «Кинестетические, висцеральные, визуальные и акустические стимулы в „галлюцинаторном“ исполнении желаний могут вызвать глобальное воспоминание о материнском удовлетворении и помочь перенести краткое отсутствие матери», – формулирует Капфхаммер (Kapf hammer, 1985, S. 204), опираясь на известную и важную работу Сьюзан Айзекс «Природа и функция фантазии» (Isaacs, 1948). Таким образом, ощущения тела помогают создать воображаемое присутствие матери. Помимо функции коммуникации плач младенца должен также создавать эффект физического присутствия и ограничивать возможное переполнение страхом аннигиляции, как я обнаружил еще у нескольких авторов (von L?pke, 1983; K?gler, 1991; Haesler, 1991; Anzieu, 1985). Ребенок уже как бы не один, когда он может чувствовать свое кричащее тело. Для меня основная идея понимания деструктивного отыгрывания на уровне тела заключается в том, что поврежденное, болезненное, зудящее или кровоточащее, даже сексуально возбужденное тело снабжает ощущениями, которые должны создавать иллюзию присутствия материнского объекта.
Амбивалентность матери
Уязвимой фазой развития, в которой видят корни пограничного расстройства, является так называемая фаза «повторного сближения», в ходе которой также происходит развитие более зрелых языковых форм символизации. В это время эмпатическая материнская внимательность становится особенно важна. Каплан (Kaplan, 1987, S. 42, цит. по: Baumgart, 1991, S. 791) отмечает в дискуссии по поводу книги Штерна (Stern, 1985): «Важно, что баланс и гармония между стремлением к индивидуации и стремлением к зависимости формирует интеграцию личности в ранние годы детства». Материнское окружение тех, кто в последующем становится пациентками с соматическими симптомами, не в состоянии помочь ребенку найти такое равновесие.
По моему мнению, это определенное противоречивое отношение и соответствующее ему поведение реальной материнской фигуры прежде всего может приводить к физическим реакциям, как это неоднократно описывает Макдугалл (1989) в отношении психосоматических реакций, и как это, по моему впечатлению, обнаруживается у пациентов с симптомами самоповреждения (Hirsch, 1989a, 1989b). Телесная симптоматика в этом широком смысле видится мне амбивалентной и амбитендентной в отношении такого материнского объекта, она содержит желание удержать его и в то же время отвергнуть, это я воспринимаю как «двойственность» такой симптоматики. Соматический симптом отображает как раннюю диаду, так и защиту от нее, как создание суррогатного объекта, так и чувство триумфа благодаря отделению и автаркии, при помощи которых отвергается материнский объект. При расстройствах пищевого поведения, особенно булимии, также обнаруживается «двойственная» симптоматика в действиях, направленных на слияние (приступы обжорства) и абсолютное отвержение, даже умерщвление материнского объекта.
«Двойственность» матери
«Двойственность» вновь обнаруживается и в определенной манере поведения матерей, описываемой пациентками. Фонаги и Таргет (Fonagy, Target, 1995, S. 292) приводят пример пациентки с симптомами самоповреждения, которая родилась на свет физически неполноценной: «Ее деформация и ее опыт взаимодействия с соблазняющей, но отвергающей матерью стали, вероятно, причиной глубокой неуверенности в собственной ценности». Эта мать также «двойственна», она одновременно соблазняет и отталкивает. Такие образы не новы – уже давно обнаружен тип «психосоматизирующих матерей». Мелитта Шперлинг (Sperling, 1949) выявила следующее поведение у многих матерей психосоматически больных детей (астма, язвенный колит, аллергии и т. д.): матери ограничивали попытки независимости ребенка и отвергали их в этом отношении, но обращались к ребенку, когда тот слушался их или заболевал. Таким образом, Шперлинг воспринимала психосоматические симптомы как выражение подчинения бессознательному желанию матери и одновременного бунта против него. Психоаналитик Закен (на которого ссылается Тейлор – Taylor, 1987, S. 240) так резко изображает типичную «психосоматическую мать», что больше нечего добавить: «Доминирующая, чрезмерно вовлеченная и навязчивая, чрезмерно требовательная, цепляющаяся и удушающая, для поддержания симбиотической привязанности такая мать открыто или латентно отвергает ребенка, когда он проявляет инициативу, отличную от своей собственной, и препятствует любому поведению или эмоциональному выражению ребенка, которое предполагает даже минимальное стремление к автономии».
Приведу здесь краткий пример с пациенткой из моей практики, у которой развились симптомы самоповреждения кожи, психогенный болевой синдром, равно как и деструктивные действия в форме промискуитета.
Моя мать использовала любую возможность, чтобы до меня дотронуться, поцеловать меня, все время неприятно навязчиво следила за моим телом. По утрам она использовала мое сонное состояние, чтобы заполучить телесный контакт, а я всегда была такой заспанной с утра, что не могла уклониться от этого. У моей матери всегда было странное любопытство в отношении моего тела. Может быть, поэтому в возрасте 15–16 лет у меня случались эти боли в животе, возникавшие из-за ощущения, что кто-то слишком ко мне приближается. Когда я болела, она прямо набрасывалась на меня, а я достаточно часто болела». Я заметил, что это было, собственно, поводом оставаться здоровой, чтобы не давать матери слишком приближаться. «Да, но моя мать становилась также очень милой, по-настоящему по-матерински любящей, спокойной; в остальное время она была холодной и жесткой и постоянно придиралась ко мне».
Мать реагировала противоречиво: она могла быть враждебно отвергающей, интрузивной, но в то же время заботливой, и эта амбитендентность соответствует амбивалентному, негативному и зависимому отношению пациентки к матери, что было предметом долгой работы по прояснению. На мой взгляд, соматический симптом стал неудачным выходом из фиксированной амбивалентности в отношении материнского объекта, потому что возникла иллюзия того, что не нужен никакой материнский объект. Именно при помощи тела устанавливается бунтарски-агрессивная граница в отношении объекта, с другой стороны, при помощи проигрывания на телесном уровне суррогатным образом создается симбиоз между телом и «Я».
Такие матери обращаются с детьми в диссоциации от проявлений чувств, подобно тому как позже пациенты обходятся со своим телом. Заксе (Sachsse, 1987) описывает безличное, «вещественное» в отношениях матери и ребенка, что напоминает значение «предметного объекта» в патогенезе сексуальных перверсий (Khan, 1964). «Двойственность» такой матери объясняет Пао (Pao, 1969), который описывает мать подростка, страдавшего симптомами самоповреждения, она гордилась тем, что могла накормить младенца грудью без того, чтобы вступать с ним в дальнейший контакт. Я сам наблюдал две подобные сцены: однажды мать положила своего ребенка на стол, не прерывая грудного вскармливания, потому что звонил телефон, и, пока она разговаривала, другой рукой она делала заметки. В другой раз мать сидела на стуле, положив ноги на другой стул, чтобы колени оставались согнутыми. Младенец лежал на ее бедрах, мать дала ему бутылочку, не поддерживала с ним никакого зрительного контакта, но оживленно говорила с людьми, которые пришли в гости. Кафка (Kafka, 1971) детально описывает поведение матерей, которые чрезмерно стимулировали детей физически, а позже также сексуально, в то же время отказывая им в адекватном удовлетворении их собственных телесных потребностей. В особенности это проявлялось в жестком режиме кормления и категорическом запрете в определенное время опорожнять мочевой пузырь и кишечник. При этом такие матери терзали детей посадкой на горшок, когда считали это своевременным. Мы видим смесь из отсутствия эмпатии к потребностям ребенка и безразличной к ним реализации своих представлений или, скорее, потребностей самой материнской фигуры, отчасти также потребностей физических.
Волосы
Все объекты, представляющие собой материализацию фантазийного, самопроизвольно созданного переходного объекта маленького ребенка, – мягкие, будь то куколка, одеяльце или, конечно, плюшевый мишка и другие мягкие игрушки. Плюшевый мишка покрыт волосами, его мягкая шерстка, похоже, придает особое значение и без того мягкому переходному объекту. Переходный объект образуется на относительно высокой символической ступени. При этом волосы могут представлять более непосредственную связь с матерью на достаточно конкретном уровне предшественников переходного объекта (Gaddini, Gaddini, 1970; ср. дискуссию в: Hirsch, 1989b: «Собственное тело как переходный объект» / Der eigene K?rper als ?bergangsobjekt), промежуточного объекта или объекта-моста (Buxbaum, 1960; Kestenberg, 1971). Раньше принято было отрезать локон возлюбленного, уезжающего в путешествие или на войну, чтобы поддерживать с ним символически-конкретную связь. Из волос делали браслеты и цепочки для часов, они служили «доказательством любви и воспоминанием <…>; ремешок для часов имел большее значение, чем сами часы» (Jeggle, 1986, S. 52). Этот фетишизм в отношении волос превращал их в сексуальный объект, который, как это всегда бывает при перверсиях, одновременно замещал/ изображал желанный и вызывающий страх материнский объект и позволял контролировать его. Так же и мех, и шерсть являют собой покрытую волосами кожу: «В мазохистской фантазии мех (ср.: «Венера в мехах» Захер-Мазоха) порождает представление о возвращении к чувственному, бархатистому и ароматному (ничто не пахнет так сильно, как новый мех) тактильному контакту, возвращение к ощущению, когда два тела льнут друг к другу, что приносит вторичное удовольствие при генитальном сексуальном контакте.
Бичующая Венера Захер-Мазоха была – как в жизни, так и в романе – обнаженной под мехами. Это подтверждает первичную функцию покрытой мехом кожи как связующего объекта, до того как она указывает на сексуальный объект. <…> Маленький Северин очарован одетой в меха Венерой, или Вандой, и видит в своей фантазии собственную мать, укутанную в кожу, что означает одновременно объединение и сепарацию (Anzieu, 1985, S. 63).
Анзье также неустанно указывает на ведущую роль влечения к единению, первичной потребности в установлении связи. К ней примыкает сексуальное влечение, при котором, возможно, в ход идут те же самые объекты: будто развивающаяся сексуальность запрыгивает в уходящий поезд влечения к единению.
Парень молодой пациентки довольно сильно избил ее во время приступа ревности по ничтожному поводу. Для нее это означает, что они окончательно расстаются. На следующую ночь ей снится сон: она заперта в подводной лодке и не может выбраться. Вокруг много людей, часть из них – «существа», которые уже мертвы, но еще двигаются. Других людей от этих существ отличить сложно. Там есть и преследователи, которые превращают людей в существ. Она входит в большую, светлую комнату с окнами, одно из которых открыто, и видит, что лодка прибыла в порт. За этим следует драка одного из преследователей с чернокожим (это сцена из фильма, который она смотрела: там темнокожий защищает преследуемых женщин), она взобралась на дерущихся и пролезла через окно. Она долго падает, вдруг преследователь хватает ее за волосы, но не может ее удержать, потому что у него отвалилась рука. Она с презрением бросает руку, очень легкую, будто картонную, назад. Но снаружи снова существа, которые узнают ее. Они говорят ей: «Я уже жертва». Это она тоже принимает, и ее оставляют в покое. Тогда она приходит в дом: то ли лечебницу, то ли купальню. Там ей предлагают халаты – один розовый и один сиреневый. От последнего она отказывается.
Беатрикс Лааге находит сон странным: у нее не было чувств или мыслей о нем. Она говорит, что не страдает от расставания. Ей, скорее, кажется, что сейчас отличное время начать что-то новое. Я говорю ей, что волосы во сне – это последнее, что связывает ее с ее парнем. Если она действительно хочет уйти, рука, которая удерживает ее во сне, бессильна. Это напоминает, как многие подростки стригут волосы в знак освобождения, и отцы слепнут от гнева при виде этого, так что готовы даже ударить ребенка, как ее парень. Тогда она говорит, что ее матери не разрешали стричься «под мальчика». Ей нужно было прийти с длинными волосами на первое причастие, но на следующий день она их обстригла. Поэтому пациентка ребенком все время ходила с волосами не длиннее спички: на этом настаивала мать, утверждая, что это очень практично. Беатрикс поклялась, что отпустит волосы, когда ей исполнится 13. Сейчас у нее волосы до попы, как она того и хотела в детстве. Динамика очень простая: мать раздражают длинные волосы, потому что в детстве она не могла осуществить свое желание постричься. Потом она заставляет дочь носить короткую стрижку, т. е. делает с ней то же самое, отчего сама страдала, с противоположным знаком. Дочери не должно быть лучше, чем ей самой в детстве, может быть, она вообще должна быть мальчиком (с короткими волосами). Отец матери, напротив, хочет длинных волос, хочет ее женственности, в латентно-инцестуальном ключе. И он приходит в бешенство от своевольного поступка дочери, когда та стрижется: стрижка является символом сепарации, а то, что дочь делает это по собственной воле, только подтверждает этот факт. Отцу больше нечего сказать.
Часть тела ребенка символизирует часть тела матери (Buxbaum, 1960, S. 258). Кестенберг пишет: «Питание и продукты жизнедеятельности тела, связанные с желанием „органа“, по всей видимости, относятся к телу младенца и телу матери. <…> Чтобы восстановить этот мост между собой и матерью, человек оживляет их и обращается с ними как с промежуточными объектами» (Kestenberg, 1971, S. 83).
Подобно тому как кожа матери и кожа ребенка образуют тесный физический контакт, можно представить, что и связь при помощи волос становится столь же значимой, но при этом обеспечивает большую дистанцию и, соответственно, большие возможности для контроля и регуляции.
У детей разного возраста можно наблюдать моменты регрессии, когда они накручивают волосы на пальцы или сматывают их снова и снова (при этом они, возможно, держат во рту большой палец), и эта привычка может сохраняться вплоть до зрелого возраста. Границу между такими безобидными привычками и все более патологическими проявлениями легко переступить.
Ребенок уже в возрасте нескольких месяцев начинает выдергивать ниточки из своей пеленки, которые он собирает и потом гладит. Реже он съедает их, что может привести даже к телесным расстройствам (Winnicott, 1971, S. 13).
Впечатляющий пример на границе с патологией приводит Шур. Из этого примера становится ясна связь между матерью, ее волосами, волосами ребенка и сосанием пальца.
Я наблюдал развитие такого нарушения поведения у годовалого ребенка в момент зарождения. Он становился все более одержим волосами своей матери. Сначала ей постоянно приходилось давать ему своей волосок, прежде чем уложить его в постель. Он держал этот волосок во рту, и это заменяло ему привычку сосать палец. Позднее это поведение дополнилось и в конце концов заменилось тем, что он вырывал свои волосы и клал их в рот (Schur, 1955, S. 109).
Навязчивое вырывание собственных волос называется трихотилломанией. Если же волосы проглатываются, следует говорить о трихотиллофагии. Этот феномен можно назвать своего рода заботой о себе, как ее понимают депривированные дети. Как и другие формы самоповреждающего поведения, вырывание волос имеет двойную функцию: оно образует связь с материнским объектом, поскольку волосы объединяют, как и боль, но при этом обеспечивают некоторую независимость, ведь их уже не надо получать от матери, которая стала сплошным разочарованием. Проглатывание волос – пример инкорпорации положительного материнско го объекта и связи с ним. Дети, у которых возникает этот симптом, так сказать, питаются сами собой, поскольку дают себе что-то от своего тела, что хотели бы отнять у матери – как в экстремальном случае с младенцами, страдающими мерицизмом, которые пережевывают содержимое желудка, которое только что срыгнули, и опять глотают его в иллюзии, будто себя кормят.
«Мертвый Брюгге»