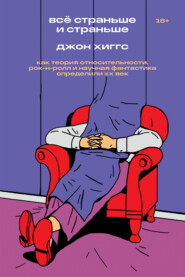
Полная версия:
Всё страньше и страньше. Как теория относительности, рок-н-ролл и научная фантастика определили XX век

Джон Хиггс
Всё страньше и страньше. Как теория относительности, рок-н-ролл и научная фантастика определили XX век
John Higgs
Stranger Than We Can Imagine. Making Sense of the Twentieth Century
© 2015 by John Higgs
© Николай Мезин, перевод, 2022
© Андрей Касай, обложка, 2021
© ООО «Индивидуум Принт», 2022
* * *Для Лии – неожиданного сюжетного поворота после титров двадцатого века, и Айзека – увлекательного вступления перед двадцать первым.
Посвящается Нику, Эбби и Сету
Нам нужно было делать то, что хотелось.
– Кит РичардсВведение
В 2010 году в лондонской галерее Тейт Модерн проходила выставка Поля Гогена, французского художника-постимпрессиониста. Посетитель на несколько часов погружался в гогеновские образы романтических островов южного Тихого океана, вдохновленные Таити конца XIX столетия. Это мир ярких красок и беззастенчивой сексуальности. Вселенная Гогена не знает разницы между человеком, божеством и природой, и с этой выставки зритель как бы выносил постижение Рая.
Но в следующем зале посетителей ждало искусство XX века. И никто не готовил их к тому, сколь жестоким будет переход из одного мира в другой.
Там висели работы Пикассо, Дали, Эрнста[1] и многих других. В голову сразу приходил вопрос, не случилось ли чего с освещением – но нет, холодной комнату делали сами картины. В палитре преобладали коричневый, серый, синий и черный. Изредка вспыхивал ярко-красный, но и тот не добавлял уюта. За исключением одного позднего портрета Пикассо, нигде не было ни желтого, ни зеленого.
Неземные пейзажи, невообразимые конструкции, ночные кошмары. Редкие образы людей – абстрактны, упрощены и оторваны от живой природы. Столь же недружелюбны скульптуры. Вот, например, «Подарок» («Le Cadeaux») Мана Рэя[2] – скульптура, изображающая утюг с торчащими из его подошвы гвоздями, готовыми изорвать в клочья любую ткань, которую вы решитесь им гладить. Для сознания, настроенного на образы Гогена, воспринимать все это – не самая приятная задача. В этом зале нет сопереживания. Вы ступили на территорию абстракции, теории и концептов. Резкий скачок от искусства, обращенного в душу, к искусству, нацеленному исключительно в мозг, может быть травматичен.
Гоген творил до самой смерти в 1903 году, и было бы, кажется, логично ожидать более плавного перехода между залами. Спору нет, его живопись не назвать типичной для своего времени и признание он получил лишь посмертно, но столь ошеломительный контраст не дает отмахнуться от самого главного вопроса: что за чертовщина случилась в начале XX века с человеческой психикой? Тейт Модерн – подходящее место для таких вопросов, ведь она своего рода святилище XX века. Значение слова «модерн» в искусствоведении навсегда закреплено за этим периодом истории. Поэтому популярность галереи высвечивает и наше очарование теми годами, и стремление их понять.
Две выставки разделял аванзал. Главным экспонатом в нем был пейзаж: промышленный город XIX века, нарисованный греко-итальянским художником Яннисом Кунеллисом прямо на стене углем. Рисунок упрощенный, людей на картине нет. А чуть выше, прибитые стрелами к стене, висели мертвые птицы – галка и ворона. Не знаю, что хотел сказать автор, но для меня эта комната послужила своего рода предупреждением о том, что меня ожидало в следующем зале. Со стороны Тейт было бы человечнее предназначить это помещение для галерейной декомпрессии, чтобы защитить посетителей от «кессонной болезни» визуального восприятия.
Сопроводительный текст пояснял, что мертвые птицы «символизируют смертельную агонию свободы воображения». Но в контексте перехода от Гогена к искусству XX века более подходящей кажется другая интерпретация. Если что-то и умерло над этим промышленным городом XIX столетия, то уж точно не свобода воображения. Напротив, это чудовище вот-вот возникнет из преисподней.
Недавно, покупая подарки к Рождеству, я зашел в местный магазин за книжкой Люси Уорсли, любимого историка мой дочери-школьницы. Если вам повезло иметь дочь-школьницу, у которой есть любимый историк, вы особо не раздумываете, стоит ли поощрять это увлечение.
Исторический отдел я нашел в дальнем углу на пятом, последнем, этаже: будто история – это рассказ о чокнутых предках, которых нужно прятать на чердаке, как персонажей «Джейн Эйр». Нужной мне книги в магазине не оказалось, так что я достал телефон, собираясь купить ее онлайн. Закрыл новостное приложение, ткнул не ту иконку и нечаянно запустил видео – речь президента Обамы, произнесенную несколькими часами ранее. Дело было в декабре 2014 года, и президент говорил о том, нужно ли считать актом войны хакерскую атаку на Sony Entertainment, в которой он обвинил Северную Корею.
В жизни порой случаются моменты, когда замечаешь, какой странной может быть жизнь в XXI веке. Вот я, в Брайтоне, в Англии, держу в руках тонкую пластинку из стекла и металла, сделанную в Южной Корее, прошитую американским софтом, которая показывает мне, как президент США угрожает верховному лидеру Северной Кореи. Я внезапно понимаю, сколь непохожим было начало XXI столетия на все былые эпохи. Какие детали этой сцены показались бы самыми невероятными в конце прошлого века? Существование устройства, которое позволяет мне за рождественским шопингом увидеть президента Соединенных Штатов? Определение войны, изменившееся настолько, что оно стало включать в себя неудобства, доставленные директорам компании Sony? Или то, что другие покупатели так легко простили мне нечаянную трансляцию?
В тот момент я стоял возле полок с историей XX века. Меня окружали прекрасные книги, толстые тома, подробно рассказывающие об эпохе, знакомой нам лучше всех других. Эти книги – вроде дорожной карты, содержащей все детали путешествия, которое мы проделали, чтобы оказаться в нынешнем мире. Они подробно описывают великие геополитические сдвиги: Первая мировая война, Великая депрессия, Вторая мировая война, век Америки, падение Берлинской стены. Но повествование почему-то не приводит нас к тому миру, где мы теперь существуем, подвешенные в паутине непрерывной слежки и гиперконкуренции, дрейфующие в океане фактов и небывалых возможностей.
Представьте себе XX век в виде расстилающегося перед вами пейзажа. Горы, реки, леса и долины – все это исторические события. Проблема не в том, что эта эпоха от нас скрыта, а в том, что мы помним ее слишком хорошо. Мы все знаем, что в этом пейзаже есть горы Перл-Харбор, Титаник или Апартеид. Знаем, что в центре лежит пустыня Фашизма и неопределенности холодной войны. Мы знаем, что здесь живут жестокие, отчаянные и запуганные люди, и знаем, почему они такие. Эти земли подробно картографированы, описаны, каталогизированы. Лавина информации.
Каждая книга передо мной прокладывает свой маршрут по этой земле, но эти пути не так разнятся между собой, как кажется на первый взгляд. Многие из них написаны политиками, политическими журналистами или политически ангажированными авторами. В их представлении именно политики определили характер тех тревожных лет, и все эти авторы следуют маршрутом именно такого толкования событий. Другие выбирают ориентиры из науки и техники или искусства той эпохи. Их книги, пожалуй, полезнее, но могут показаться абстрактными и оторванными от человеческих судеб. И при всей разнице этих маршрутов они сходятся на широких торных дорогах.
Прокладывать новую тропу сквозь эти земли страшно. Путешествие через XX век представляется нам великой эпопеей. Отважные первопроходцы, высаживающиеся на этот берег, первым делом должны схватиться с тремя великанами, которых мы привыкли называть лишь по фамилиям: Эйнштейн, Фрейд и Джойс. Им предстоит путь через лес квантовой неопределенности и замок концептуального искусства. Путешественникам стоит опасаться горгон Жана-Поля Сартра и Айн Рэнд, чей взгляд обращает в камень – если не физически, то эмоционально. Им придется ломать голову над загадками сфинксов Карла Юнга и Тимоти Лири. И вот тут начинается самое сложное. Последний вызов – пробраться через болото постмодернизма. Если честно, прогулка не из приятных.
Из тех смельчаков, что занялись XX веком, лишь единицы смогли не увязнуть в постмодернизме и выйти на другой берег. Большинство сдались и вернулись на базу. В мир, каким его понимали в конце XIX столетия, на ту сторону рубежа, на безопасную территорию. Великие открытия того времени понятны, мы легко объясняем новации вроде электричества или демократии. Но не стоит ли нам сменить дислокацию? Через оптику XIX века XXI кажется абсолютно бессмысленным.
На карте XX столетия темнеют пятна дремучих лесов. Протоптанные дороги обычно идут в обход, ненадолго ныряя туда и торопливо устремляясь прочь, словно в страхе заблудиться. Эти леса – относительность, кубизм, битва при Сомме[3], квантовая механика, ид[4], экзистенциализм, Сталин, психоделика, теория хаоса и изменение климата. На первый взгляд они кажутся непролазными, но чем больше в них углубляешься, тем интереснее становится. Каждый из этих лесов вызывал столь радикальные перемены, что человечеству приходилось полностью пересматривать существовавшую картину мира. Раньше они нас пугали, но теперь это не так. Теперь мы граждане XXI века. Вчерашнее осталось позади. Мы на пороге завтрашнего. И нам по силам даже самые темные чащи XX столетия.
Поэтому план таков: мы совершим путешествие по XX веку, но не пойдем торными дорогами, а двинем прямо в дремучие леса за сокровищами. Мы понимаем, что границы столетия условны. Историки говорят о «долгом девятнадцатом» (1789–1914) и «коротком двадцатом» (1914–1991) веке, поскольку у этих периодов есть четкие границы. Но для наших целей вполне сгодится и календарный век, потому что мы начнем с того места, где реальность утратила смысл, и закончим там, где мы сейчас.
Чтобы пройти этот путь до конца, придется от чего-то отказываться. Рассказ о XX веке мог бы охватывать миллионы тем, но далеко мы не продвинемся, если будем по воле ностальгии зацикливаться на любимых. За каждой находкой, которая нас ждет, – море литературы и нескончаемые споры, но мы без сожалений обойдем их, чтобы не погрязнуть навечно. Это экспедиция, а не круиз. Мы беремся за дело не как историки, а как любопытные путешественники или первопроходцы с четкой целью, и потому, отправляясь в путь, мы ясно понимаем, на что будем обращать внимание.
Наш план – изучить то, что было воистину ново, неожиданно и революционно. Последствия нам не так важны; просто примите как данность, что каждый пункт путешествия вызывал в свое время скандалы, гнев и яростное неприятие. Эти последствия – важная глава истории, но, всматриваясь в них, можно не разглядеть проступающую тенденцию. Мы же будем изучать направление, которое указывали эти новые идеи. А направление это более или менее общее.
У каждого поколения есть момент, когда память превращается в историю. XX век отступает вдаль и обретает новые очертания. События тех лет уже кажутся историческими, пришло время подвести итоги.
Итак, перед вами – новая дорога через XX век. Ее назначение – то же, что у любой другой. Она приведет нас туда, куда мы идем.
Глава 1. Относительность. Уничтожение омфала
15 февраля 1894 года французский анархист Марсьяль Бурден покинул свою съемную комнату на лондонской Фицрой-стрит, захватив с собой самодельную бомбу и приличную сумму денег. День был сухой и ясный. У Вестминстера Бурден сел в открытый конный трамвай и отправился на другой берег Темзы, в Гринвич.
Сойдя с трамвая, он зашагал к королевской обсерватории. Бомба сработала до срока, пока анархист шел по Гринвичскому парку. Обсерватория не пострадала, а Бурдену взрывом оторвало левую руку и разнесло живот. Раненого обнаружили школьники; не в силах подняться с земли, он растерянно просил отвести его домой. Кровь и останки позже нашли в пятидесяти с лишним метрах от места взрыва. Через полчаса Бурден умер, не оставив никаких объяснений своего поступка.
Об этом событии польский писатель Джозеф Конрад позднее написал роман «Тайный агент» (1907). Конрад резюмировал общее изумление поступком Марсьяля, описав его акцию как «кровавую нелепость столь вздорного характера, что невозможно было никаким разумным и даже неразумным ходом мысли доискаться до ее причины […] оставалось только принять факт: человек разлетелся на куски просто так, а вовсе не за что-то, пусть даже отдаленно напоминающее идею – анархистскую или какую угодно другую»[5].
Но Конрада озадачили не политические воззрения Бурдена. Значение термина «анархизм» за последние сто лет изменилось, и сегодня его обычно понимают как полное отсутствие законов, когда всякий волен делать что хочет. В эпоху Бурдена целью анархистов скорее было непринятие государственных институтов, чем безграничная свобода личности. Анархисты XIX века не провозглашали права на тотальную свободу, но требовали свободы от тотального контроля. Они не признавали, как гласил один из их лозунгов, «ни богов, ни господ». С точки зрения христианского вероучения анархисты впадали в грех гордыни. Главный грех Люцифера и причина, по которой он был низвергнут с небес, – Non serviam, «Не буду служить».
Замысел взорвать бомбу Конрада тоже не удивлял. Случай Бурдена пришелся на середину лихого тридцатилетия анархистов-бомбистов, начавшегося в 1881 году убийством русского царя Александра II и продолжившегося до Первой мировой войны. Предпосылками бомбизма стали легкая доступность динамита и родившееся в анархизме понятие «пропаганда действием», предполагавшее, что индивидуальные акты террора ценны сами по себе, поскольку вдохновляют новых борцов. Таких, к примеру, как анархист Леон Чолгош – в сентябре 1901 года он застрелил президента США Уильяма Маккинли.
Нет, Конрад не мог понять другого: если ты анархист, разгуливающий по Лондону с бомбой, зачем тебе ехать в королевскую обсерваторию? Чем эта цель привлекательнее Букингемского дворца или Парламента? Оба здания располагались ближе к дому Бурдена, они важнее обсерватории, они символизируют собой власть государства. Почему выбор пал не на них? Похоже, Бурден видел в королевской обсерватории какой-то символ, уничтожить который он был готов любой ценой.
В событиях и текстах, вдохновленных историей Бурдена, объекту его атаки почти не уделяют внимания. Взрыв в Гринвичском парке художественно осмыслил Конрад, книгой которого вдохновлялся американский террорист Тед Качински, более известный как Унабомбер. Альфред Хичкок написал на основе этого случая сценарий картины «Диверсия» (1936), но в его осовремененном сюжете террорист едет по Лондону на автобусе. У Хичкока бомба срабатывает, когда автобус едет по Стрэнду[6]: пугающее предсказание реального события, произошедшего спустя шестьдесят лет, когда боевик ИРА по ошибке взорвал себя в автобусе, выезжавшем на Стрэнд.
Но если Конрада маршрут Бурдена приводил в недоумение, это не значит, что сам анархист плохо понимал, куда идет. Как скажет позже Уильям Гибсон, американский писатель-фантаст: «Будущее уже здесь. Просто оно еще неравномерно распределено». Идеи распределяются неравномерно и двигаются с непредсказуемой скоростью. Как знать, не разглядел ли Марсьяль Бурден проблески какой-то идеи, вовсе не видимой Конраду. С началом XX столетия его логика начала понемногу проясняться.
Земля несется по небесам. А на ее поверхности джентльмены сверяют свои карманные часы.
Это произошло 31 декабря 1900 года. Земля завершила оборот вокруг Солнца, а минутная стрелка обежала круг по циферблату. Обе стрелки указали на двенадцать, и это означало, что планета, совершив путь в тысячи километров, достигла нужной точки на своем ежегодном маршруте. В этот миг началось XX столетие.
В античной истории есть понятие омфала. Омфал – это центр мира, или, точнее, место, где культура установила этот центр. В религиозном смысле омфал считался связующей нитью между землей и небесами. Его называли пуповиной мира или axis mundi — мировой осью, а физической его репрезентацией чаще всего были столб или камень.
Омфал – универсальный символ, присущий практически всем культурам, только помещавшийся в разных местах. Для древних японцев это была гора Фудзи. Для индейцев сиу – Блэк-Хилс[7]. В греческой мифологии Зевс послал на поиски центра вселенной двух орлов. Они столкнулись над городом Дельфы, обозначив тем самым место для греческого омфала. У римлян омфалом служил сам Рим, в который вели все дороги, а позже на географических картах христиан центром мира стал Иерусалим.
В новогоднюю ночь 1900 года всемирным омфалом была Гринвичская королевская обсерватория на юге Лондона.
Обсерватория – изящное здание, заложенное при Карле II в 1675 году и спроектированное сэром Кристофером Реном. В 1900 году линия, проведенная через это здание с юга на север, служила началом отсчета при измерении мира. Об этом стандарте шестнадцатью годами раньше договорились представители двадцати пяти стран на конференции в Вашингтоне, голосованием утвердив Гринвич как место с нулевой долготой. Против голосовал Сан-Доминго, воздержались Франция и Бразилия, но конференция была скорее формальностью, поскольку 72 % судоводителей в мире уже пользовались картами, где нулевой меридиан проходил через Гринвич, а в США установили систему поясного времени с отсчетом от Гринвича.
Гринвич стал центром мира, престолом науки, утвержденным королями. Оттуда открывался вид на Лондон, столицу величайшей империи всех времен. XX век начался лишь в тот момент, когда его объявили часы обсерватории, потому что время на них выставлялось по положению звезд точно над крышей. Новый, научный, омфал тоже служил связующей нитью между землей и небом.
Если вы приедете в обсерваторию после наступления сумерек, нулевой меридиан предстанет вам в виде направленного в небо зеленого лазерного луча, прямого и неподвижного. Он бьет из здания обсерватории и точно совпадает с линией нулевой долготы. В 1900 году лазера, конечно же, не было. Линия была мнимой, мысленно спроецированной на физический мир. От нее сеть таких же линий-меридианов уходила на запад и восток, вокруг Земли, пока не сходилась на ее противоположной стороне. На нее накладывалась другая сеть – географических широт, «натянутая» от экватора к северному и южному полюсам. Получившаяся мнимая паутина образовала универсальную систему счисления времени и определения местоположения, которая позволила соотнести все места и предметы на Земле.
В новогоднюю ночь 1901 года люди в разных городах и странах высыпали на улицы, чтобы приветствовать наступление нового века. Спустя почти столетие торжества по случаю прихода нового тысячелетия состоятся перед наступлением 2000-го, а не 2001-го. Строго говоря, на год раньше срока, но это мало кого волновало. Сколько бы ни объясняли ученые из Гринвичской обсерватории, что новое тысячелетие начнется только 1 января 2001 года, этих буквоедов никто не стал слушать. Однако в начале XX века обсерватория пользовалась авторитетом, и мир жил по ее календарю. Гринвич был важным местом. Так что присутствовавшие там представители викторианского общества с особым удовлетворением поглядывали на часы, дожидаясь той самой минуты, когда родится новый век.
На первый взгляд, он обещал быть разумным и понятным. Викторианское восприятие мира покоилось на четырех столпах: монархия, церковь, империя и Ньютон.
Эти столпы казались незыблемыми. Через несколько лет Британская империя будет охватывать четверть мировой суши. Несмотря на унизительное поражение в Первой англо-бурской войне[8], мало кто понимал, насколько пошатнулась империя, и почти никто не осознавал, как скоро она рухнет. Столь же прочным, при всех успехах науки, казалось и положение церкви. Дарвин и открытия в геологии как будто посягали на авторитет Библии, но общество находило невежливым слишком уж вдаваться в эти материи. Законы Ньютона были всесторонне проверены, и закрепленная в них упорядоченная механика Вселенной казалась непреложной. Да, были еще кое-какие загадки, над которыми ученые ломали головы. Например, наблюдения показали, что орбита Меркурия несколько отличается от расчетной. И оставался вопрос эфира.
Эфир был гипотетическим веществом, которое считали тканью вселенной. Широко признавалось, что эфир должен существовать. Физические опыты раз за разом показывали, что свет распространяется волнами. Но световой волне, чтобы двигаться, нужна среда, как океанским волнам – вода, а акустическим – воздух. Световые волны, летящие от Солнца к Земле, должны сквозь что-то проходить, и этой средой назначили эфир. Беда была в том, что эксперименты, которые ставились, чтобы доказать его существование, раз за разом ничего не подтверждали. Однако ученые не видели в этом проблемы. Просто нужно работать дальше и ставить более тонкие опыты. Открытия эфира ожидали примерно так же, как «поимки» бозона Хиггса до появления ЦЕРНовского Большого адронного коллайдера. Наука утверждала, что он должен существовать, поэтому приходилось организовывать все более и более дорогостоящие эксперименты, чтобы найти наконец этому доказательства.
На заре нового века ученые были полны уверенности. Они располагали стройной системой знаний, которую не поколеблют никакие дополнения и уточнения. Как, по легенде, заметил в лекции 1900 года лорд Кельвин: «В физике больше нельзя открыть ничего нового. Дальше просто будет расти точность измерений». Это был довольно распространенный взгляд. «Все самые важные фундаментальные законы и факты физического мира уже открыты, – писал в 1903 году немецко-американский физик Альберт Майкельсон, – и они сегодня столь прочно установлены, что вероятность их отмены вследствие каких-то новых открытий выглядит абсолютно эфемерной». Говорят, астроном Саймон Ньюком объявил в 1888 году, что человечество, «вероятно, приблизилось к пределу того, что можно узнать в астрономии».
Один из преподавателей великого немецкого физика Макса Планка, носивший прекрасное имя Филипп Жолли[9], советовал ему бросить физику, потому что «почти всё уже открыто и остается только заполнить несколько малозначительных пробелов». Планк ответил, что не стремится открывать новое, а хочет лучше понять основы своей науки. Возможно, он не слышал старой поговорки о том, что рассмешить Бога можно, рассказав ему о своих планах, и стал в итоге родоначальником квантовой физики.
Конечно, каких-то открытий ученые все-таки ожидали. Работы Максвелла в области электромагнетизма наталкивали на мысль, что на обоих концах спектра электромагнитного излучения должны обнаружиться новые формы энергии, но эти энергии, как предполагалось, будут подчиняться уже известным формулам. Периодическая таблица Менделеева подсказывала, что где-то в природе должны быть новые формы материи, которые надо найти и назвать, но она же предполагала, что эти новые вещества точно встанут в ее ячейки и будут подчиняться общему порядку. И микробная теория Пастера, и дарвиновская теория эволюции указывали на существование еще не известных форм жизни, но были готовы классифицировать их, когда те будут обнаружены. Иными словами, считалось, что предстоящие научные открытия будут значительны, но не удивительны. И научное знание в XX веке останется таким же, как в XIX, только увеличится в объеме.
Между 1895 и 1901 годами Герберт Уэллс написал несколько книг, в том числе «Машину времени», «Войну миров», «Человека-невидимку» и «Первых людей на Луне». Так он заложил основы научной фантастики, нового жанра размышлений о будущих технологиях, который придется по сердцу XX столетию. В 1901 году Уэллс написал «Прозрения: Опыт пророчества» – серию статей, в которых он попытался предсказать ближайшее будущее и закрепить за собой репутацию главного футуролога своего времени. Взирая на эти статьи из нашего времени и закрывая глаза на откровенный расизм некоторых фрагментов, мы видим, что Уэллс оказался весьма успешным прогнозистом. Он предсказал механические летательные аппараты и сражения в воздухе. Он предвидел машины и поезда, ежедневно перемещающие людей, заселивших пригороды. Предрек фашистские диктатуры, мировую войну около 1940 года и Европейский союз. Он даже предвидел сексуальное раскрепощение мужчин и женщин – этот прогноз он сам старательно подтверждал, постоянно вступая во внебрачные связи.
Но кое-чего Уэллс просто не мог предвидеть: относительность, ядерное оружие, квантовую механику, микросхемы, черные дыры, постмодернизм и многое другое. Не столько непредвиденные, сколько непредвидимые в принципе. Предсказания писателя во многом сходились с ожиданиями ученых: он тоже отталкивался от уже известных фактов. Вселенная же, по словам, которые приписывают английскому астрофизику сэру Артуру Эддингтону, оказалась не просто «страннее, чем мы себе представляем, она страннее, чем мы можем представить»[10].
Этим непредвидимым открытиям предстояло случиться не в Гринвиче и не в Британии, где аристократов вполне устраивала существующая картина мира. И не в Соединенных Штатах – по крайней мере, начались они не там, хотя открытие примерно в то же время залежей нефти в Техасе оказало мощное воздействие на мировую историю. На заре XX века настоящие революционные идеи зарождались в кафе, университетах и журналах Германии и немецкоговорящих Швейцарии и Австрии.



