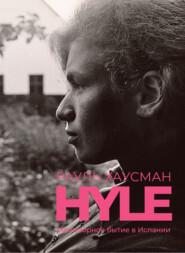скачать книгу бесплатно
Mol bе[67 - Превосходно (исп.).]. Двумя кубиками дальше – это и есть Кан Бодья. Занавес из металлических цепей. Внутри так темно, что сперва надо привыкнуть, чтобы что-то различить. У узкой стены стоит что-то вроде буфета, выкрашенное тёмно-зелёным, за стеклянными створками блестят бутылки. Выставлено несколько столов и стульев. Йост хлопает в ладоши, мгновенно появляется хозяин: узколицый, всё в нём чёрное: волосы, брови (очень густые), глаза, костюм, рубашка.
– Что вы хотели бы заказать? У нас всё очень лёгкое, совсем безвредное. Итак: фригола, мята, герба?
– Герба – это что?
Гордый испанец показывает бутылку, светлая жидкость, а в ней какие-то травяные стебли.
– Я возьму мяту, а вы?
– Попробуем с фриголой, мята уж больно ядовито-зелёная.
– Хорошо.
Садимся к столу. Хозяин приносит выпивку, это и впрямь какая-то парфюмерия для ухода за волосами.
– От этого не опьянеешь.
Тем временем el Se?or de Ca’n Bagotet говорит с el Se?or de Ca’n Bodja на языке ибиценко, и Трое не понимают ни слова. Но это ничего. Не обязательно всё знать. Это нездорово – всё знать. Хорошо, что пьёшь здесь глотками, глоточками, иначе бы захлебнулся, подавившись этой мыльной водой. Ну, el Se?or de Ca’n Bodja, по-настоящему испанский сдержанный идальго, мечет чёрно-тяжёлые молнии взглядов на обеих дам. Но всё знать…. И так далее, и так далее.
Выпили, заплатили: всё удовольствие стоило сорок сантимов.
Снова снаружи на улице, Йост говорит:
– А знаете, что он мне там внутри сказал? Он меня спрашивал, кто вы такие, тут я ему объяснил, что вы из Германии, дядя, тётя и племянница, а он говорит: «Такая же племянница, как ваши две». Я его уверял, что он ошибается, но он мне не поверил.
Вот именно, что нехорошо всё знать. Хорошенькие перспективы.
Стоим здесь в жгучем солнечном свете, camiоn должен вот-вот подойти, скоро полдвенадцатого. На виду у нас длинная деревенская улица, уходящая под горку (дома стоят лишь на одной стороне), и там, внизу она делает поворот, как раз там, где стоит огромное лимонное дерево, и уходит дальше, в долину, там можно проследить, как лента дороги появляется вновь, пока не скроется за круглыми холмами, обогнув их. Действительно слышен жалобный гудок – если приглядеться, то увидишь, как чёрно-коричневый жук ползёт вдоль carretera: это он, это он, наш автобус-camiоn. Подходят другие люди, выстраиваются группами перед конюшней, рядом с трёхглавой, украшенной железными крестами Голгофой, ожидающие: чужих, местных и писем.
Сигналя, сворачивая, громыхая, подъезжает это транспортное средство: старый изъезженный «Форд». Выходят люди, сгружают с крыши багаж – ящики, корзины и мешки. Почту, один из мешков, стаскивают трое мужчин. Стоит шумный гомон. Все говорят, кричат, перебивая друг друга, окликают кого-то. Всё происходит одновременно. Понимаешь важность момента.
Йост выжидает ещё пару минут, потом идёт к почтальону, посмотреть. Возвращается. Нет, ничего. Как обычно. Назад в Кан Баготет.
Под вечер. Сидеть после еды вшестером за столом в гостиной, sala. Йост, очень расположенный к Аре – потому что esta rubia tan cympatica[68 - Эта русая такая симпатичная (исп.).] произвела большое впечатление на мужчин в pueblo, – открывает в себе нечто русское:
– Мой дед по материнской линии происходил из казаков, в наполеоновской войне попал в плен и потом остался в Германии. Его клан был одним из исчезающих казачьих родов, и он называл себя Воян. Во мне много русского.
Р. Хаусман. Исследование экспрессии. 1931
– Да, это может быть, на человека с Рейна вы не похожи.
Вот так создаются отношения, даже там, где их нет.
– У меня и певческий голос славянский, меня даже хотели взять в казачий хор.
– Но вы не говорите по-русски?
– Нет, нет, я бы пел только в сопровождении.
– Ну, Аранка, спой нам свою песню про Байкал.
Ара выпрямляет спину, слегка вскидывает голову, открывает рот: оттуда вырывается голос, дикий, сдавленный, хриплый:
– Padikim stepjam sBaikaljy, – поёт она на цыганский манер. – Gde zoloto rojut v gorach. – Это бьёт фальшивому русскому прямо под дых. – Brads jagu sudbu proklinaja… – Тут её голос опустился глубоко вниз. – Ta schtschilsa s sumoi na plechtjach[69 - Искаж. запись первого куплета рус. народной песни XIX в.:По диким степям Забайкалья,Где золото роют в горах,Бродяга, судьбу проклиная,Тащился с сумой на плечах.], – тон жалобно пошёл вверх.
Конец тут пришёл нашему аахенскому волжскому корабелу. Пропадает он, пропал, с полными слёз глазами смотрит неотрывно на дивную бабу.
Это может кончиться на славу. Дорогой друг уже раз предлагал поменяться женщинами, потому что своих ему уже хватило досыта, а морякам ведь всегда нужна новая любовь. Эта сибирско-русская Ара производит впечатление геройской девушки, а господин капитан ищут себе матроса. Действительно, может всё хорошо получиться, особенно с этой глупостью про дядюшку и племянницу, или про дядюшек и племянниц. Тут уже никто не разберётся.
После того как хором спели “Is sa ostrawa na strechn”[70 - «Из-за острова на стрежень» (искаж. рус.).], Гал находит, что уже достаточно, пора назад, в Сан-Антонио. Но Йост придерживается той точки зрения, что ему тоже надо вниз, он пойдёт с нами – как провожатый и чтобы сократить путь.
Вальхе совсем розовая. Вальке – серо-голубая, кобальт выпадает из вальге, так что она совсем зелёная. Если сюда она вальгует, то отсюда вальхует. Хо фрейда. Хальд-фрейда. Ко мне катится углом вантер. С чего бы? Да целый, не половинка. Четверть. Это самое последнее. Так некоторые бальдауры кажутся не круглыми, а острыми. Так это ощущается совсем красным, но оно лучше чёрно-синее. Точно так и это присвистело. Что за дело. Целиком задело. Шепча пронзительными криками. Ублаготворяя мягкостью. На чёрно-синее не обращать внимания. Надо рассматривать результат. Только, пожалуйста, не делать выводов.
Какое высшее повеление этот исход. От него исходит такая свежесть. Истинное приданое. Отдаёт кисло-сладким. Можно в нём законсервироваться. А должно отдавать горьким, что внезапные озарения выпадают как робкие холода. Это бывает из-за валльге. Она велльхует. Никакими порывами. Она вельгует. Только не надо воображать. Хорошо завернувшись в себя. Никто не может поставить это в упрёк. Можно утверждать это хоть перед фарртгом. Он подфартывает всегда наготове. Маленькие шпринделя отпадают при этом ради ожесточённой принадлежности друг другу. Вообще-то случайность из ревности.
В дробном свете это становится даже уютным, но как полностью выгоревшее. Как бесполезно залатанное. Русые расстояния сталкиваются, не особенно при этом разоблачаясь, растягиваясь. Наоборот, они отпадают. Даже очень хорошо. Надёжно. На мгновение.
Всё это нужно выставлять в совокупности. Забвение как потерянность, которая при этом отличается. Ничего посредственного. Это всегда что-то превосходное вокруг понятной готовности вывернуть наоборот рухнувшее в пустоту; это должно повсеместно разворачивать недовольство. Пусть же развернётся то, что переходит из отдалённого.
На худой конец. Почему бы и не Валльке. Чаще всего фельговало. Восстаёт из отбросов. Господство в уступке. Перевёрнутое снисхождение выдержанной осторожности – обделённо соглашаться.
Поэтому киноварь либо красная, либо зелёная. Только озарение предназначения в удержании внешнего вида. Две трети – это правильно, восемь пятых – неправильно. Но что это решает? Кроме того, всё постоянно связано одно с другим. Что выделяется и что остаётся отдалённым. Только таким образом и можно это вынести. Давно прошедшее обыкновение, которое завтра будет введено в обиход. Было бы. Было введено, если не вошло. На худой конец. Так вот для чего вальхе было розовое или серо-голубое. Но чаще всего фиолетовое.
То же самое можно увидеть во времени. Оно настолько вневременно, что никогда не удерживается. Что опять же неприятно сказывается на нас.
То же самое, что оно проходит или приходит. Когда пора? Никогда, если у тебя есть время. Только если уже поздно. Что можно предвидеть. Это плохое время, которое ничего не улаживает, но и ничего собой не представляет. Между тем всё забыто. Не столько больше, сколько очень по-другому. Не очень различно. Может быть, внове, то есть очень правильно ко времени. Но вместо того чтобы растягиваться в длину, оно внезапно пробегает мимо. Не поймать. Не определимо никоим образом. Возможно, неопределённо. После Неизменного следует Погожее. Лучшее время. Своеобразно редко. Редко количество позволяет мало что определять, это надо допустить. Допустим. Исключительно многие исключения. Приблизительно так, как медленная быстрота, которая вдруг тянется бесконечно. В этом или в том нет ничего удивительного. Удивительно лишь удивление. Чему удивляться, когда существование удивляется? Как это соотносится с вельге? Она из фелльте осталась совершенно пурпурной.
(Из записей Йозефа. Секретных.)
Вменять или выменивать. Это пустые забавы. Жульничать с обманами. Перепачкано; не грязно, а грозно как молоток – или как радость. Из этого ничего не вынуть. Побочный подвид склада ума. Здесь есть лишь особость, теперь или потерпеть. Несмотря на это нет неминучей надобности. Среди прочего это часть взаимной заменяемости, но не затрагивает главного. Это остаётся постоянно главным делом. Даже если вид подвести под оценку, любое мнение подводит. Это надо изложить подробнее. Поскольку излагать особо нечего, это должно быть представлено. Как можно что-то представить без воображения? А к воображению надо подстроиться. Такие розыски следует отслеживать ради ничего. Единственная цель – исследование. Четыре восьмых могут быть тремя пятыми, и наоборот: половина и половина не есть целое. Для этого следует быть делимым на три половины. Поэтому наполовину выделанный лучше, чем полностью выработанный. Против этого не возразишь. К этому факту ты обращён целиком. В общем, ты от него отвращён. Надо решиться на причину, что равносильна различию в решении. Дробно как молоток – это не подробно, как долбёжка. Здесь, пожалуйста, поверните в обратную сторону.
Выменивать или вменять – это пустые забавы. С чем не связаны никакие упрёки.
(Здесь прерываются соединения, весь кобальт выпал из розовой вальхе.)
Они собрались. Четыре персоны – это целое скопление. Четыре персоны – это не собрание. Итак, они скопились. Иди куда идётся. Легко – это поздно. Солнце.
Оно падало за горой в никуда. Оно заходило, оно уходит, оно пропадает. Там его не видно. Однако луна. Над Цирером, между ним и противоположной вершиной, никто не знает названия, парит луна, жёлтый апельсин. Полная луна. Доходит восемь часов, будет ли восемь часов?
Алиса, Малышка, Ара, Гал. Собравшись, идут по carretera. К Бартоломео Рибасу. Перед его tienda[71 - Лавка (исп.).] их собирается ещё больше. Под полной луной, что медленно поднимается в синих коричневых сумерках. Пять персон идут вниз по carretera, здесь над дорогой простёрлось большое рожковое дерево: тысячи тёмно-зелёных листьев заслонили луну от взглядов. Пять персон удаляются в долину, которая вроде бы зовётся Бенимуза. Пусть будет Бенимуза.
Четверо европейцев идут, как они обычно ходят: ни на что не обращая внимания. Бартоломео Рибас, мужчина, рождённый на Ибице, одет в чёрное. На ногах у него белые альпаргаты. Сомбреро у него на голове жёлтое как масло: по-индейски круглое загорелое лицо, живые чёрные глаза. Симпатичный, красивый.
Бартоломео Рибас идёт, как ходят индейцы: он делает короткие шаги ногами, которые он ставит от бёдер и колен, сверху вниз к земле. Сеньор Рибас – изящная кукла, он ходит, как будто вытачивает что-то перед собой. Su pecho fiero[72 - У него могучая грудь (исп.).]. Он несёт её высоко, это правда.
Канареечное чириканье Алисы – совершенно незначительно. Кто знает и кто слушает под сине-коричневым небом такие речи? Одно верно, надо где-то жить. Нам надо. Бартоломео Рибас найдёт здесь для нас дом. Не придётся больше сидеть в Сан-Антонио, как сидят здесь все чужие, на жаровне ежедневно за большую плату.
Они идут в обход, обходной дорогой, рядом с полями, лежащими выше дороги. В обход carretera. Идут в полнословном молчании. В слова можно завернуться, много слов, ничего не говорящих. Словами можно вывернуться. Из чего угодно. Дом. Будь он хоть низок, хоть высок, хоть узок, хоть широк, он у них будет: дом на время. Крыша его плоская, стены белые, двери запирают отверстие, ведущее неведомо куда. Что тут слова? В красновато-сером мраке идут пятеро. Между сухих чернозёмных полей, высоко парит блестяще-жёлтая луна. Над холмами, холмами и долиной. Местность как мужчина, по которой он идёт и ведёт: con su aspetto fiero, de roca fu el pecho suo[73 - С устрашающим видом и грудью словно из скалы (смеш. исп. – катал.).].
Всё выше поднимается луна, всё ниже поёт тишина, посередине опускается ночь. Здесь холм тянется вниз, хочет срезать путь. После низины, по которой дорога ведёт в уединение Бенимузы, земля снова поднимается волной, нацелясь на Цирер. Снова видно carretera. Здесь пятёрка проходит под двумя большими навесами пиний, участок земли клонится круче, населённый лозой винограда. Лунный свет отбрасывает лёгкие, резко вырезанные тени. В них стоят столбики лозы, словно усталые солдаты. Получили приказ здесь стоять.
Дорога, глинистая тропа сворачивает здесь направо, уводит в узкую длинную долину, поросшую oliveros[74 - Оливковые деревья (исп.).]. Взгляд не достаёт через их верхушки. Куда мы сейчас попадём, там будет наш дом.
В полусвете показалась круглая структура: цистерна в виде белого цилиндра, прилегающие к ней скамьи справа, слева. Почти укрытая смоковницей. Чужим и далёким чудится это место. Место воды. Пройдя ещё несколько шагов, Бартоломе, предводитель, снова сворачивает, нырнув под низкие рожковые и миндальные деревья, вперёд, поперёк пустынного поля. Это пятно земли, странным образом другое.
Тускло поблёскивает в опустившейся ночи пятнистая светотень по краю полевой террасы.
Куда теперь? Куда мы держим путь? За змеиными изгибами ветвей, стволов, свесивших свою зелёно-чёрную листву, поднимается высокая – в метры – каменная стена. Значит, поднимаемся. Между обломками известняка находит опору стопа. Под конец шагаем через две подножки.
Маленькая смоковница занавесила вид чёрно-синим. Не просматривается. Пятеро идут под её покровительством. Сладковато-коричневый аромат скопился под лиственным покровом, тут ещё сохранилось дневное тепло. Поверх равномерно наслоённой каменной стены ещё ограда из ca?a: не видно, что за ней. Показывается вытянутый в длину белёный дом, дорожка, скорее тропка, проникает слева от дома под большую, разлапистую смоковницу. Под её согревающей сенью Гал спрашивает:
– Что это за дом?
Алиса переводит Рибасу, тот отвечает:
– Этот тоже, пожалуй, свободен, называется Кан Местре. Я-то хотел предложить вам другой. Сейчас уже придём. Он называется Кан Надаль. Поудобнее будет.
Под многоярусной террасой к изогнутой амфитеатром стене. Пятеро ищут дом. Дом, чтобы в нём жить. Защитить внутри него свою жизнь от смерти. Светло-блестящая луна нацелила сверху свой холодный свет. Изливает его на землю. Простирает его над полем.
Р. Хаусман. Кан Надаль, Сан-Хосе. 1934
Всё спокойно. Кто идёт? Кто тут? Пятеро прочёсывают ночь. Котловина долины волнится всё дальше, к холмам, обсаженным деревьями. Ещё выше мерцает белый кубик дома. Вдали.
А там, напротив, впереди ландшафт пронизывает длинная стена. Всегда тут что-нибудь проходит насквозь, наперерез, наперекор, и всё не таково, каково оно есть. Будет. Было. Здесь или там, местность всё равно пересечёт какая-нибудь каменная, длинная и низкая стена. Перешагнём. По ту сторону растения сбиваются в тёмную путаницу, кусты ca?a нацелены в небо. А за ними, полуспрятавшись, полураскрывшись, голые части строения. Очень неуверенные, недействительные. Это и есть Кан Надаль.
Под прикрытием выступающего впереди Бартоломе входят пятеро. Имеют перед собой портик, прямоугольный, белые колонны несут на себе стебли бамбука, изображающие кровлю, где всё свободно, ничего на себе не несёт, даже растения по ним не вьются: они здесь для собственного удовольствия. Левая сторона завершает дом, длинный, белый каменный контур, в который вписан прямоугольник двери, край кровли образуют черепицы, уложенные по принципу «монах-с-монашкой». Сразу за деревянными входными воротами – цветочный сад: в мерцающем свете луны листья настолько же черны, как и красные цветы. Всё огорожено высокими стеблями ca?a, пики её листьев исполосовали все направления. Чуждое, странное и совершенно покинутое – таким предстало посетителям строение Кан Надаль. Удивительный вид.
– Muy hermosa[75 - Очень красиво (исп.).], – сказал Бартоломе Рибас.
– Сказочно, – сказала Алиса. – Вы должны это взять.
– Хотелось бы взглянуть внутри.
Бартоломе открывает двустворчатую, облупившуюся дверь, они входят в сумеречно-фиолетовую sala. На заднем плане ещё три двери, кухня и спальни. Они мельком заглядывают в кухню, во тьме которой ничего не понять, спальни заперты. Либо слишком приватны, либо заполнены контрабандой. Дом окутан серо-синим молчанием. Уходят. Надо, говорит Рибас, ещё взглянуть на хлев. Почему он находит это важным? Идёмте, посмотрим на хлев. Осмотрим уж скотный двор.
– Сад остаётся в пользовании владельца.
Он очень большой, этот сад. Что в нём растёт, сейчас не разглядеть. Есть вид на холмы слева, справа, кругом, на долины среди них, всё озарено и затенено от света скользящей всё выше полной луны. Фиолетовая, синяя, коричневая, расстилается земля, покрытая растительностью. Вполне возможно, что там, впереди – море.
Свинарник. Четыре или пять низких загородок из красного камня. Пол устлан сухими водорослями. Нам-то что до этого? Ну, посмотрели. Без интереса. Красивое и уединённое это место. За горами, за долами. У семи гномов. Ночь хрустальных гробов.
Едва наброшенные архитектурные куски в этом ночном свете, в этой светлой ночи, какое чувство заброшенности и ненужности – возможно, всё это лишь от окружения осыпавшихся листьев ca?a. Нерешённость, нерешительность. Как быть? То, что одна комната дома остаётся за хозяином, важнее того, что свинарник достаётся нам. Ни на что не решившись, пятеро уходят, поскольку они персоны и поскольку здесь было замечено на теле одновременно странное, или едва ощутимое жжение, или зуд, надо бы как-то это назвать. Сделалось заметным. Продвигаясь вперёд, они ушли, ушагали, шагают они. Стоят, остановились, топчутся на месте, в свете луны, в лунном свете. Лунуслуна лунула.
Гал в белых штанах? Забелённые или зачернённые на нём штаны? Смотрит на себя, вдоль себя, что это. Как и остальные персоны, как они есть, беспокойно вертятся от покалывания и пощипывания. Что понадобилось этим пяти персонам в одинокую ночь в уединённом свинарнике?
Одна спичка могла бы внести ясность. Бартоломе достал из кармана брюк, своих брюк, фосфорную спичку, чиркнул ею, и загорелся язычок: то, что предстало в его свете, было не блестяще: в чёрных точках белые штаны, на которые все уставились. Сам владелец штанов, Гал, нагнулся и стряхивает с себя ладонями эти чёрные точки. Но кончилась спичка. В мягкой ночной тени женщины отряхиваются. Бартоломео не шевелится, не трогает ни себя, ни их. На его штанах, чёрных, ничего не видно. А чего не видели, того не было. Ни один испанец не чешет от блох ни себя, ни его, ни её. Con su aspetto fiero[76 - С устрашающим видом (исп.).].
Тут пятеро персон покидают дом, сад через решётчатую деревянную дверцу. Идут вдоль длинной стены к холму. Впереди вышагивают Бартоломео с Алисой, за ними Малышка, Ара, Гал. Первая группа перебрасывается со второй словом-другим. Алиса болтает с Бартоломео, она лучше всех говорит по-испански, а так как она двуязычная, ей всё приходится говорить дважды. Громкие звуки голосов покрывают преодолённое воздушное пространство над известняковым бездорожьем, горным переходом, звуки похвалы или раздумья звучат чужеродно, как истошные базарные крики, спрос и предложение толкутся вокруг, громыхая в ночной заброшенности, сменяя друг друга среди пяти персон в лунной тусклости и заглатывая всё внимание. Примечая слишком приметное. Распростёртость холмистости.
Вершина преодолена, теперь вниз между боковин холма, покрытых зарослями мелкого можжевельника, ведёт каменистое русло, и они идут по нему, пятеро, осторожно в тени старой дорожки. Бартоломео посередине, в достойной позиции, полной мягкой уверенности: он оказывает услугу и милость. Сдержанная услужливость. Обнажённость русла ручья расширяется: оно кончается, впадая в узкую дорогу, которая описывает этот холм у его подножия, ведя по себе пятерых персон. Вела. В красноватом отсвете луны местность пучится и взбухает как тесто в кадушке, извиваясь и сворачиваясь. Или как кишки в животе большого зверя. С холодным чутьём поживы, как смерть над вспученным.
Неведомое незнание совести.
– Теперь идите дальше по этой дороге, тут не заблудишься. Обойдёте тот холм и увидите Сан-Антонио.
Mol bе.
Пять персон прощаются. На одной стороне остаются две из них, на другой стороне три.
– Я поговорю с Бартоломе ещё о других домах, ведь Кан Надаль даже не рассматривается.
– Если бы он достался нам весь, но непредвиденные посещения владельца – это не для нас.
Buonas noches, bona nit, спокойной ночи.
Дорога, которой мы идём. Сквозь другие чуждые ущелья, которые мы минуем, улыбаясь и содрогаясь. Alla mi presente, all vostra signori[77 - Там мы предстанем пред очи вашего Господа (исп.).].
Carretera как змея, два банта и петли, обходя живые изгороди у блёклых домов. Здесь дорога спускается с холма. Пожалуй, так и надо. Неточная путаница, растения, стены, опять кубики домов, в свежей влаге ночной росы отряхиваются, снова чешутся трое. Бессчётно блох наползло им в рубашки и платья.
Шагая вниз, они вышли на широкую улицу, в которой опознали carretera Сан-Аугустино, глядя на ландшафт закаменелых волн: впереди мерцало на фоне тёмной полоски моря множество маленьких огней.
В Испании не тысяча и одна, а тысяча и три. И если не сеньорит, то хотя бы блох.
Для чего голова? Голова – чтобы башковать, нос – чтобы шмыгать, уши – чтобы трусить, рот – чтобы звонить; щёки, наконец, чтобы гладить или свистеть. Не говоря о глазах, их лучше всего закрывать. Шоры – это только для лошадей. Разве конь – человек?!
Э, Сан-Антонио-Абад, у здешних лошадей вовсе нет никаких шор. Поскольку лошади – здесь мулы.
А эмигранты – у них вечная болезнь: «а-у-нас-дома-это-иначе».
Я даже сидя несу на своих подошвах с собой мою Землю, или моя Земля подшивает меня к себе, где всегда АЗ ЕСМЬ – на что мне теперь те подошвы, когда они уже отрясли пыль Германии.
Снимем Кан Местре, дом рядом с Кан Надаль, который мы не сняли из-за тысячи и трёх блох на каждого – что за европейская идея у Гала, Ары и Малышки: принести красоту в жертву каким-то блохам. Блохи проходят, а красота остаётся. Договор аренды заключают с собственником, а не через его представителя: итак, мы пришли, чтобы уйти, мы никогда не видели крестьян в Эйвиссе, мы никогда не смогли бы с ними объясниться, с помощью Йоста, говорящего по-испански – или он говорит и вовсе по-эйвиценски, – довести дело до истинного, действительного, правильного завершения, наверху в Бенимузе, с сеньором Мариано Рибасом-и-Сала. Здесь каждый вводит фамилию матери рядом с фамилией отца. Вот трое и вышли, чтобы этим майским утром попасть в Кан Местре. Они поднялись по узкой тропе, отклонясь от carretera на Сан-Хосе к району Бенимузы, воздух напоён мыльно-пресной вонью рожкового дерева, похожей на запах спермы.
Под лучистым солнцем на красной земле среди миндальных, оливковых и рожковых деревьев мы идём, уйдя, и в ожидании ничем не можем себя занять, кроме как разговорами о пустяках. Как хозяин дома отнесётся ко всем нашим требованиям? Поймёт ли он, что люди хотят иметь клозет и плиту для приготовления еды? И где всё это, ибо нет возможности в верхнем этаже где-то присесть и сбросить дерьмо вниз свиньям на голову, как в pueblo. Эти речи банальны и ничтожны в других странах, но не на острове. Вот и Йост велел изготовить для себя эти вещи, когда три года назад приехал в Сан-Хосе.
Банальное часто не важно, а крайне важно. Это логично. Особенно когда речь идёт об уборной. Cogito ergo sum.
Трое с Йостом идут по мостику через террасы Кана Бонед, чтобы напрямую попасть в Кан Местре. Это старое сооружение кажется их ненамётанному глазу чем-то вроде крепости с квадратной башней и круглой дугой sala. Позади дома дорожка вдоль виноградника, мимо захудалого садика без растений, под смоковницей, они ошарашены Каном Местре, лучисто-белым примитивным ящиком под солнцем.
Мрачное прямоугольное жерло, входная дверь: в которой, прислонясь к косяку, стоит молодая ибицианка, скрестив за спиной руки в качестве подложки, очень странная в своём жёлтом головном платке под выбеленной соломенной шляпой, в тёмном национальном наряде, пышной юбке, накидке с зубчатой каймой, в сандалиях из травы эспарто, маленький пальчик ноги в чёрном шерстяном чулке выглядывает по правилам кокетства сбоку обувки.
Атлота величественно держит голову, обрамлённую тугими чёрными кудрями, в персиково-оливковой коже овального лица чёрные глаза, поднимается слегка вздёрнутый нос, полногубый рот. Это центральная точка, и ты улыбаешься глупо и скованно.
Пока трое с Йостом медленно приближаются, красавица начинает говорить кому-то внутрь дома, не сводя при этом презрительного взгляда с пришельцев. Она источает поток “ah carrai, ah fotre”[78 - Многозначное исп. экспрессивное выражение: «о, боже» и «чёрт возьми» в равной степени.], в то время как четверо проходят мимо неё в sala. Ah fotre, ah carrai.
Тут появляется сеньор Мариано Рибас-и-Сала, в бело-голубой sala Кана Местре. С достоинством. Может быть, ему мешает, что его дочь презрительно говорит о чужаках, но по нему незаметно, так сдержанно он несёт своё лицо под большим сомбреро, весь продолговатый, длинноносый, карие глаза лукавые и серьёзные, он хитёр и прост. Можно сказать, отдохнувшая голова. Белая рубашка ниспадает по местному обыкновению навыпуск, поверх чёрных, узких брюк.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: