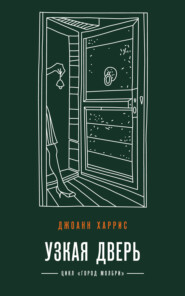скачать книгу бесплатно
Ничто не может оставаться навеки похороненным, думал я. Прошлое никогда не устает делать свои подарки, вытаскивая из огромной черной шляпы различные имена. Дэвид Спайкли, Беки Прайс – ныне оказавшаяся миссис Бакфаст, Эрик Скунс, Гарри Кларк. Однажды, возможно, прошлое вытащит на свет божий и мое имя. Я сунул руку в карман. Предмет, который я подобрал на краю котлована, на ощупь был неприятно холоден. И я вдруг подумал: если я сейчас просто уроню эту штуковину на землю где-нибудь на игровых полях, то ее вскоре втопчут в грязь, и тогда никто ничего не узнает. Да никому и дела не будет до какой-то древней истории. Как говорится, во время войны закон должен спать. Inter arma enim silent leges.
А что, у нас действительно идет война? Возможно. История с партами была только ее началом. Затем в классах появились белые доски, новая школьная форма для девочек в виде симпатичных сарафанчиков, компьютеры, электронная почта, новые лозунги. Например, «Прогресс через традиции». Я все еще стоял возле пролома в изгороди, и мне было хорошо видно, как мои «Броди Бойз» бредут через размокшее грязное поле; розовая майка Аллен-Джонса светилась, точно маяк, а Сатклифф обернулся и помахал мне.
Я вытащил руку из кармана и помахал в ответ. Я понимал, что выбора у меня нет. Возможно, в рекламной брошюре нашей школы лозунг «Прогресс через традиции» и сменил более привычный Audere, agere, auferre[15 - «Дерзать, трудиться изо всех сил и победить» (лат.).], но мой личный девиз так и остался прежним: Ad astra per aspera[16 - «К звездам – через тернии» (лат.).]. Ибо мы, даже свалившись в грязную канаву, всегда продолжаем стремиться к звездам.
Я обернулся. Эхо мальчишеского смеха звонко разносилось по игровым полям. Я вздохнул и с тяжелым сердцем побрел в сторону директорского кабинета.
Глава четвертая
«Сент-Освальдз», 4 сентября 2006 года
Беки была единственным ребенком в семье, и все же у нее был брат. Звучит как загадка, не правда ли? И, пожалуй, в определенном смысле так оно и было. Потому что мой брат исчез, когда ему было всего четырнадцать лет, и не оставил после себя ничего, кроме горя и некой пустоты, имевшей форму мальчика, которую я так никогда и не сумела ничем заполнить, поскольку она все разрасталась, а я по сравнению с ней словно становилась все меньше и меньше.
Моим родителям уже доводилось терять ребенка. Моя старшая сестра умерла еще до рождения Конрада, но родители редко о ней упоминали. У нас дома не было ни одной ее фотографии, и никакого портрета в гостиной тоже не было. Я знала, что моя сестренка умерла вскоре после своего появления на свет, потому что у нее было что-то не в порядке со здоровьем. И какое бы горе мои родители тогда ни испытывали, горе это было смягчено пониманием, что девочка – не жилец. С Конрадом же все было совершенно иначе. Его они всегда считали абсолютно идеальным ребенком.
Мне было всего пять лет, когда Конрад исчез. Слишком мала, чтобы понимать, что это означает. Так что я далеко не сразу догадалась, что отныне мой мир изменился навсегда. И еще очень долго не понимала: мне никогда, как бы я ни старалась, не занять то пустое пространство, что осталось после ухода Конрада; что я всегда буду ощущать его отсутствие как холодный сквозняк из открытой в ночную тьму двери. И впоследствии я не раз читала все это в глазах моих родителей. Отсутствие Конрада словно окутало холодом мое детство и юность; отсутствие моего брата оказалось куда могущественней моего реального присутствия в жизни родителей и полностью меня затмевало. Это продолжалось и когда я родила, и когда вышла замуж, и когда овдовела, и когда у меня наступила ранняя менопауза. Даже теперь, когда я стала директором школы «Сент-Освальдз», я порой слышу тот знакомый голос: Ты здесь? Неужели ты и впрямь все еще жива?
Я налила себе еще кофе. Джонни оставил мне в наследство свою кофейную машину – впрочем, особого-то выбора у него и не было, – весьма дорогое устройство, в сверкающих хромированных поверхностях которого я вижу собственное отражение и лишний раз убеждаюсь: я здесь, я жива. Наконец-то я действительно жива, я настоящая, а не просто чье-то отражение. Не просто какое-то имя. Не просто призрак из кофейной машины.
Я уже говорила, что чувствовала себя настоящей, целостной. Но чувство это было мной выстрадано. И в течение многих лет мне казалось, что у меня недостает некой важной части. Хотя на самом деле никто мне ничего такого не говорил. Однако дети всегда чувствуют подобные вещи сами. Вот и я чувствовала, что в иные дни я как бы исчезаю, растворяюсь в своем безмолвном мире, и дни моей жизни утекают без следа, как утекает в сливное отверстие вода из наполненной раковины. И все это отражалось в глазах моих родителей; да, я видела в их глазах бесконечную тоску и жестокое разочарование. Как если бы они предпочли, чтобы я, а не Конрад, оказалась тем ребенком, которому суждено было исчезнуть. Возможно, именно поэтому еще в ранней юности я научилась использовать секс как некую форму власти над другими. Я уже знала, какие желания пробуждаю у представителей противоположного пола, и очень быстро научилась заставлять мальчишек воспринимать меня такой, какая я есть, по-настоящему меня видеть – хотя бы до тех пор, пока им самим это нравилось. Например, я не нахожу иной причины любовного влечения ко мне, которое вдруг возникло у Джонни Харрингтона; сама я совершенно точно никогда не была в него влюблена, но какое-то время искренне наслаждалась обретенной над ним властью. Но и тогда для родителей я по-прежнему оставалась неким призраком вроде тех фантастических звуков и стуков, какие возникают в водопроводных трубах. Мало того, я постоянно служила им напоминанием о том трагическом дне, когда исчез мой брат.
Теперь, конечно, мои родители уже умерли. Вообще все герои этой истории либо мертвы, либо изменились до неузнаваемости. И никто уж больше не сравнивает меня с Конрадом. Никто не винит меня в его смерти. И родительский дом перестал быть местом поклонения Конраду, ибо теперь там живет самая обыкновенная и очень милая маленькая семья, понятия не имеющая о том, какая драма разыгралась в этих стенах много лет назад. Отец, мать, двое детей и джек-рассел-терьер. В маленьком садике у них растут розы. И номерные радиостанции[17 - Коротковолновые радиостанции, которые передают в эфир набор чисел, слов или букв, представляющих собой зашифрованные сведения и могут принадлежать самым разным организациям: например, разведке или же тайным тотализаторам.] никто больше не слушает. И старые ворчливые канализационные трубы наконец-то заменили. А я так и не успела тогда заменить сломанную крышку на унитазе. В день рождения я всегда получаю от этих людей поздравительные открытки.
Но ничто не может длиться вечно. Как и прошлое никогда не кончается. Вот почему я совершенно не удивилась, когда вы, Рой, сегодня пришли ко мне с сообщением о найденном трупе. Я, пожалуй, даже ждала этого. Целых двадцать лет ждала, когда кто-нибудь буквально споткнется об эту улику, торчащую из земли. Я даже усматриваю некий поэтический смысл в том, что подобная «честь» выпала Рою Стрейтли. Именно Стрейтли, этому шаркающему ногами старому шуту, который невольно послужил причиной падения Джонни Харрингтона. Именно неподкупному Стрейтли, которого многие считают сердцем и душой «Сент-Освальдз». Но именно «Сент-Освальдз» и станет причиной моей победы над Стрейтли. «Сент-Освальдз» – это его главная слабость, как когда-то моей главной слабостью был Конрад. Но в отличие от меня Рой Стрейтли не способен исторгнуть эту слабость из своей души. Он носит ее в себе, как некоторые продолжают носить любимое старое пальто, глупо считая его надежными доспехами. Вот почему я не испытала ни капли страха, когда Стрейтли пришел ко мне сегодня утром. Вот почему я и глазом не моргнула, когда он извлек из кармана некий маленький металлический предмет и положил его передо мной на стол.
Наоборот, я испытала даже некое облегчение и подумала: Наконец-то! Значит, его все-таки нашли.
Глава пятая
Сент-Освальдз», академия, Михайлов триместр, 4 сентября 2006 года
Надо все-таки отдать должное этой Ла Бакфаст: ее не так-то просто вывести из себя. Она спокойно выслушала мою историю, затем взяла двумя пальцами тот металлический предмет, который я украдкой извлек из кучи мусора возле Дома Гундерсона, и одарила меня улыбкой Моны Лизы.
– Вы, конечно же, узнали, чем это было прежде? – сказал я.
Она кивнула:
– Да, конечно. – И, указывая на кофейную машину, спросила: – Могу я соблазнить вас чашечкой кофе? Эта машина готовит очень вкусный капучино, хотя Джонни вообще-то предпочитал эспрессо.
– Нет, спасибо. – Я и без того был достаточно взвинчен. Все-таки не каждое утро твои ученики обнаруживают на школьных игровых полях мертвое тело, но Ла Бакфаст, похоже, восприняла принесенную мной новость совершенно иначе: словно для нее это было всего лишь легким раздражающим фактором, а не страшной бедой, которая вот-вот обрушится на «Сент-Освальдз» подобно ужасному Джаггернауту[18 - Джаггернаут – одно из воплощений бога Вишну; в переносном смысле – сокрушительная сила.].
– Вы понимаете, что это означает? – спросил я, глядя, как она готовит кофе. – Нам ведь придется сообщить полиции. Начнется расследование. Оформление бесконечных документов. Строительство снова будет приостановлено – и не на месяцы, а, возможно, на годы. А родители? Что станут думать родители наших учеников? А уж когда этот вопрос начнут разбирать на Совете Попечителей… Вы понимаете, госпожа директор, что подобная история способна уничтожить «Сент-Освальдз»? – Я вдруг понял, что в пылу собственной аргументации назвал ее директором.
Впрочем, Ла Бакфаст опять же ничем своих чувств не проявила, а спокойно посыпала свой капучино порошком какао из стеклянной баночки и сказала мне:
– Вы всегда все слишком драматизируете, Рой. Ваши ужасные предсказания вполне могут и не осуществиться. – Она изящно отпила глоточек кофе, стараясь не испачкать край чашки своей помадой. – А теперь давайте начнем с самого начала, хорошо? Спокойно расскажите мне все, что вам об этом известно.
И она указала мне на ту штуковину, которую мне удалось выудить из грязи возле Дома Гундерсона. Эта железка вряд ли была больше ногтя моего большого пальца, однако, по-моему, имела огромное значение для разгадки данной тайны. За двадцать лет пребывания под землей краски ее, некогда яркие, сильно полиняли, но я хорошо помнил, какой густой темно-красный цвет, цвет хорошего старого кларета, имело поле этого значка. Булавочная застежка, разумеется, давно отломилась, да и металл насквозь проржавел и стал грязно-коричневым, но форма значка полностью сохранилась: щит, на котором еще различимы были призраки букв, некогда написанных золотой краской и способных сложиться в слова:
ПРЕФЕКТ[19 - Примерно то же, что староста; обычно это ученик старшего класса, следящий за дисциплиной; назначается администрацией школы.] КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «КОРОЛЬ ГЕНРИХ»
Некоторое время я тупо смотрел на эту надпись. Такая крошечная вещица. Такая крошечная – но она способна стереть с лица земли целую школу. В какой-то миг я пожалел, что тогда не присыпал этот чертов значок землей, не скрыл от чужих глаз и его, и тот грязный комок тряпья и костей, который некогда был человеческим существом. Однако на том каменистом пути, что ведет нас к звездам, немало подобных искушений. А преподаватель школы «Сент-Освальдз», Мастер, обязан подавать правильный пример своим воспитанникам. И должен всегда быть честным, храбрым и искренним, а иначе что в нем проку?
– Ладно, но вы начинайте первая, – сказал я.
Ла Бакфаст слегка удивилась:
– А почему вы решили, что мне об этом уже что-то известно?
Ох, только, пожалуйста, не надо притворяться! В связи с тем, что я веду весьма замкнутую жизнь, и почти вся она прошла в стенах «Сент-Освальдз», начиная с детских лет и кончая сегодняшним днем, у меня давно уже выработались определенные инстинкты. И я сразу же – это во-первых – почувствовал, что Ла Бакфаст как-то чересчур спокойна. А во-вторых, она на этот значок толком и не посмотрела, так, едва глянула, а значит, она давно ожидала чего-то подобного. Возможно, она и о значке, и о самом теле уже знала. Но в таком случае почему же она не сообщила в полицию о том, что на территории школы найдены человеческие останки?
Некоторое время она с улыбкой смотрела на меня, потом сказала:
– Знаете, это довольно долгая история. Вы уверены, что так уж хотите ее услышать?
– Я буду в школе всю неделю, госпожа директор.
– Ну, разумеется. – Она снова улыбнулась. А я смотрел на нее и удивлялся: ну до чего спокойно и непринужденно она держится! Можно подумать, что она почти наслаждается сложившейся ситуацией. Точно шахматист, который с самого начала знает, что в данной партии непременно одержит победу.
– А вот сейчас я бы, пожалуй, все-таки выпил вашего знаменитого кофе, – сказал я.
– Я так и знала, что вы, возможно, все-таки передумаете. – И она с улыбкой налила мне капучино, посыпав пенку шоколадным порошком. Чисто случайно – а может, в качестве злого предзнаменования? – порошок образовал на пенке очертания некой фигуры, напоминающей человеческий череп. Цицерон, будучи циником, категорически отказывался верить во всякие чудеса и предзнаменования. Может, и мне стоило бы последовать его примеру? – подумал я. В конце концов, как мог бы сказать Фрейд, даже такое неприличное слово, как «фига», это еще и безобидное название одного из фруктов.
Капучино был хорош, хотя я по-прежнему предпочитаю кофе по-английски. Помнится, раньше кофе вообще был только черный или с молоком. Многое тогда – в том числе и люди – было гораздо проще. И всегда можно было понять, где проходит черта. Однако директор школы обязан знать правду вне зависимости от того, к чему это может привести. Veritas nunquam perit[20 - «Истина никогда не пропадет» (лат.), или «Правда дорогу найдет». Сенека, «Письма».]. Истина действительно никогда не умрет в отличие от того бедолаги, что был зарыт в землю возле Дома Гундерсона и давно превратился в грязный ком костей и тряпья. Если мои подозрения справедливы, учеником нашей школы он не был. И все же его история должна быть рассказана, хотя, возможно, это и обойдется нам очень дорого. Такая школа, как «Сент-Освальдз», прямо-таки самой жизнью предназначена для всевозможных драматических спектаклей. Сегодня на сцене трагедия. Завтра фарс. И Ла Бакфаст это отлично понимает. Она, в конце концов, прирожденная актриса; отличалась талантом, еще учась в «Малберри Хаус». Она прекрасно знает цену неопределенности, паузы, ожидания, когда актер испытывает удовольствие уже от того, что заставил зрителей напряженно затаить дыхание. И все же она не может не понимать, какой огромный ущерб подобное «открытие» может нанести той империи, которую она намерена здесь построить. Неужели она попытается убедить меня, что для меня же будет лучше, если я раз и навсегда забуду о сделанной моими «Броди Бойз» находке? Неужели она действительно верит, что ради благополучия «Сент-Освальдз» я окажусь способен на подобное преступление?
Она допила свой кофе и посмотрела на меня.
– Ну что ж, мистер Стрейтли, – сказала она с улыбкой, – если вы готовы, то я, пожалуй, начну.
Глаза у нее зеленые, но какого-то странного оттенка, довольно холодного. Однако почему-то кажутся веселыми. И я вдруг подумал: Господи, да ведь она же попросту развлекается! Неужели это доставляет ей удовольствие?
Я тоже поставил чашку на стол и сказал:
– Я вас слушаю.
Часть вторая
Коцит[21 - В греческой мифологии Коцит – одна из рек в Царстве мертвых, воды которой холодны как лед.] (река плача)
Глава первая
«Сент-Освальдз», 4 сентября 2006 года
Я хорошо помню тот день, когда Конрад исчез, потому что это случилось в день моего рождения. Собственно, это был наш общий день рождения, поскольку мы с ним родились в один и тот же день, но с разницей ровно в девять лет. В пять лет день рождения вообще представляется исполненным волшебства: это праздник, предвкушаемый задолго, день подарков, день всевозможных лакомств и всеобщих прощений. И этот день так хорошо начался – с оладьями на завтрак, с поздравительными открытками и даже с подарком от Конрада. Он подарил мне школьный портфельчик, очень похожий на его собственный, только поменьше и ярко-красный, как леденец: именно с таким портфелем я и мечтала начать свой первый триместр в начальной школе. Но до начала занятий оставалось еще целых шесть недель, поскольку летние каникулы только-только начались, и я еще не знала, что к этому времени Конрада с нами уже не будет и все в моем мире совершенно переменится.
Я помню то пятничное утро так же ясно, как некоторые сны. Это было девятое июля 1971 года; по радио исполняли «Get It On», и в животе у меня от счастья порхали бабочки, и мы уже предвкушали долгие летние каникулы, почти чувствуя в воздухе запах морского побережья. Я столько раз уже рассказывала об этом утре, что подробности этой истории успели покрыться некой необычной патиной – знаете, как на выступающих частях бронзовых вещиц, если ими долго и постоянно пользоваться. А вот лицо Конрада я помню не очень хорошо. В основном, по-моему, я вообще его помню только по сохранившимся фотографиям. Например, по той, которую тогда опубликовали все газеты; этот снимок был сделан в тот день, когда он исчез: Конрад в школьной форме – угольного цвета брюки, галстук в красную полоску и отлично сидящий блейзер из грубой рубчатой ткани. Или была еще фотография – Конрад с родителями во время празднования Рождества. Или на пляже – когда мы с ним строим замок из песка, и мне года три, я вооружена ведерком и совком и смеюсь во весь рот, глядя прямо в камеру. И, разумеется, я помню ту фотографию, которая причинила всем нам столько сердечной боли; это была фотография на обложке книги «КОНРАД: потерявшийся мальчик из Молбри», которую написала некая женщина по имени Кэтрин Поттс. На этой фотографии лицо Конрада как бы наложено на приоткрытую створку некой зеленой двери.
Собственно, эти фотографии и являются моими воспоминаниями. Все остальное так и осталось где-то на дальнем берегу моря, скрытом густым туманом. Даже те мои сны теперь почти позабыты. Особенно те сны, что были связаны с человеком, которого я называла мистер Смолфейс, и с его ужасным голосом.
Мне кажется, вы должны были слышать историю об этом пропавшем мальчике. Она все-таки занимала тогда в газетах центральное место, хотя, конечно, и у вас, и у школы «Сент-Освальдз» и собственных серьезных проблем хватало. И вы вряд ли запомнили фамилию маленькой сестренки того пропавшего мальчика; вы ведь не вспомнили ее, даже когда эта девочка вновь возникла в вашей жизни, будучи ученицей параллельной женской школы, которую затем объединили с «Сент-Освальдз». Однако имя Конрада Прайса еще долго было на слуху, и вы вряд ли сразу его забыли. Его исчезновение было самой настоящей и довольно страшной загадкой. Ученик привилегированной школы «Король Генрих» исчез в день своего рождения, чуть ли не в последний день летнего триместра, и больше никто и никогда его не видел; никаких останков или хотя бы следов также найдено не было. А ведь я была у него в школе, когда все это случилось, однако мой рассказ о событиях того дня оказался для следователей бесполезен, хотя они всячески пытались заставить меня что-то вспомнить, даже к психологу отвели; но чем больше они старались, тем меньше пользы было от моих бессвязных воспоминаний, и в итоге все пришли к заключению, что все, что я могла увидеть, безвозвратно утонуло в глубинах полученной мною травмы.
Основные же факты были достаточно просты. В тот день брат должен был забрать меня из приготовительной группы детского сада и отвести домой. А для меня все складывалось и вовсе отлично. Дело в том, что Конрад должен был участвовать в школьном спектакле, и как раз на этот день была назначена генеральная репетиция, так что празднование его дня рождения было перенесено на следующий день, а это означало, что у меня впервые будет мой собственный праздник.
Но когда я в тот день вышла из школы, Конрад меня не ждал, и я поступила так, как обычно делала в таких случаях: сама отправилась в школу «Король Генрих». Там и идти-то было всего несколько сотен ярдов. И потом, вспомните, что в семидесятые годы дети часто сами возвращались из школы домой, тем более что наш Молбри – город маленький. Да и наш классный наставник давно привык, что я после школы часто иду своему брату навстречу. В общем, в «Короля Генриха» я проникла через боковой вход, ведущий в раздевалку для учеников средних классов; Конрад частенько болтался там со своими приятелями: Милки, похожим на рекламного Milky Bar Kid[22 - Milky Bar – конфета из белого шоколада фирмы Nestle, для рекламы которой обычно используется белокурый мальчик в очках, одетый как ковбой.], толстячком Фэтти, которого иногда звали просто Толстяк, и Модником (сокращенно Мод), его еще называли Стилягой, потому что он всегда носил модную зеленую парку. Я привыкла ждать брата именно там. Конрад терпеть не мог, когда его видели у ворот детского сада. Но в тот раз явно что-то случилось; и даже спустя много лет, несмотря на разнообразные способы лечения, я так и не смогла вспомнить, что же именно тогда произошло. Меня нашли в той же раздевалке через несколько часов; я забилась в один из шкафчиков и свернулась там клубком, точно зверек, впавший в зимнюю спячку. Оказалось, что Конрад бесследно исчез, и когда меня стали спрашивать, где мой брат, я лишь отрицательно мотала головой, покрытой рыжими, только что подстриженными кудряшками, и твердила: «Его забрал мистер Смолфейс. Он его в зеленую дверь увел».
Школьное начальство тщетно пыталось понять, где же находится эта зеленая дверь. Двери в «Короле Генрихе» были в основном из натурального дерева и покрыты лаком; а двери в подсобные помещения – в комнату охранников, в бойлерную – выкрашены черной краской. Полицейские обследовали каждую зеленую дверь в окрестностях школы, однако безрезультатно. Впрочем, в «Молбри Икземинер» появилось сообщение о том, что в зеленый цвет выкрашены двери в «Сент-Освальдз», и это послужило причиной кратковременного ажиотажа; но, как известно, «Сент-Освальдз» находится в пяти милях от «Короля Генриха», и вряд ли можно было предположить, что Конрад с приятелями, а тем более я, вообще когда-либо там бывали. Куда более правдоподобным выглядело иное предположение: мальчика могли обманом выманить из школы – и, возможно, похититель приехал на зеленой машине, – а я все это видела, и полученная мною психическая травма в результате трансформировалась в некую фантазию.
Так или иначе, Конрад исчез, и теперь я могла его видеть только во сне или на фотографиях. С тех пор – почти двадцать лет – у нас в семье не праздновали ни один мой день рождения: ни мое шестнадцатилетие, ни мое восемнадцатилетие, ни мое совершеннолетие. На этот день был навсегда наложен запрет; это была некая жертва призраку Конрада. Да и сама я с того дня, когда пропал мой брат, тоже превратилась в некое подобие призрака, который безмолвно бродит по комнатам родного дома, до краев заполненного присутствием Конрада. И присутствие это год от года все разрасталось, становилось все более ощутимым, тогда как я продолжала как бы усыхать, съеживаться и наконец почти совсем исчезла – по крайней мере, для моих родителей.
В «хорошие» дни, правда, они со мной еще иногда разговаривали, как бы совершая те действия, что свойственны всем живущим вместе. Отец мой уволился с работы сразу же после исчезновения Конрада; на шахте, где он проработал всю жизнь, он был заместителем начальника, так что заслужил достаточно щедрую пенсию. Кроме того, у них с матерью имелись кое-какие сбережения – эти деньги они давно уже отложили, чтобы оплатить учебу Конрада в колледже. Теперь они сами могли бы спокойно воспользоваться этими средствами – поехать куда-нибудь отдохнуть или переехать в дом получше. Только мой отец категорически отказывался хотя бы прикоснуться к «деньгам Конрада». В «хорошие» дни он ходил на футбол или работал в огороде. А мать в «хорошие» дни посещала церковь и помогала устраивать утренние кофейные посиделки. Зато в плохие дни они оба были практически недосягаемы. У матери бывали довольно длительные периоды, когда она несколько недель подряд не вставала с постели; а у отца появилось какое-то патологическое увлечение передачами номерных радиостанций; перечисление чисел, которые зачитывал мертвый голос диктора или компьютера, неким странным образом связалось у него с исчезновением и поисками Конрада. Это началось у него спустя всего несколько месяцев после трагедии, а потом он стал постоянно слушать передачи номерных радиостанций, так что «саундтреком» моей юности стали не какие-то поп-хиты или музыка к популярным телесериалам, а вызывавшие у меня ужас позывные этих станций вроде «Ликольнширского браконьера» или «Вишенка созрела», абсолютно лишенные жизни и прерываемые разрядами статического электричества, – или, что было еще хуже, монотонное перечисление чисел, которое, казалось, продолжалось вечно: Ноль, два, пять, восемь, восемь. Ноль, два, пять, восемь, восемь… Последнее слово в очередной цепочке синтетический радиоголос всегда произносил как бы с легким подъемом, словно внушая слушающим призрачную надежду. Возможно, именно в этом моему отцу и слышалось некое послание из потустороннего мира. Для меня же эти голоса всегда были голосами мертвых; засыпая, я даже сквозь сон слышала их безжалостные каденции, хотя перед сном всегда хорошенько затыкала себе уши ватой.
В школе у меня была только одна подруга: девочка по имени Эмили Джексон. Вот ее я очень хорошо помню – воспоминания о ней, казалось, заслонили собой все то, что мой мозг воспринимать отказался. Эмили была маленькой блондиночкой с розовым личиком и спокойным, материнским темпераментом. У ее старшей сестры Терезы был ДЦП, и Эмили взяла на себя заботу о ней, без малейшего вздоха сожаления или возмущения поставив для себя потребности старшей сестры на первое место. Отец и мать Эмили были очень друг на друга похожи – оба кругленькие, жизнерадостные, – и в доме у них всегда царил веселый беспорядок. Зимой 1971 года они всей семьей переехали из Молбри куда-то еще, но я никогда не забывала Эмили, и наша детская дружба осталась самым светлым моим воспоминанием. Кроме нее у меня подруг никогда не было; я блуждала в своем воображаемом мире, чувствуя себя бесконечно одинокой. А без Джексонов я бы и вовсе была лишена тепла и друзей.
Я отнюдь не пытаюсь вызвать ваше сочувствие, Рой. Я всего лишь пытаюсь обрисовать ту обстановку, в которой росла. Исполненный уныния дом моих родителей, бесконечные цепочки чисел, передаваемые номерными радиостанциями, комната моего исчезнувшего брата, превращенная в святилище. О да, это было настоящее святилище! Там был большой фотографический портрет Конрада – он в школьной форме со значком префекта в петлице – и непременный детский локон, причем его волосы выглядели настолько же светлыми, мягкими и блестящими, насколько мои рыжие патлы казались жесткими, неухоженными и неукротимыми.
Рыжие волосы – верный признак дурного характера; что-то в этом роде частенько повторяла моя мать, но я к этому времени уже успешно научилась сдерживать свои чувства. А в школе «Малберри Хаус» я вообще была на редкость примерной ученицей. Я каждое воскресенье посещала церковь. Я постоянно получала награды за участие в школьных драматических постановках, а также за примерное поведение. Хотя, конечно, в шестнадцать лет я вляпалась в эту дурацкую историю с Джонни Харрингтоном, но как только его имя появилось в газетах, я мигом все прекратила. У меня всегда ума было больше, чем у него. Однако история эта имела некие незапланированные последствия: летом следующего года на свет появилась моя дочь Эмили; как ни странно, мои родители хоть и были потрясены столь неожиданным развитием событий, тем не менее приветствовали мое решение сохранить ребенка. Правда, они отнеслись к этому с той же беспомощной растерянностью, с какой теперь встречали каждую перемену в нашей жизни после исчезновения Конрада.
Но, если честно, я действительно была хорошей девочкой. Тихой, спокойной, послушной. Хотя, конечно, у меня порой бывали кошмары, в которых меня безжалостно преследовало нечто ужасное. Оно гналось за мной по пустынным коридорам классической школы «Король Генрих», но разглядеть его я толком никогда не могла, только чувствовала, что пахнет от него горящей фольгой, канализацией и протухшей стоячей водой – но это, в общем, оказалось не такой уж высокой ценой за ту привилегию, что я в итоге переросла своего старшего брата, которому так и не суждено было ни дожить до пятнадцати лет, ни впервые поцеловать девушку, ни поступить в колледж, ни подарить родителям внука или внучку.
Мне иногда кажется, что моей Эмили следовало бы родиться мальчиком, и тогда, возможно, мои родители сумели бы ее полюбить, а заодно – как бы по ассоциации – и меня. Однако, закутанные в плотные коконы своего горя, мои родители, точно пара полудохлых молей, почти не замечали своей единственной внучки, а однажды, когда я спросила, нельзя ли превратить бывшую комнату Конрада в детскую, мое вполне разумное предложение было встречено ими с таким возмущением и с такой тревогой, словно я выразила желание дотла спалить наш дом. Возможно, если бы Эмили родилась мальчиком, я бы еще подумала, не отдать ли ее на воспитание моим родителям. Ибо в шестнадцать лет я, разумеется, отнюдь не планировала становиться домашней хозяйкой и сидеть дома с ребенком, выйдя замуж за какого-то юнца, который был еще и на целых полгода меня младше. Однако у меня вызывала глубочайшее отвращение одна лишь мысль о том, чтобы оставить мою дочь на милость нашего патриархального государства или, что еще хуже, сделав аборт, смыть ее в канализацию, точно умирающую золотую рыбку. Я понимала, что никогда в жизни не оставлю своего ребенка и не позволю ему расти таким заброшенным, какой по вине моих родителей росла я. Именно поэтому я и решила не обращаться за помощью ни к своим родителям, ни к семейству Джонни. Я с трудом дождалась своего восемнадцатилетия и сразу же вместе с Эмили уехала из родительского дома, поселившись в муниципальной квартирке в Пог-Хилл, и начала работать неполный день ресепшионисткой в доме престарелых «Медоубэнк». Часы работы меня устраивали, а вот зарплата – значительно меньше; но если выбирать между социальным пособием и этими деньгами, то последнее было лучше, и мы вполне ухитрялись как-то прожить, хотя, может, и не слишком комфортно. Но Эмили всегда была сыта, коммунальные счета оплачены, а за спиной у меня не маячили сотрудники опеки.
Каждое воскресенье днем я садилась на автобус и ехала к родителям на Джексон-стрит, где выдерживала ровно пятьдесят минут – пила с ними чай и пыталась вести какой-то разговор. Время от времени отец предлагал мне немного денег, но я всегда отказывалась. Иногда я брала с собой Эмили. Но ни моя дочь, ни моя жизнь у них, похоже, интереса не вызывали. Пустота, вызванная исчезновением Конрада, словно поглотила их обоих; слегка оживлялись они лишь при упоминании его имени – но и то очень ненадолго и как бы наполовину. И исключительно в «хорошие» дни.
Основной темой наших разговоров всегда был Конрад, и говорили мы о нем только в настоящем времени, словно он в любой момент мог войти в гостиную и присоединиться к нашему разговору. Под безжалостную литанию номерных радиостанций родители перечисляли мне школьные награды Конрада, его спортивные успехи, его поразительные душевные качества, а я молча сидела и слушала, следя, как минутная стрелка часов в гостиной описывает круг за кругом.
– Конрад так хорошо умеет ладить с детьми, – говорила моя мать и подносила к губам чашку с остывшим чаем. – Когда он вернется домой, то страшно удивится, что у него уже есть маленькая племянница.
– Возьми печенье, – угощал меня папа, – ведь это же твой любимый «Бурбон»!
На самом деле «Бурбон» был любимым печеньем Конрада, а я никогда его не любила. То же самое было с хлопьями «Коко Попс», которые Конрад просто обожал и которыми родители каждое утро безжалостно меня пичкали; по той же причине яйца по-шотландски[23 - Крутые яйца, запеченные в колбасном фарше.], которые я ненавидела, каждое утро неизменно оказывались у меня в портфеле, в коробочке с завтраком, и мне по дороге в школу приходилось ронять их с моста в канал, где они покачивались на воде, точно маленькие оранжевые бакены, пока их не пожирали водяные крысы, которые, завидев меня, торжественно выстраивались на берегу, точно детишки в очереди за школьным обедом. Казалось, мои родители, пытаясь накормить меня любимыми кушаньями Конрада, лишний раз подкрепляли свою уверенность в том, что он по-прежнему являлся частью нашей жизни.
– Пап, я же не люблю «Бурбон», разве ты не помнишь?
– По-моему, ты все-таки опять сидишь на диете, – тут же поджимала губы моя мать. – А не следовало бы. Ты и так худющая.
– Честное слово, ни на какой диете я не сижу. Дело совсем не в этом.
– Конрад всегда ест как лошадь. А все из-за того, что бегает туда-сюда. Тебе бы тоже следовало почаще бывать на свежем воздухе. Глядишь, и аппетит бы появился!
Под конец я всегда не выдерживала, сдавалась и все-таки съедала это чертово печенье. В конце концов, ничего страшного, можно и потерпеть, если это доставляет им удовольствие, уговаривала я себя. Я заталкивала печенье в рот чуть ли не целиком, лишь бы поскорее с ним покончить, а мать, одобрительно на меня глядя, говорила: «Вот видишь? Значит, ты все-таки голодна! Ничего, у меня в кладовой припасены твои любимые яйца по-шотландски».
А время между тем шло, и я, продолжая воспитывать Эмили и работать в доме престарелых, ухитрилась окончить школу и сдать экзамены на A-level[24 - A-level (сокр. от англ. Advanced Level) в Великобритании – аттестационный экзамен, по результатам которого выдается сертификат об окончании программы классической (грамматической) школы, дающий право поступления в высшие учебные заведения. Подготовка к экзаменам ведется в старших классах (16–18 лет).], затем получила диплом Открытого университета[25 - Открытый университет работает в Великобритании с 1951 года и организует курс лекций для заочного обучения по радио и телевидению Би-би-си, а также рассылает по почте письменные задания, проводит практические занятия и курс лекций в специальных районных центрах. Вступительных экзаменов нет. По окончании пятилетнего курса обучения выдается соответствующий диплом.], поступила на курсы повышения квалификации в технический колледж, окончила их и наконец в двадцать три года стала временным, то есть внештатным, преподавателем общеобразовательной школы «Саннибэнк Парк». Это был далеко еще не предел моих планов и мечтаний; как, впрочем, и тех надежд, которые возлагали на меня мои родители. Да и сама моя тогдашняя жизнь была весьма далека от идеала; отнюдь не такой жизни я хотела бы для своей дочери. Ведь за эти шесть лет я ни разу как следует не выспалась; я покупала себе одежду в благотворительных лавках и на распродажах, а питалась почти исключительно лапшой быстрого приготовления. Зато за эти шесть лет я стала сильной. Я научилась развивать свои таланты. И благодаря всему этому я познакомилась с Домиником. И пусть наш брак оказался не столь удачным, как я тогда надеялась, но все же можно сказать, что Доминик меня спас.
Да, так можно сказать. И я даже позволю вам, Рой, в это поверить. Ибо таким мужчинам, как вы – и Доминик, – приятно считать себя спасителями. А нас, женщин, вы считаете чем-то вроде хрупких орхидей, готовых поникнуть при малейшем дуновении ветерка. Однако орхидеи куда крепче, чем вам кажется. Они порой лучше всего расцветают именно в отсутствие всякого ухода. Например, моей орхидее не требуется ничего, кроме полива раз в неделю или даже в две. А уж когда такие орхидеи цветут, то это продолжается месяцами, и цветы их прочны, как формованная резина, хоть и выглядят удивительно изящными, прелестными, уязвимыми. Они заставляют вас поверить в их беспомощность – в точности как женщины. Но очень многие женщины вас попросту обманывают.
Доминик Бакфаст возглавлял в нашей школе кафедру гуманитарных наук и был старше меня лет на десять. Это был очаровательный человек, забавный и умный одновременно – слишком умный для «Саннибэнк Парк». Он с легкостью мог бы преподавать в любой классической школе или даже в университете. Но, во-первых, Доминик был лейбористом. А во-вторых, не верил в частные школы. И, наконец, он был сыном уроженки Тринидада, которая едва умела читать и писать. А еще Доминик был прирожденным романтиком и повсюду искал обиженных или тех, кто нуждается в поддержке. В данном случае ему подвернулись мы: мать-одиночка и ее шестилетняя дочь. Я очень удивилась, узнав, что ему известна история моей семьи. Ему ведь было примерно столько же лет, сколько Конраду, когда тот исчез. И он, разумеется, читал об этой трагедии и был потрясен тем, какое воздействие она оказала на всю нашу семью. У него был свой дом на Эйприл-стрит – три спальни, садик. И к Эмили он как-то сразу привязался. Но самое главное – он не был женат.
В общем, я позволила ему нас спасти. После шести лет свирепой независимости, после шести лет бесконечного самоотречения во имя работы и учебы, когда я покупала одежду в благотворительных лавках и могла себе позволить только самые дешевые продукты, приберегая каждый грош, чтобы заплатить за наше жалкое жилье, после того, как я шесть лет никому не позволяла ни покровительствовать мне, ни жалеть меня, ни меня использовать, я вдруг решила: ладно, пусть этот человек нас спасет.
Чего только мы ни делаем ради наших детей, Рой. Какие только сложные решения нам ни приходится ради них принимать. Но Эмили тогда уже исполнилось шесть. Достаточно большая, чтобы сравнивать себя со своими одноклассницами. Достаточно большая, чтобы понимать, что семья у нас какая-то не такая. И не потому, что мы так уж бедны, а потому, что в нашей семье чего-то не хватает. Я уже сумела научить ее быть независимой, решительной и храброй. И все-таки в ней по-прежнему чего-то не хватало. И я понимала: ей не хватает того, чего и у меня самой никогда не было.
В детстве я всегда верила, что когда-нибудь непременно влюблюсь. Так всегда происходило и в книгах, и в телевизоре. Да и газеты были полны подобных историй. Вот и в жизни Эмили, хотя ей уже исполнилось шесть, доминировали волшебные сказки. Но я так никогда и не была по-настоящему влюблена. Ни в Джонни Харрингтона, ни в одного из тех мальчишек, с которыми трахалась, ни даже в кого-нибудь из актеров или поп-звезд. Наверное, я все-таки любила своих родителей. Когда-то. Я знала, что, должно быть, очень любила Конрада – но все это исчезло в одном из тех сливных отверстий, что поглотили и большую часть моего прошлого. И какие бы чувства я ни питала к Эмили – это было странное, яростное желание во что бы то ни стало защитить ее, – даже эти чувства никогда не проявлялись неким нормальным образом, в виде, например, поцелуев и сказок, рассказанных перед сном.
Вы ведь помните, Стрейтли, как молода я тогда была. И, наверное, все еще надеялась, что какому-то мужчине удастся дополнить меня, сделать меня полноценной женщиной. А Доминик действительно был человеком во многих отношениях хорошим; и мой ребенок так нуждался в отце. Все, правда, получилось не совсем так, как я изначально планировала, однако я, пожалуй, снова поступила бы точно так же, если б у меня была возможность повернуть время вспять. Вот здесь-то и начинается моя история. Я всегда знала, что когда-нибудь расскажу ее. И мне кажется на удивление естественным, что я рассказываю ее именно вам. Однако история эта началась не в тот день, когда исчез Конрад, а восемнадцать лет спустя, уже в доме Доминика, когда Эмили принесла из школы домой свой рисунок, написав под ним четкими крупными буквами: МИСТЕР СМОЛФЕЙС.
Глава вторая
«Сент-Освальдз», академия, Михайлов триместр, 4 сентября 2006 года
Да, конечно, я помню эту историю, ставшую трагедией для всех ее участников. Конрад Прайс, ученик 3-го класса[26 - Третий класс английской классической школы примерно соответствует седьмому или восьмому классу школы российской.] грамматической школы «Король Генрих», исчез в последний день летнего триместра и впоследствии так и не был обнаружен. Если бы это был кто-то из наших учеников, я, видимо, гораздо быстрее бы сумел сориентироваться и установить связь между событиями, но «Король Генрих» от нас в шести милях, да к тому же они наши вечные соперники, и, наверное, по этим причинам я несколько подзабыл то печальное происшествие.
– Искренне вам сочувствую, госпожа директор, – сказал я. – Для вас наверняка было просто ужасно потерять старшего брата.
– Вы и впредь намерены именовать меня «госпожа директор»? – Как ни странно, глаза ее по-прежнему весело блестели, и я понял, что мои сожаления неуместны и неоправданны.
– Но госпожа директор – это традиционное обращение, – возразил я.
Она рассмеялась.
– Ну если так, то, конечно, пользуйтесь им, ради бога. Однако должна заметить, что брат мой умер много лет назад, и не стоит чувствовать себя обязанным выражать мне по этому поводу сочувствие. Я ведь не для этого начала рассказывать вам все с самого начала. Просто мне казалось, что нужно сперва хорошенько все объяснить, прежде чем мы решим, в какую сторону нам двигаться дальше.
Ее слова несколько меня озадачили. Обнаружив на территории школы мертвое тело, куда же еще идти, как не в полицию? Однако, если это действительно останки ее родного брата, тогда, наверное, она сама имеет право решать, когда и куда сообщать об этом? И тут в голову мне вдруг пришла некая страшная мысль, и я с трудом удержался от комментариев. Но один вопрос продолжал меня мучить: с какой стати мальчик из «Короля Генриха» мог быть похоронен на территории «Сент-Освальдз»? Чисто случайно или его связывало с этими местом нечто иное?
Некоторое время Ла Бакфаст смотрела на меня с какой-то жалостливой улыбкой, потом спросила:
– Ваш друг Эрик Скунс ведь какое-то время преподавал в «Короле Генрихе», верно?
– Да, но это было через десять лет после смерти Конрада Прайса, – ответил я. Пожалуй, чересчур поспешно. – С 1982 по 1990 год. – Я и сам услышал в собственном голосе извиняющиеся нотки и желание защитить Скунса. Я даже поморщился. Скорее всего, Ла Бакфаст ничего такого в виду и не имела, но я всегда становлюсь излишне чувствительным, если речь заходит об Эрике. Этот человек, мой друг, умер. И пусть покоится с миром. Но почему-то беспокойство, вызванное ее словами, не проходило. Что же она имела в виду? Что Скунс с его порочными наклонностями[27 - О порочных наклонностях Скунса, оказавшегося педофилом и насильником, рассказывается в романе «Другой класс».] вполне мог оказаться в числе подозреваемых в убийстве Конрада? Нет. Это просто невозможно. Эрик, наверное, и впрямь был глубоко порочен, но убийцей он никогда не был. Я бы знал, если бы это было иначе. Я бы наверняка это заметил.
А Ла Бакфаст, глядя на меня все с той же жалостливой улыбкой, сказала:
– Я ведь и сама в это время работала в «Короле Генрихе», правда, недолго и всего лишь как внештатный преподаватель. Я провела там всего один триместр, в 1989 году. У них тогда заболел один из преподавателей французского языка, и срочно понадобилось его заменить.
– Правда? – Я был несколько удивлен. Школа «Король Генрих» всегда чрезвычайно гордилась своими незыблемыми традициями – даже, пожалуй, сильней, чем «Сент-Освальдз». Собственно, те традиции, что еще сохранились в «Сент-Освальдз» в виде грубоватой разновидности академического фольклора, в «Короле Генрихе» превратились в готический памятник претенциозности – с этим было связано и обязательное ношение преподавателями докторских мантий, особенно во время утренних Ассамблей, и непременные канотье из соломки для членов школьной команды гребцов, и множество других таинственных и нелепых правил и ритуалов, словно специально придуманных для того, чтобы любой аутсайдер тут же почувствовал себя в стенах этой школы неуютно. Наши мальчики давно уже прозвали тамошних учеников «генриеттами», и, несмотря на то что в «Короле Генрихе» в последнее время произошли весьма существенные перемены, а ее руководство осуществило некие престижные и прибыльные политические ходы, характерные для двадцатого века (были созданы гендерно-смешанные классы, учрежден статус «академии», официально введено в общий курс английского языка и литературы изучение драматического искусства, в связи с чем всячески поощрялись школьные спектакли, а также было расширено преподавание общественных наук), эта школа по-прежнему сохраняла репутацию эксклюзивной (отчасти, на мой взгляд, незаслуженно). В результате – что было вполне предсказуемо – «оззи», то есть ученики «Сент-Освальдз», и «генриетты» стали жесточайшими врагами, отчего и тогдашнее внезапное дезертирство старика Скунса воспринималось мною как-то особенно болезненно.
Ла Бакфаст опять улыбнулась.
– Зато я приобрела определенный опыт.
– О, в этом я как раз не сомневаюсь!
– И я действительно работала вместе с мистером Скунсом. Впрочем, об этом я вам еще расскажу. А сейчас прошу меня извинить, но у меня назначена встреча с доктором Марковичем и председателем попечительского совета. Вы ведь дадите мне еще денек, Рой? Я хоть немного переведу дух: все это довольно сильно на меня подействовало.
Подействовало ли? На сей счет у меня имелись большие сомнения. Уж больно спокойной она выглядела. Однако, подумав хорошенько, я решил, что улыбка у нее была, пожалуй, несколько вынужденная, да и лицо бледнее обычного, и мне, конечно же, сразу стало совестно. Ведь это в любом случае нелегко – вспоминать такие трагические события, как смерть брата. И уж тем более – если он внезапно и бесследно исчез. Такие вещи способны в клочья разорвать душу. Но так и не принести успокоения. Да и надежда – этот неумирающий вампир – будет вечно тревожить живых, а мертвому не позволит упокоиться с миром.
Да, конечно, сам-то я был единственным ребенком в семье. И родителей потерял много лет назад, и как полагается их оплакал. Хотя скорее из чувства долга. Лишь со смертью Эрика я понял, что такое настоящее горе. Мы с ним были почти ровесниками, всего два года разницы, и чувствовали себя братьями во всем, кроме фамилии. Я знаю, что порой отсутствие дорогого тебе человека способно ощущаться в виде почти физической боли – так причиняет фантомные страдания ампутированная конечность, словно по-прежнему требуя внимания своего хозяина. И признаюсь, от разговора с Ла Бакфаст мне хотелось большего. Мне хотелось услышать от нее, каким был Эрик, когда работал в «Короле Генрихе». Хотя, наверное, больше всего мне необходимо было убедиться, что совершенное им насилие над одним из наших мальчиков было лишь дикой одиночной случайностью, вызванной неким сдвигом в сознании, который проявил себя лишь в самом конце его карьеры преподавателя.
– Конечно, конечно, – сказал я, – я прекрасно вас понимаю.