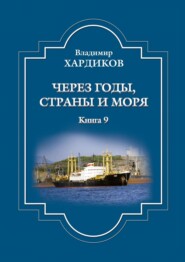скачать книгу бесплатно
Когда же свершилась революция, встал вопрос: а что дальше? Единой концепции не было, а молодые реформаторы с пробудившимся национальным самосознанием ставили своей целью освобождение от совсем уж неприятного звания американской увеселительной зоны, обуздание проституции, наркомании и прочих человеческих пороков. Хотя на острове немало полезных ископаемых, но на их разработку потребуются годы, а 10 миллионов кубинцев есть хотят ежедневно. Главным продуктом экспорта являлся сахар. Весь остров засажен плантациями сахарного тростника, и в урожайные годы суммарное производство доходило до 10 миллионов тонн. После выдворения американцев десятки тысяч собственных граждан потеряли работу, перед страной встали громадные проблемы выживания, о которых никто не думал. Свобода сразу же обозначила свою цену.
Нужно было превращать страну из увеселительного заведения в аграрно-промышленную державу. А где взять средства, оборудование, квалифицированных рабочих и многое другое? Если не предпринять немедленные экстренные меры, то власть продержится совсем недолго и время диктатуры Батисты покажется в совершенно ином свете.
Тем временем ближайшие кубинские соседи, включая США, не очень-то обращали внимание на «банановую» республику, резонно полагая, что правительство долго не продержится и созревший плод сам упадет к ногам. Но американцы не могли даже в кошмарном сне увидеть вскоре напрочь изменившуюся картину, спутавшую все карты.
По сути дела, первый послесталинский первый секретарь КПСС, Никита Хрущев, в тогдашней иерархии являвшийся главой государства, со своим хитроватым мужицким умом, несмотря на то что, по свидетельству многих отечественных историков и политологов, был самым малограмотным из всех советских руководителей, в столь нестандартной, неожиданной ситуации быстро сориентировался, недаром слыл мастером авантюр и интриг, не доверяя никому. Было у кого учиться, многие годы находясь в подручных вождя всех народов, когда всего лишь за один неосторожный взгляд можно было голову потерять. Вожди меньшего калибра, которым удалось выжить, получили самое настоящее «макиавеллевское» высшее образование, и в интригах им не было равных.
После окончания Второй мировой войны прошло всего лишь пятнадцать лет, за которые бывшие союзники по антигитлеровской коалиции превратились в злейших врагов, быстрыми темпами наращивая военную мощь, в особенности ядерное оружие. Появились атомные подводные лодки, несущие ракеты с ядерной начинкой. Советский Союз многократно проигрывал в ядерном вооружении своему оппоненту, оставалось только блефовать. С атомными подлодками дело было и вовсе швах, что вскоре подтвердилось.
Пронюхав, что страна победившей революции находится на распутье, стараясь избавиться от американской зависимости и не имея ничего своего, в глубоком экономическом кризисе, из которого не видно выхода, кремлевские эмиссары, почуяв жареное, сразу же принялись за дело. Вскоре СССР посетила высокопоставленная кубинская делегация, которую тепло встретили. Ну а дальше кремлевские «демоны» постарались своего не упустить: охмурили посулами и обещаниями, фактически обещая взять страну на полное «содержание», если она возьмет курс на построение социализма и коммунизма по кремлевским лекалам. Слишком уж соблазнительной она являлась – в каких-то паре сотен километров от США.
Затем к ее берегам потянулись сотни судов с грузами самого широкого назначения, включая нефть, которой у молодой республики не было ни литра. И лишь благодаря тропическому климату с отсутствием зимы не произошел коллапс государственной системы. Но вовремя подоспевшие друзья выручили из надвигавшейся беды. По данным статистики, одновременно на Кубу работали 70—80 судов нескольких пароходств Страны Советов, которые везли весь ассортимент товаров, от иголок до сложных машин и станков, продовольствие, топливо и, конечно же, оружие.
Только тогда американцы поняли, какую свинью им подсунули под самый бок. В начале 1961 года была организована операция с высадкой кубинских эмигрантов в заливе Свиней при поддержке американской авиации. Но она закончилась плачевно для нападавших: наемники и эмигранты были разбиты, а их остатки бежали с острова. Кубинцам достались богатые трофеи. До сих пор в Гаване существует музей военной техники, брошенной солдатами удачи, под открытым небом.
В ноябре 1962 года разразился Кубинский кризис, поставивший мир на грань ядерной войны. Поводом для его возникновения явилось размещение советских ракет с ядерными боеголовками на острове, что вызвало шок в американском истеблишменте. Авантюра, затеянная Хрущевым, тем более подкрепленная лишь блефом, могла совсем плохо кончиться для СССР, если бы в Белом доме сидел такой же «Хрущев». Но пришедший на смену Эйзенхауэру молодой президент Джон Кеннеди был прагматиком с выдержанными нервами, прекрасно понимавшим возникшую ситуацию. Американцы, обнаружив ракеты у себя под боком, в ультимативной форме потребовали их вывоза с Кубы. Наше правительство, в свою очередь, выступило с требованием убрать боеголовки из Турции. Вдобавок янки объявили блокаду Острова свободы, хотя никакой свободой там уже и не пахло, а толпы бывших проституток под конвоем водили на выгрузку прибывающих пароходов в целях трудового перевоспитания, к чему их шаловливые ручки вовсе не привыкли. Но, сдается, эта идея заранее обречена на провал: развратить легко, а вот сделать из бывших представительниц самой древней профессии целомудренных девиц, способен лишь Всевышний. Что-то сродни Марии Магдалине, но изгнать бесов, обуявших ее, было под силу лишь самому Иисусу. Едва ли островные жрицы любви удовлетворились бы одним лишь увещеванием: «Иди и не греши».
В качестве ответной меры советское правительство объявило, что не подчинится морской блокаде и грузовые суда будут сопровождать подводные атомоходы, которые намерены уничтожать военные корабли при попытках останавливать и проверять суда, направляющиеся к берегам острова с грузами. Это тоже был блеф: из нескольких атомоходов ни один не смог выйти для выполнения поставленной задачи, а командование ВМФ смогло выделить лишь четыре дизельные подводные лодки, которые спустя недолгое время были обнаружены американскими противолодочными кораблями и подняты на поверхность. По опубликованным воспоминаниям командиров лодок, внутри их железных корпусов царило самое настоящее пекло, ведь они никоим образом не были приспособлены для плавания в тропической зоне, ибо таковой во всех климатических зонах своей страны не наблюдается. Конструкторы и строители подумать не могли об их использовании в тропических международных водах. Экипажи находились на грани сумасшествия, хотя разовые случаи имели место. Лишь иногда в ночное время удавалось всплывать на поверхность, рискуя быть обнаруженными, когда уровень углекислого газа превышал все мыслимые нормы и люди начинали галлюцинировать, да и запас электроэнергии в аккумуляторах для электродвигателей приближался к нулю. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить только в надводном положении.
Как бы то ни было, но в октябре 1962 года Карибский кризис благополучно разрешился: ракеты с Кубы вывезли обратно, а американцы убрали свои из Турции. В Стране Советов преодоление кризиса преподали как большую победу дипломатии, вооруженных сил и лично первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева.
На волне этой победы Куба стала как никогда популярной в СССР. Уже в ноябре появилась песня «Куба – любовь моя!», которая в исполнении талантливого певца Муслима Магомаева звучала как гимн, марш, вызов, не оставляя равнодушными никого. Его густой, сочный, обволакивающий голос, словно погружал в себя своей привлекательностью и внутренним обаянием, не оставляя никого безучастным и безразличным. И хотя с ним пробовал соревноваться еще молодой Иосиф Кобзон, но его голос отдавал каким-то металлическим оттенком, превращаясь в механическое, непривлекательное исполнение. Позднее он все-таки нашел свое место, став, по сути дела, официальным кремлевским певцом, которому удавались политические и патриотические песни, но до Магомаева ему было далеко, тем более тот не претендовал на роль послушного кремлевского певца с собственным репертуаром. Торжественные аккорды ставшей в одночасье популярной песни звучали по всей стране по нескольку раз на дню. Ее авторами являлась «сладкая парочка»: супруги – композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Безусловно, они были очень талантливы, но весь свой данный природой дар растратили на обслуживание внешней и внутренней политики государства, оставаясь востребованными и обласканными всеми руководителями СССР и России. Лауреаты всех возможных премий и обладатели наград, заседающие в президиумах многих торжественных и творческих собраний. В общем, жизнь удалась. О них-то и еще кое о ком из исполнителей сказал великий пересмешник и острослов Валентин Гафт, автор множества эпиграмм и пародий: «Комсомол на подвиг зовет, и нету других забот!» Коротко, многозначительно и ясно. Его едкие эпиграммы неоднократно вызывали скандалы и возмущение известных актеров, композиторов, поэтов и певцов. Так, о Лии Ахеджаковой он написал: «Лия Ахеджакова всегда играет одинаково». Когда актриса обратилась к нему за объяснением, что значит одинаково, Гафт мгновенно отреагировал: «Одинаково хорошо, Лиечка!»
Тем временем сотни судов морского флота непрерывным потоком следовали в кубинские порты с широчайшим ассортиментов грузов в трюмах: страну с десятимиллионным населением взяли на полное государственное довольствие. Кубинские порты не справлялись с таким потоком пароходов, и они в своем большинстве вынуждены были неделями, а иногда и месяцами простаивать в ожидании постановки к причалу. У островной республики был лишь один товар, способный в какой-то мере компенсировать поставки, проще говоря, создать иллюзию взаимовыгодной торговли: сахар-сырец желтого цвета. Но его было явно недостаточно, несмотря на миллионы производимых тонн лишь после сахарной страды – сафры. Кстати, сахарная свекла и кубинский тростник имеют примерно одинаковое содержание сахара – около 20%. Подавляющее большинство колониальных товаров шло через Атлантику, судами западных пароходств. Но кое-что доставалось и Дальнему Востоку: в основном, пиломатериалы хвойных пород для строительства на острове. Сумма долгов от псевдовзаимовыгодной торговли накапливалась, и никакой сахарный бартер не мог изменить их в более-менее правдоподобном направлении, слишком разные весовые категории. Впоследствии все долги были списаны уже Россией, а их сумма составляла порядка 20 миллиардов долларов, в современном исчислении можно смело увеличить раз в десять. Но этого тогда никто не мог знать, а суда работали, выполняя и перевыполняя планы, получая заслуженные премии, не подозревая, что их работа является не более чем сизифовым трудом. Хорошо, что они об этом не знали, иначе само осознание бесполезности производимого труда может кого угодно выбить из седла и погрузить в депрессивное настроение. И это совершалось в то время, когда собственный народ в своем большинстве жил в халупах с соломенными крышами и земляными полами, не ведая ни о каком электричестве. При том что климат в Стране Советов некоторым образом отличается от кубинского.
На календаре август 1978 года, самое лучшее время в Приморье, да и, пожалуй, на всем ДВ и в Тихом океане, когда успокаивается погода, отсутствуют западные циклоны, а до зимних еще далеко. Яркое синее небо, солнце, теплая морская вода, располагающая к неге на ее плещущихся волнах с едва заметной зыбью. Она ласково обнимает купающихся, словно стараясь убаюкать, то поднимает, то легонько опускает. Отплыв подальше от берега, лежа на спине, всматриваешься в голубизну неба и погружаешься в обволакивающее состояние умиротворенности, отрешаясь от всех насущных забот и тревог. Мир кажется абстрактным и далеким, существующим лишь в воображении. Идиллия, столь редко посещающая и потому являющаяся еще более ценной и неповторимой. Счастье не может быть непрерывным, оно лишь осязаемый в данный момент миг.
Теплоход «Капитан Дублицкий», на котором Сергей Кушнаренко работал вторым помощником капитана, еще совсем недавно бывший на нем третьим помощником, из серии польских лесовозов-пакетовозов, с зашитыми трюмами-ящиками, как принято говорить, боксовой формы, идеально подходил для перевозки многих грузов. Отсутствие выпирающих шпангоутов и бимсов ни в коей мере не умаляло объема трюмов в отличие от обычных конвенционных пароходов, где часть объема «съедалась» теми же шпангоутами, кницами и бимсами. Еще будучи в ремонте в Славянском судоремонтном заводе, капитан получил рейсовое задание на предстоящий рейс на Кубу с полной загрузкой пакетированным пиломатериалом. Так уж получилось, что за полтора года работы судну со дня его постройки с грузами прямого назначения не приходилось иметь дело. В основном пароход задействовали под работу в балкерном варианте: пшеница из портов Австралии, США и Канады на порты южного Приморья. Наличествовали и пара коротких рейсов с технологической щепой на Японию, совсем не свойственных для судов подобного типа, когда груз полностью заполняет трюмы, а перевозимых тонн совсем мало. Для перевозки столь специфичного груза используют специализированные суда – щеповозы с большим объемом трюмов и гораздо меньшей грузоподъемностью, исходя из того, что одна тонна щепы занимает объем в пять-шесть кубических метров.
Общее количество планируемых к перевозке пакетированных пиломатериалов составляло пятнадцать тысяч кубических метров, из которых третья часть планировалась на палубу, которой еще не приходилось испытывать столь серьезные нагрузки. Помимо того, в трюмы погрузили несколько десятков тонн обычного хозяйственного мыла, в коем у кубинцев, впрочем как и во всем остальном, существовала острая нехватка и у них оно пользовалось большим спросом. Немного странным на фоне массовых грузов выглядела поставка большой партии детских велосипедов. В отгрузочных документах на них был указан завод-изготовитель: «Авиазавод Дземги», которого на самом деле не существовало. Но тайна и вовсе являлась секретом полишинеля: Сергею, коренному жителю Комсомольска-на-Амуре, было доподлинно известно место нахождение этого предприятия, выпускавшего самые современные военные самолеты и в качестве дополнительной продукции – детские велосипеды. Каждому крупному предприятию того времени вменяли в обязанность производить какую-либо продукцию ширпотреба, чтобы как-то снизить острый дефицит в стране, где основной являлась продукция военно-промышленного комплекса, не оставляя средств на легкую для собственного населения. Велосипеды были совсем неплохими и даже экспортировались, наверное, все-таки лишь в страны советского блока. Название завода «Дземги» появилось по имени старого нанайского стойбища, на месте которого в 30-е годы возвели авиационный завод. Не будешь же в сопроводительных документах на велосипеды указывать истинное название завода, хотя никакой тайны в этом не было. Но как-то уж вовсе несуразно звучал бы «Комсомольский-на-Амуре авиазавод», хотя, с другой стороны, это всего лишь дань моде все засекречивать, которая со временем нисколько не меняется.
Сергею до этого не приходилось бывать на Кубе, довольствуясь лишь радужной информацией, звучащей по радио и телевидению. Остров свободы однозначно рассматривался как страна социалистического лагеря, первая на американском континенте. Но к общей шелухе, свойственной патриотически-закидательским настроениям, относящимся ко всем странам советского блока, примешивался незнакомый аромат тропического разнообразия и особенностей, столь далеких от европейских стран.
Рейсы на Кубу, которые были поставлены на поток в пароходствах западной части страны, интересны лишь поначалу, а потом они превращались в настоящую тягомотину с длинными переходами. И дело вовсе не в самой республике, а в материальной стороне участников процесса. Экипажи судов всегда предпочитали взамен командировочных получать так называемые суточные в твердых валютах, хотя и в ничтожном количестве – больше не давали. В рейсах на страны социалистической направленности – Вьетнам, Китай, Кубу, Северную Корею – по правилам валютного законодательства выплачивались лишь денежные знаки стран захода, которые сильно напоминали родное Отечество, то есть покупать там было нечего. Но в таких случаях выплачивались чеки ВТБ, которые можно использовать в специализированных магазинах «Альбатрос», расположенных в приморских городах (что-то подобное более известным «Березкам»). Цены в них тоже были «кусачие», но мореходам ничего другого не оставалось. Впрочем, для привлекательности кубинских рейсов, которые в основном выполнялись судами Черноморского, Новороссийского, Балтийского и Мурманского пароходств, придумали вполне законное основание для получения свободно конвертируемой валюты – заходы в порт Лас-Пальмас Канарского архипелага (для пароходов южных компаний) и в бельгийский Антверпен (для судов Балтийского и Мурманского пароходств) для пополнения запасов топлива, воды и провизии. Торговцы, в основном, славянского происхождения, быстро сориентировались и наводнили припортовые территории большим количеством лавчонок с дешевыми востребованными товарами в странах народной демократии. Получилось, что овцы целы и волки сыты, кубинские рейсы сразу же стали привлекательными.
Дальневосточники в этом случае были обделены: никакие заходы в промежуточные порты не предусматривались, их просто не было, да и кубинских рейсов было не так уж и много. Таким образом, им оставалось довольствоваться лишь чеками ВТБ для «Альбатроса». Подобные лавки с дешевыми товарами занимали целые кварталы во многих морских городах, где промышляли мореходы из других стран: Сингапуре, Гонконге, японском Кобе, канадском Ванкувере и многих иных. В настоящее время от них не осталось и следа: все застроено современными зданиями, шикарными магазинами, развлекательными центрами. От самих кварталов сохранились лишь воспоминания долгожителей, и догадаться о прежнем назначении было бы невозможно даже самому Вольфу Мессингу, если бы он и поныне здравствовал. Сегодня лишь витражи, надраенные до ослепительного блеска, сверкают на солнце и отражают прохожих, словно в большом зеркале.
Кубинцы, как и все латиноамериканцы, большие любители веселья и карнавальных шествий, когда на время уходишь от действительности заполненной повседневными трудностями жизни, погружаясь во всеобщее ликование и праздничное настроение. В июле-августе 1978 года на острове проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и кубинские песни заполнили советский эфир, латиноамериканские танцы обрели новую популярность.
Перед рейсом побывавшие на острове члены экипажа выступали завзятыми знатоками, рассказывая были и небылицы о кубинских обычаях и привычках. Второе десятилетие сталкиваясь с «временными» трудностями, народ выработал собственные навыки выживания в условиях непрекращающегося строительства социализма, когда нужно еще немного потерпеть, а потом наступит едва ли не царствие небесное. Все уже привыкли к проблемам, ранее неизвестным, да и появилось новое поколение, не знавшее иного. В обстановке всеобщего дефицита предметы домашнего обихода, косметика и даже обычные мужские носки становились предметами торга или обмена с иностранными гражданами, ибо большинство товаров было строго рационировано, а в магазинах хоть шаром покати, да и купить за местные песо что-либо полезное и нужное было невозможно. Процветал черный рынок, а американские доллары ценились более всего. Иными словами, остров поразила та же самая болезнь, что и другие страны, строящие социализм. Похоже, она и являлась родимым пятном на теле государств, выбравших самый «передовой строй», а может, и обреченных следовать указаниям «старшего брата», путем построения бесклассового общества. Хотя, по сути, таковым оно не являлось: появились новые классы чиновников и партийно-советской номенклатуры, живущие по своим особым правилам, недоступным обывателю, будь он хоть семи пядей во лбу. Уничтожение бывших, не соответствующих избранному пути в светлое будущее классов обернулось созданием новых, но гораздо менее инициативных и предпринимательских, обернутых лишь в словесную шелуху партийной и советской демагогии.
Учитывая опыт и напутствия более опытных коллег, «ревизор» приобрел перед дальним походом десять флаконов одеколона «Шипр», который впоследствии очень пригодился в столичном порту Гаваны. На этом и закончилось приготовление запасов подарков для встречи с кубинцами, а жаль,: если бы знал состояние тамошних дел, приготовился бы более основательно. Эпоха стеклянных бус и топориков давно прошла, и сегодня требовались иные атрибуты, о которых во времена Кортеса и Писсарро никто даже не подозревал: времена изменились, и эволюция делала свое дело.
Погрузка в Находке продолжалась десять дней, которых вполне хватило в условиях прекрасной погоды конца лета. В последний день августа «Капитан Дублицкий», загруженный по самые ноздри, то бишь клюзы, снялся в транс тихоокеанский рейс. Учитывая погоду на пути перехода, капитан принял решение следовать кратчайшим путем – по дуге большого круга, которая совпадает с расстоянием на географическом глобусе, но никак не на навигационных картах прямоугольной проекции. Состояние океана обещало быть благосклонным, и ближайших циклонов, особенно опасных для пароходов с палубным караваном, не просматривалось. Из-за палубного груза остойчивость была невелика, и пароход, словно утка, плавно переваливался с борта на борт с кренами не более 10 градусов на оба борта и периодом чуть более 20 секунд, когда качка становилась убаюкивающей и располагающей к сонливости. Солнечные блики, отражающиеся от набегавшей зыби, заставляли щурить глаза, не в силах совладать с солнечными зайчиками, мириадами отражающимися от едва заметного дыхания океана. Стада дельфинов, гоняющие летучих рыб и косяки рыбной мелочи, сопровождали на всем пути, разнообразя порядком надоедавшую монотонность океанского плавания.
На этот раз Тихий океан оправдал свое название, а весь 25-суточный переход оказался самым спокойным во всей морской карьере Сергея. Длительный переход по океанской беспредельности при отсутствии островов порождал иллюзию бесконечности пространства, все дальше унося от мирских забот. Благоприятная погода с четкой линией горизонта располагала к астрономическим наблюдениям, иных средств определения места судна не было, спутниковые приемники американской глобальной системы GPS появились на судах пароходства позднее. А пока верным и надежным прибором, при умении им пользоваться, оставался секстан. Сергею всегда нравилась астрономия с необыкновенно яркими среди океанского раздолья звездами, не нарушаемыми никакими иными засветками от внешних источников. На этом переходе он отвел душу на определении координат по солнцу и звездам, тем более во время тягучих вахт, когда кажется, что время остановилось и вахта тянется бесконечно долго. Серия экспериментов с ночными определениями по звездам, которые не рекомендует ни один мэтр, тоже прошла успешно, хотя из кабинетов виднее. Но практика иногда сильно отличается от теории, вынуждая в сложившихся обстоятельствах отступать от устоявшихся канонов, и, что вовсе удивительно, ничуть не уступает требуемым результатам. Наблюдать в океане за перемещением звездного неба – нечто особенное. Только тогда ощущаешь себя причастным к глубинам космоса и беспредельности расстояний, когда они исчисляются миллионами световых лет – что-то совсем непостижимое человеческим разумом, хотя в целом понимаешь дискретность, галактические и вселенские параметры. Пульсары, двойные звезды, взрывы сверхновых, экзопланеты, красные и белые карлики с разбегающейся Вселенной, которая по всем земным законам должна сближаться согласно действующей гравитации, но она вопреки всему разбегается. Вопрос, мучающий современных астрофизиков уже не один год, вследствие чего придумали не известную никому «темную материю», а есть ли она на самом деле – покажет время, или же само понятие и понимание так и останутся недоступными человечеству. Какая же «нечистая сила» заставляет разбегаться Вселенную, когда даже галактики выглядят как летящие парашютики одуванчиков? Человеку невозможно даже вообразить такое, это выше его разума. По сравнению со всей невообразимой мощью наше светило кажется совсем крошечным, несмотря на то, что в его глубинах уже около пяти миллиардов лет течет непрерывная термоядерная реакция, поддерживаемая температурой свыше 15 миллионов градусов, что ничего не говорит человеку, ибо представить температуру свыше трех тысяч градусов, при которой плавится самый тугоплавкий метал на планете – вольфрам, невозможно. О давлении в недрах не стоит и говорить, если плазма в форме солнечных протуберанцев выплевывается даже с поверхности светила с температурой всего лишь каких-то 5—6 тысяч градусов, на десятки миллионов километров.
На протяжении всего перехода не встретилось мало-мальски серьезного шторма, и «Капитан Дублицкий» так и следовал, не сбавляя четырнадцати узловой скорости, вплоть до Панамского канала. Океан был тих и спокоен, и сам бог велел провести шлюпочные учения с остановкой судна, спуском спасательных шлюпок и посадкой людей, что по всем требованиям должно проводится ежемесячно, но в порту при прохождении проливов и узкостей, как и в непогоду, такому риску никто не хочет подвергаться, ограничиваясь лишь спуском шлюпок до уровня шлюпочной палубы, отмечая в судовом журнале как проведенную тревогу. На протяжении рейса возникающую скуку и океанское однообразие в какой-то мере скрашивал судовой открытый бассейн на шлюпочной палубе, наполняемый забортной водой. Он был хоть и небольшой, но довольно глубокий, и до поздней ночи оттуда раздавались взрывы хохота и удары плюхающихся разгоряченных тел о воду.
А вот и Панамский канал, его тихоокеанский аванпорт Бальбоа, на рейде которого пришлось ждать своей очереди для входа в канал около двух суток. Интенсивное движение, судовладельцы экономят время и деньги, и канал работает круглосуточно, без перерывов в обоих направлениях следуют друг за другом суда. Затем настал черед и пакетовоза, который вошел в канал через системы шлюзов «Мирафлорес» и «Педро Мигель» и был поднят на высоту 26 метров над уровнем океана.
Сергей впервые проходил канал, и все вокруг его интересовало. Детище французского архитектора Лессепса, который также проектировал и возглавлял строительство Суэцкого канала, в самом деле производило сильное впечатление. Сооружения, о которых приходилось читать раньше, теперь предстали воочию: небольшие трудяги электровозы, получившие за свое трудолюбие почтительное и ласкательное прозвище «мулы», тянули пароход по шлюзам, удерживая по центру, дабы избежать повреждений самого судна и конструкций шлюзов. Сравнение с мулами неслучайно: неприхотливый гибрид осла и кобылы во всех отношения превосходит своих родственников, как близких, так и дальних, поражая выносливостью, тягловой силой, устойчивостью к заболеваниям и даже продолжительностью сорокалетней жизни. Поражала скорость наполнения шлюзовых камер, уровень которых поднимался на глазах вместе с проводимым пароходом. Какова же производительность насосов, способных в считаные минуты перекачать почти целое море?
Таким образом судно поднималось до начального уровня следующей шлюзовой камеры. В результате пароход поднимался на высоту десятиэтажного здания выше уровня океана, а затем начинался спуск в обратном порядке. При выполнении столь сложных операций – открытия и закрытия шлюзов – каждое действие было отлажено, и время его исполнения составляло всего несколько минут. На стенках шлюзов «Мирафлорес» отчетливо проглядывались цифры «1913» – год окончания строительства столь значимых для всего мира гидротехнических сооружений, словно открывших новую эпоху гидростроительства. За прошедшие 65 лет они ничуть не изменились, лишь потемнели от водорослей, придающих им темно-зеленый оттенок. Тогда Сергей смотрел во все глаза, стараясь запомнить одно из чудес света, которое, может, более никогда не придется увидеть, не считая обратного прохода из Атлантики в Тихий океан. Вряд ли их пошлют через Атлантику в Европу после выгрузки на Кубе. Вероятность мизерная, работы и в Юго-Восточной Азии хватает, да и Арктику наверняка держат в уме. Охватывало чувство прикосновения к чему-то большому, ведь по этой «дороге жизни», соединяющей два океана, до тебя прошли сотни тысяч судов, кораблей, яхт и прочих плавучих средств. Эти берега видели множество легендарных пароходов и кораблей, как и лиц, управляющих ими или взирающих с палуб океанских лайнеров. Они так же, как ты сейчас, обозревали это рукотворное чудо, на месте которого всего лишь несколько десятков лет тому назад простирались непреодолимые мангровые заросли тропической растительности среди непроходимых болот, изобилующих малярийными комарами, от укусов которых погибли тысячи первостроителей.
В Тихом океане во время проведения шлюпочных учений
Высокий технологический уровень шлюзов канала и особенно системы закрытия створов их ворот, которые работали безотказно спустя более полувека, находясь при этом в полной гармонии с растущими требованиями научно-технического прогресса, Сергей оценил спустя несколько лет, когда работал начальником транспортно-спускового плавучего дока на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. На заводе имеется наливной бассейн, в который через полушлюз заводится плавучий док для вывода из строительных эллингов подводных лодок. Для перекрытия полушлюза применялись специальные «шандорные» балки, укладываемые двумя кранами в пазы в стенках полушлюза. Эта неуклюжая и очень трудоемкая система была построена в Комсомольске на двадцать с лишним лет позднее шлюзов Панамского канала и используется до сих пор. Для закрывания-открывания полушлюза требуется пять-шесть часов интенсивного труда целой бригады рабочих. Получается, что система шлюзования изначально строилась по старым, архаичным планам и никак не могла конкурировать с гораздо более ранним, считай – намного старшим, современным на то время шлюзованием, которое возводилось с расчетом на будущее. А ведь в этом не было никаких секретов. Конечно, в канале скорость заполнения шлюзов играет особую роль: все-таки за год в среднем он пропускает 14 тысяч судов в обоих направлениях. На комсомольском заводе такая скорость заполнения ни к чему, но все-таки трудоемкость процесса остается под большим вопросом. Кажущаяся начальная экономия спустя годы оборачивается большими итоговыми расходами. Каковы технологии, такова и производительность труда. Естественно, в краткосрочном периоде очевиден проигрыш, но в дальней перспективе совершенно обратная картина. Во времена первых пятилеток старались строить не заморачиваясь на длительное будущее – сказывались недостаток средств и строгие графики введения в действие очередного объекта. «Построим лучше, когда разбогатеем!» Но разбогатеть за прошедшие полвека так и не удалось, потому и приходится каждый раз перебиваться старыми технологиями, отставая от лидеров научно-технического прогресса.
После шлюзов «Педро Мигель» судно прошло через искусственное пресноводное озеро Гатун и затем снова, перевалив самую высокую точку, через систему шлюзов того же названия опустилось до уровня Атлантического океана, и пароход оказался в Карибском море. Океаны и моря разные, а вода точно такая же, нет даже лабораторных различий. Среднее время прохождения 82-километрового канала составляет девять часов, но с учетом ожидания на входе на его форсирование ушло около двух с половиной суток.
На атлантическом выходе из канала находится Кристобаль – аванпорт города Колон, что в переводе с испанского означает имя первооткрывателя Нового Света – Христофора Колумба, впервые увидевшего «Западную Индию», как тогда считали, 12 октября 1492 года. У испаноязычных жителей новых территорий существовала традиция называть город и порт разными именами, что подтверждает и вход в канал с тихоокеанской стороны: город – Панама, а порт – Бальбоа.
После прохода канала создалось впечатление, что попали в совершенно иной мир, ведь за кормой остался не только Тихий океан, но и громадный американский материк, между домом и настоящим положением пролегла огромная даль во многие тысячи миль, да и полушарие было Западным.
Оказавшись в Карибском море, «Капитан Дублицкий» взял курс на конечный порт назначения – Гавану, до которой оставалось трое суток хода. Анализ метеообстановки, в корне отличающейся от тихоокеанской всего лишь сотней миль ранее, показал, что на этой кухне погоды совсем не так просто. Кратчайший путь не всегда является таковым, особенно в море, славящемся зарождением ураганов, от которых достается островам и континентальным странам: США и Мексике. Вот и на этот раз на пути следования заметили зарождение очередного, на вид безобидного, циклона, который будто заманивает, демонстрируя миролюбие. Но через пару суток может показать свой настоящий нрав, стоит лишь подойти поближе. «Береженого Бог бережет!» Посему «мастер» решил обойти Остров свободы с восточной стороны, через Наветренный пролив между Кубой и Гаити. Погода резко контрастировала с тихоокеанской: тучи, порывистый, часто меняющий направление ветер и дождевые заряды, но спустя несколько часов все наладилась, и до самой Гаваны хлопот изменчивая незнакомка не приносила.
На этом коротком переходе произошел забавный случай, который можно сразу же пристегнуть к анекдотическим загадкам Бермудского треугольника, который находился совсем поблизости, что некоторые сразу же попытались сделать, то есть оседлать известного конька.
На морских судах ежедневно третий помощник капитана сверяет точность судового хронометра по сигналам точного времени, звучащим по радио. Судовой хронометр всегда показывает время по нулевому меридиану Гринвича, а его стрелки никогда не переводят или отводят, определяют одну лишь поправку хода, которую заносят в специальный журнал.
Пройдя Наветренный пролив, «Капитан Дублицкий» следовал в северо-западном направлении вдоль кубинских берегов. Сергей заступил на свою полуденную вахту на идущем полным ходом судне среди спокойного моря, где даже зыбь отсутствовала – среди множества островов ей просто негде было разогнаться. Создавалось ощущение какого-то озерного плавания, когда вместо волнения на поверхности появляется небольшая рябь от бризовых ветров. Вот только камышей не было, а так бы и не отличить. Температура забортного воздуха была вполне комфортной, без ощущения парной бани тропической жары, когда тело быстро покрывается липким потом. Экипаж находился в приподнятом настроении, заканчивался длительный, почти месячный, переход, и народ с нетерпением ожидал скорого прихода в кубинскую столицу. Как обычно, после обеда на мостике собиралась компания: капитан, помполит, электромеханик, судовой врач, – поговорить на разные темы и пообсуждать внутренние дела и последние новости.
Спустя некоторое время на мостике появился какой-то взъерошенный третий помощник с секундомером в руках. Очевидно, он занимался своим обычным делом, сверяя показания хранителя времени со стрелками на судовых часах. Он был заметно растерян и как-то неуверенно обратился к капитану: «Не могу понять, что-то очень странное происходит! Хронометр и все судовые часы отстают на десять минут! Все, все, все! Я сам проверил!!! Такого никогда не было, чтобы хронометр отставал и уводил с собой часы!»
Капитан с оттенком недоверия спросил, как ведут себя магнитный компас и гирокомпас, не наблюдается чего-либо необычного в их работе. «Нет, с ними все в порядке», – ответил третий.
Стоявший рядом доктор с тревогой в голосе уверенно заявил: «Мы ведь рядом с Бермудским треугольником! Это же его влияние! Вспомните, в последние годы много писали о случаях пропажи судов или же находили брошенные экипажами пароходы! Суда были в полном порядке, среди них даже попадались с накрытыми столами в кают-компании и еще теплыми блюдами. Экипаж куда-то исчез, будто все одновременно за борт выпрыгнули!»
Помполит, выслушав такой пассаж умудренного судового лекаря, мрачно спросил капитана: «Может, на всякий случай перевести главный двигатель в маневренный режим? Надо предупредить экипаж, чтобы были готовы, мало ли что может случиться». Капитан молча посмотрел на него, но ничего не сказал, а может быть, подумал, что с такими помощниками и до паники недалеко, с подобными проповедями черт знает до чего договориться можно на пустом месте.
Общее молчание нарушил второй радист, зашедший на мостик с радиограммой для капитана. Увидев мрачные, сосредоточенные лица присутствующих, спросил: «Что случилось? Что-то произошло? В чем дело?» Третий помощник при молчании остальных объяснил ему причину столь глубоких раздумий, после чего радист в свою очередь спросил: «А с чем ты сверял хронометр? По радио сигнал точного времени услышал?» – «Ну конечно, как обычно», – ответил третий. Радист неожиданно расхохотался, все посмотрели на него непонимающе: «Что это с ним?» Когда же тот отдышался, отходя от смеха, объяснил не поддающуюся разумению ситуацию, вернее причину, ее вызвавшую: «Судовая радиостанция в этом районе земного шара никакие передачи в дневное время из Союза не принимает, а ночью радиосигналы проходят гораздо лучше и чище, вот я и записал на ночной вахте обычную радиопередачу, а днем включил ее по судовой трансляции – пусть люди слушают вести с родины. Такое часто бывает в районах плохого прохождения радиосигналов». Обращаясь к третьему помощнику, добавил: «Если бы ты обратил внимание не только на точный момент начала часа, но и на то, который час наступил, то отставание было бы гораздо больше: например, четыре или пять часов с десятью минутами».
Третий помощник с хмурым видом выслушал радиста, поняв, что тот тоже приложил руку к возникшим сомнениям, но промолвил с облегчением: «Ну тогда, наверное, все в порядке. Мне не приходилось попадать в подобные ситуации, да и слышать о них тоже». У всех присутствующих просветлели лица, они дружно рассмеялись, сбросив с плеч едва обозначившуюся ношу, и начали обсуждать предстоящую стоянку в Гаване.
Следует добавить, что помполит и доктор на любом судне являются самыми свободными от каких-либо постоянных дел – по сути дела, узаконенные бездельники. Доктору иногда еще приходится что-то делать с пациентами, если наступает такая необходимость, но помполит – кот, гуляющий сам по себе. Вот они читают и слушают всякую дребедень, подсаживаясь на конспирологию и загадочные факты, которые потом незаметно переносят на окружающих, смущая тех открывшимися неопровержимыми, как им кажется, аргументами. Занимались бы чем-то более приземленным: помполиту, в силу его профессии, следовало бы прочесть «Капитал» Карла Маркса, тем более что, по свидетельству одного авторитета, единственным человеком, осилившим эту книгу, был Фридрих Энгельс. В этом случае помполит был бы вторым прочитавшим столь капитальный труд, что совсем не плохо для его самоутверждения в парткоме пароходства. Ну а доктору, помимо медицинской энциклопедии, которая наверняка ему надоела, почитать бы что-либо классическое, например «Дон Кихота» Сервантеса или «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, особенно перед обедом или ужином. Выбор за ним, в зависимости от цели: если хочет похудеть, то пусть читает Сервантеса, а если поправиться, то Рабле.
Через сутки подошли к Гаване, белый маяк рядом с крепостью Эль-Морро усматривался издалека. На удивление, совершенно непонятно почему, сразу же пароход поставили к причалу под выгрузку. Явление исключительное по своей уникальности! Обычными являлись простои в ожидании постановки к освободившемуся причалу, измеряемые неделями, а иногда и месяцами дрейфования в море на виду известного маяка. Большие глубины не давали шанса стать на якорь, до дна не хватило бы всех одиннадцати смычек якорь-цепи, а это как-никак 275 метров. Может, и здесь подсуетилась нечистая сила из Бермудского треугольника? Впрочем, нужно было спросить доктора с помполитом, они ведь лучше знают.
Стоянка растянулась на три недели, выгружали явно не в темпе кубинской румбы. Портовые сооружения производили довольно унылое впечатление: по всему было видно, что никаких обновлений или ремонтных работ, по меньшей мере за два десятка предшествующих лет, не производилось. Гранитная причальная линия, еще с испанских времен, держалась крепко, хотя выбоин и сколов хватало. Ни о какой экологии не могло быть и речи, от испарений, поднимающихся от загаженной толстым слоем нефтепродуктов самого широкого ассортимента бухты, вкупе с тропической жарой кружилась голова – видимо, с непривычки. Много чего в портовой акватории намешано, без подробного химического анализа разобраться невозможно, да и толщина слоя никак не меньше полуметра. Даже самые мощные отливы не в силах справиться с мешаниной многослойного пирога. Остается только удивляться, почему эта адская смесь еще не загорелась. Особенно трудно приходится выходящим из гаванского порта судам: вся нижняя часть корпуса, побывавшая в воде, от ватерлинии до осадки порожнём, вымазана своеобразным битумом, напоминающим смолу, и избавиться от нее можно лишь на дрейфующем в спокойном море пароходе, применяя растворители, скребки и краски. Попадись в таком состоянии в Панамском канале или в одном из портов Северной Америки – проблем не оберешься.
Кубинцы не любят торопиться, если дело не касается карнавалов и веселья, как и непосредственных дел вне личной заинтересованности. Правда, стоит сказать, что в этом они не оригинальны. Накопленный опыт работников стран народной демократии в целом подтверждает такое предположение. С другой стороны, от одного лишь созерцания работы японских докеров трудно отвести взгляд, настолько слаженны, экономны и умелы их движения. Можно только сидеть и смотреть, любуясь. Наверное, в этом и заключается истинная красота, независимо от рода деятельности. Как говорят в таких случаях, сердце подскажет, где настоящая красота, а где нет.
Старшим стивидором (форманом) был смуглый худощавый Рафаэль, под полсотни лет, много жестикулировавший и даже пританцовывавший от нетерпения при ходьбе. В этом он не оригинален среди соотечественников. Их бы энергию да в мирных целях – пожалуй, не отстали бы от японцев. На английском языке он разговаривал плохо, то и дело вставляя испанские слова, как и все современные островитяне, утратив былой английский при американских туристах: старшие поумирали, а молодежь, не понюхавшая прошлого, его и не знала, тем более в условиях навязчивой антиамериканской пропаганды, обвиняющей северного соседа во всех бедах и трудностях. Но вскоре «ревизор» и стивидор научились понимать друг друга, при необходимости используя жесты и карандаш с бумагой.
Рафаэль при первой же возможности, когда отношения с Сергеем переросли чисто деловые, спросил, нет ли у него одеколона «Шипр», так как на днях у него будет годовщина свадьбы. Что называется, этот прием был у них домашней заготовкой, и с подобными просьбами обращались представители порта, белые воротнички, у каждого имелся какой-нибудь повод: день рождения жены, детей, соседей, родственников и так далее по списку. Вскоре заготовленные в Находке флаконы разошлись по карманам просителей. Правда, неизвестно, повлияло ли это на укрепление советско-кубинской дружбы.
После выгрузки пиломатериалов палубного каравана в трюмах обнаружили насекомых-древоточцев, вылупившихся из давно отложенных яиц жучков-вредителей, ждавших своего часа и начавших размножаться с невиданной скоростью. Еще бы, в таких идеальных условиях влажности и высокой температуры на протяжении целого месяца и крокодилов можно было выходить. Вся процедура являлась рутинной и проводилась на каждом судне, прибывшем из портов Дальнего Востока. Все действо именовалось фумигацией (производное от латинского «fumigare» – «окуривать»), когда трюмы герметизируются и в них на несколько дней запускается ядовитый газ, который убивает вредителей. Способов фумигации, как и ядов-фумигантов, насчитываются десятки, но это для химиков, а нас интересуют несколько другие стороны кубинской действительности.
Несмотря на тщательную герметизацию, нельзя гарантировать утечек ядовитого газа, потому во избежание опасностей экипаж на время проведения фумигации переселяют на берег, в гостиницу, ибо окуривают вредных жучков, а не судовую команду. На судне остается лишь небольшая дежурная группа, которая должна находиться в верхних помещениях, лучше всего на проветриваемом мостике. В условиях запродажного контракта на покупку партии леса определено, за чей счет проводится обеззараживание и расходы по содержанию экипажа в гостинице. Зачастую фумигация проводится за счет получателя груза.
Для экипажа «Капитана Дублицкого» три дня отдыха в хорошей гостинице явились самым настоящим праздником, бонусом за месячный океанский переход. По сути дела, ранее никому из них не доводилось бывать в приличной гостинице «за бугром». От одного лишь осознания происходящего даже матросы второго класса – таковые еще случались в те времена – и уборщицы почувствовали себя богатыми туристами.
Поселили их в одном из лучших отелей Гаваны – Habana Libre 5*. В нем раньше располагалось первое посольство СССР, в разное время проживали знаменитости: Фидель Кастро и Че Гевара, президент Чили Сальвадор Альенде, Валентина Терешкова, тогда она еще не была говорящей головой, выступавшей с идеей «обнуления», американская актриса Элизабет Тэйлор (Зина Портнова, как шутят некоторые остряки), испанская киноактриса Сара Монтьель, кубинский революционер Камило Сьенфуэгос, в честь которого назван город на острове.
Кормили в ресторане отеля, где был устроен шведский стол – что-то совершенно неизвестное для подавляющей части экипажа. Официант даже полюбопытствовал, нравятся ли выставленные блюда. «Конечно, нравятся! И фруктов разнообразных много, но почему нет мороженого?» Официант пошел спросить своего шефа и, вернувшись, ответил: «Вообще-то, мы не выставляем на шведский стол мороженое, но вы из Советского Союза, поэтому для вас мороженое будет!» Гарсон не обманул, и вскоре мороженое в самом деле появилось, каждому по солидной порции.
На территории отеля находился приличный бассейн, который пришелся отдыхающим как нельзя кстати. Они с удовольствием пользовались свалившимися благами, в полной мере пожиная «их нравы» в единственной латиноамериканской стране, строившей социализм. Как оказалось, даже в октябре можно с удовольствием купаться в открытом бассейне, не стуча зубами от холода.
Но три дня «шикарной» жизни показались одним мгновением и пробежали совсем незаметно, хотя навсегда остались в памяти. Пора и честь знать, «хорошего понемножку», фумигация закончилась, и газоанализаторы показали отсутствие ядовитых газов в трюмах судна. Один из немногих случаев, когда отсутствие смертельного яда не радует. Время возвращаться на пароход.
Весь пиломатериал и велосипеды выгрузили в полном объеме без замечаний и недостачи, а с хозяйственным мылом возникли проблемы. Все-таки мыло – предмет штучный и остро необходимый на острове, да и спрятать его легко. Ящики с мылом, как и остальной груз, при выгрузке строго контролировались по количеству и целостности упаковки тальманами порта и судна. Они следили за каждым стропом выгружаемого груза и сверяли свои записи. С окончанием выгрузки вскрылась небольшая недостача: не хватало двух ящиков с мылом. «Ревизор», будучи ответственным, получил нагоняй от капитана.
В бассейне отеля Habana Libre. Сергей стоит крайний справа. Сидит крайний справа помполит, рядом с ним сидит 3-й помощник капитана. Октябрь 1978 г.
Как могла возникнуть столь небольшая, но все-таки недостача? Мысли об этом терзали голову, но выхода не находили. Вспомнилась смуглая, смазливая деваха – тальман с кубинской стороны, строившая глазки судовому тальману, и неоднократно приходилось делать ему замечания, чтобы не отвлекался. Но, похоже, кубинка свое дело сделала. При выгрузке малогабаритных ценных грузов хитрые островитяне специально ставили симпатичных, ярких тальманш, чтобы отвлечь внимание наших счетчиков и под сурдинку умыкнуть что-либо ценное или остро необходимое. Матросы, не избалованные женским вниманием, почти всегда попадались на эту незатейливую удочку. Скорее всего, так же было и в нашем случае: ослепленный прелестями молодой кубинки, столь откровенно демонстрировавшей свою симпатию, наш сторож поплыл, как токующий тетерев, и грузчики незаметно стибрили пару ящиков. Говорить о целом стропе груза не приходилось, но недостача есть недостача. Коммерческий акт, объяснение с коммерческой службой компании и вероятное лишение премии за рейс – не очень-то радостные перспективы.
Сергей нашел старшего стивидора Рафаэля, руководившего выгрузкой судна, и попросил его предоставить все тальманские расписки на выгруженное мыло для перепроверки, но в ответ последовало англо-испанское «no possible», означающее «нет никакой возможности». Поняв, что от старшего стивидора он более ничего не добьется («Шипра» тоже больше не было, и он стал неинтересен Рафаэлю), Сергей отправился в офис советского торгового представительства, надеясь, что там подскажут варианты решения этой проблемы. Но надежда таковой и осталась: представитель посмотрел на него усталым взглядом, усмехнулся и сказал: «Слушай, „ревизор“, мне бы твои проблемы! Тут у нас на предыдущем пароходе привезли три танка, а по документам их должно было быть четыре. Улавливаешь разницу? До сих пор никаких концов так и не нашли. Так что отстань со своим мылом, нарисуй какой-либо акт, что мыло смыло волной или его мыши сожрали. Придумай сам что-нибудь!» Пришлось уйти не солоно хлебавши, там действительно проблемы были поважнее банального хозяйственного мыла, которые даже в денежном выражении всей суеты не стоят. Затем вмешался капитан и каким-то образом решил этот предмет обсуждения с руководством порта. Главное, что грузовые документы закрыли «чисто».
За время длительной стоянки организовали несколько интересных экскурсий, и появилась возможность познакомиться с городом, побродить по его пыльным улицам среди какофонии всех видов транспорта на дорогах. Все куда-то спешат, никто никому не уступает, как молодые петушки, и при этом непрерывно сигналят. Горячая кровь испанских «идальго» не терпела возражений, взрываясь по малейшему поводу. Хорошо, что шпаг у них не было – давно бы перекололи друг друга. Похоже, правил дорожного движения у них тоже нет, а если есть, то их никто не соблюдает.
Город был не то чтобы старинный, но очень уж неухоженный, с облупленными, давно не ремонтированными оригинальными зданиями. Архитектура Гаваны разнопланова, здесь за почти пять столетий перемешались самые различные стили, от средневековых замков до позднего неоклассицизма. Ощущается французское влияние: порталы неоклассических колонн, обращенные к открытым пространствам и чисто испанские внутренние дворики. Ранняя колониальная архитектура вместила много стилей: мавританский, испанский, итальянский, греческий, римский. Жаль, что все запущено, так можно и потерять отечественные шедевры как часть собственной истории.
Запомнилось белое здание Капитолия, которое даже непосвященному напоминает его американского тезку, разве что в несколько уменьшенном варианте. Среди автомобилей преобладали старые американские модели, которые можно увидеть лишь в фильмах того времени, но совсем не редкостью были и советские легковушки: «Москвич-412» и «Волга» ГАЗ-21 – старая модель, с оленем на капоте. А вот магазины сильно напоминали наши, потому ничего интересного в них не было, в основном продавались советский ненавязчивый ширпотреб и консервы, непонятно зачем завезенные на остров среди океана, изобилующего самым разным рыбьим поголовьем.
Довелось побывать в городке Санта-Крус-дель-Нарте недалеко от Гаваны, где расположено знаменитое на весь мир предприятие по производству истинно кубинского рома Habana Club, одной из самых продаваемых марок рома в мире. Бренд напитка известен на острове с 1934 года. Ром производят из отборного сахарного тростника, в свое время он впервые появился в СССР, наделав много шума в многочисленных рядах любителей спиртного, в своем подавляющем большинстве удовлетворявших свои желания банальной водкой или самогоном. Само слово «ром» звучало как-то совсем необычно, его никто никогда не пробовал, а помнили лишь молодые, зачитывающиеся пиратскими романами, где обязательно присутствовал ямайский ром – любимый напиток пиратов. А тут как на голову свалился кубинский – наверное, такой же, как и ямайский, тем более они соседи; одна невиданная четырехугольная темная бутылка с пробкой, залитой сургучом, чего стоит. Цена была повыше, чем у стандартной водочной поллитровки, но более высокий градус и больший объем с лихвой компенсировали этот недостаток. В итоге на прилавках он долго не залеживался. Даже непьющие стремились хотя бы раз в жизни попробовать заморское пойло, о котором столь много слышали.
На заводе показали весь цикл производства, а потом началось самое интересное: привели в дегустационный зал, где без всяких ограничений можно было пробовать чистый ром, пока не ощутишь его полный букет, а для лучшего усвоения столь популярного напитка добавили еще самый известный на Кубе коктейль «Дайкири», в основе которого все тот же ром. От поездки на завод остались наилучшие воспоминания, но не у всех, а лишь у тех, кто смог ее вспомнить, ибо чистый ром вкупе с коктейлем в жарком кубинском климате дал потрясающий эффект, в результате которого кое у кого отказывали ноги и тянуло в сон. Бесплатный ром притягивает получше, чем мощный магнит. Но как бы там ни было, всю обратную дорогу из автобуса неслись мелодии распеваемых песен, и «Куба – любовь моя!» не была исключением, да и повторялась едва ли не «на бис».
Не стоит думать, что агентская компания организовывала экскурсии с предоставлением автобусов лишь из любви к советским морякам. Все затеи оплачивались судовладельцем; вернее, судовладелец об этом не знал, а скорее всего, просто помалкивал. Капитан, прекрасно понимая, что на выделяемый так называемый «культфонд», формирующийся из расчета две копейки на человека, мягко говоря, не разбежишься, а досуг экипажа в длительном рейсе необходимо чем-то разнообразить, тем более в экзотической стране. Он-то и договаривался с агентской компанией о каких-либо дополнительных, несуществующих затратах. Они включались в общие дисбурсментские расходы судна за всю стоянку в порту, и за счет этих издержек проводились экскурсии. Благотворительностью или альтруизмом здесь и не пахло, любовь любовью, а подарков не ждите. Островитяне рассматривали иностранцев из Советского Союза как богатых «друзей», с которых можно что-то урвать; видимо, это сквалыжное качество у них на генетическом уровне после многих лет околпачивания богатых туристов. Такое отношение выработалось после десятилетий пребывания американцев, для которых Куба являлась курортом, куда приезжали люди с деньгами. Конечно, действия незаконные, и при желании можно приписать уголовную статью, тем более за валютные махинации, но как-то все проходило, а если возникали вопросы, то оправданием служил тот же «культфонд», на который закупали какие-либо мелочи, необходимые судну, но экскурсии плясали от этой печки.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: