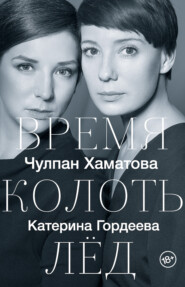скачать книгу бесплатно
ХАМАТОВА: Я представляла “свою бабушку” полуведьминского вида, которая меня любит, кормит волшебным нашим супом, встречает после школы. И что вот сейчас, отказавшись от самого факта ее существования, я ее как будто предаю. Понимаешь?
Того, что этой бабушки нет и никогда не было, я так и не признала. Никогда. Дома был страшный скандал: опять вранье, зачем вранье-то это? Я молчала. И больше, конечно, никому ничего не рассказывала. Но это вовсе не значило, что я признала бабушку несуществующей и сдалась. Знаешь, я думаю, что на самом деле наше вранье не было никаким враньем. Просто мы наполняли жизнь объемом, красками, воздухом, которых нам не хватало, расширяли ее до необходимого, соответствующего ожиданиям масштаба.
Глава 3. Остров
ХАМАТОВА: Мне больше не хочется быть актрисой. Совсем. Как будто у меня кончились для этого силы. Или это потеряло смысл. Вот я смотрю на тебя: у тебя в силу политических, общественных обстоятельств отобрали профессию. Ты больше не можешь быть тем, кем ты должна быть, кем ты была и в чем преуспела: телевизионным журналистом. Это очень горько, но есть возможность объяснить, что случилось, как это произошло, а мне… Мне иногда кажется, что передо мной тупик.
ГОРДЕЕВА: Но разве театр – это не твоя мечта, которая сбылась?
ХАМАТОВА: У меня никогда в жизни не было уверенности, что театр – это вот стопроцентно мое: призвание или дело жизни. Скорее, это была договоренность между собственной совестью и невозможностью не попробовать. Я с детства понимала, что мне это нравится, что я как зритель просто схожу с ума на спектаклях, а когда смотрю какое-нибудь хорошее кино, потом неделю не могу вернуться в реальность. Я чувствовала магию и власть искусства, которые транслировались на отдельно взятую девочку Чулпан, сидящую в зрительном зале. Это была не то что другая планета – другая вселенная!
Но параллельно в моей вселенной – на земле, а не в космосе – всё довольно удачно складывалось: я сдала экзамены и поступила в математический класс при Казанском государственном экономическом институте. Так что, окончив школу, я была автоматически принята в этот институт, тогда это считалось очень хорошим стартом. Было такое поветрие времени: самыми престижными считались профессии бухгалтера, аудитора и всё, что с этим связано, а технические профессии, которыми так гордились мои родители, уже не котировались и не были нужны. Так что мое положение всем вокруг казалось весьма и весьма перспективным. И только где-то там, в самой глубине моего сознания, еле-еле дышало затюканное, униженное и робкое желание все-таки оказаться в мире театра.
ГОРДЕЕВА: Тебя в этом кто-то поддерживал?
ХАМАТОВА: Ты знаешь, я смотрела не на кого-то, а на что: на библиотеку имени Ленина в городе Казани. Какое-то время эта библиотека, это невероятной красоты здание, было для меня лучшим другом и главным источником вдохновения. Там были потрясающие залы. Один даже с гротом, в котором текла вода. Вот ты сидишь, под шум воды читаешь книги, никого вокруг нет, и ты – улетаешь. Из окна был виден Казанский университет – это самая красивая, старая часть города. Это было для меня настоящее счастье – ходить в библиотеку. Тем более что там работали потрясающие женщины, они постоянно мне что-то подсовывали: “А вот не хотите прочитать дневники Олега Даля? Вот дневники Фаины Раневской. А вот – дневники Даниила Хармса”. Тогда всё это только стало появляться. Не говоря уже о Лотмане, Лосеве, Бердяеве… Не знаю, что я там понимала и понимала ли хоть что-то, но сам процесс чтения и атмосфера, в которой всё это происходило, давали мне возможность парить над действительностью. Мне было пятнадцать лет – самый удачный возраст для парения.
ГОРДЕЕВА: Я в библиотеке провела, кажется, самое сказочное лето своей жизни. Здание нашей библиотеки – очень необычное для Ростова. Влюбленный купец Парамонов подарил его своей избраннице, построив по образцу какого-то увиденного им в путешествии венецианского палаццо. Там были сумасшедшая парадная лестница, высоченные потолки и огромные венецианские окна, которые в оригинале, видимо, должны были выходить на Гранд-канал. А в Ростове – смотрели на полный тополей сквер с каменным фонтанчиком. Фонтан журчал. Пух от тополей кружился и влетал в раскрытые окна библиотеки, путешествовал по залам и оседал на чьем-нибудь плече. Я до сих пор помню такую тополиную пушинку на плече впередисидящего студента, про которого можно было понапридумывать себе всякого, никогда даже не увидев его лица, но подглядев через плечо, что он читает. Я часами читала в этой библиотеке всё подряд. А иногда ничего не читала, просто сидела на подоконнике огромного окна, выходившего на единственную пешеходную улицу Ростова – естественно, Пушкинскую. В соседнем с библиотекой здании был факультет филологии и журналистики, в подвале которого свои первые спектакли ставил тогдашний выпускник ростовского физтеха, а в будущем – российский режиссер с мировым именем Кирилл Серебренников. И попасть в подвал на его спектакли было невозможно. Это было очень модное место.
Когда мне было пятнадцать, на факультете филологии и журналистики открыли отделение романо-германской филологии. И я туда поступала, как медалистка, по итогам собеседования, досрочно. Так что ни к каким экзаменам в библиотеке мне готовиться не надо было. Я туда ходила просто для того, чтобы проводить время, рассматривать студентов, воображать, что я часть этой яркой, чужой, почти взрослой жизни.
ХАМАТОВА: Для меня библиотека – это тоже настоящий побег из действительности. Представь себе: Казань, расцвет гопников, какие-то мутные группировки, к которым ты обязательно должен принадлежать, а библиотека – единственный в мире остров, где ничего этого нет. И, кстати, тогда в моей жизни произошло еще одно судьбоопределяющее – так говорят? – событие. Тем же летом, когда я влюбилась в библиотеку, я впервые поехала в “Квант”.
ГОРДЕЕВА: Что это такое?
ХАМАТОВА: Если ответить одним предложением, то для меня это был мир, о существовании которого я не только не могла мечтать, я даже не знала, что такое может случиться со мной, в моей, в общем-то, обыкновенной, скучной провинциальной жизни. Это был экспериментальный научный лагерь, куда брали старшеклассников. И мы там занимались математикой, химией, физикой. Каждый школьник выбирал себе программу, науку, которой был увлечен: если хотел быть химиком, то выбирал химию, если математиком, то математику. Но в дополнение ко всему этому там были еще программы, о которых никто в советской школе не слышал: соционика, психология, социология. Постепенно выяснялось, что школьники – это не какая-то масса, которой ничего не интересно и которую можно только заставлять зубрить бесконечно скучные предметы, а это люди, в которых можно пробудить интерес. Главное же – нам давали возможность быть самостоятельными. Представь, как это важно, когда тебе пятнадцать-семнадцать лет: мы сами принимали решения, сами выбирали программы, по которым будем учиться, мы сами – и это, наверное, самое крутое, Катя! – сами были ответственны за свою сиюминутную жизнь в “Кванте”: решали, что будем покупать из продуктов, что будем брать с собой: договорились – гречки, значит, надо было везти с собой гречку и рассчитать ее количество так, чтобы хватило на всё время пребывания в лагере; мы сами организовывали и распределяли дежурство у костра и сами понимали, что если после ужина не помоем посуду, то с утра нам не из чего будет есть.
ГОРДЕЕВА: А кто вами руководил?
ХАМАТОВА: Мы сами собой руководили.
ГОРДЕЕВА: Хорошо, кто давал вам возможность руководить собой?
ХАМАТОВА: Был такой в Казани удивительный человек Павел Шмаков. Он потом благополучно эмигрировал в Финляндию. Но потом. А тогда мы просто чудом встретились с потрясающим педагогом, который понимал, что для того, чтобы подростков чем-то увлечь, их нужно вырвать из душной атмосферы скукоты, ненужности и обязаловки. И он вырвал нас самым простым и прямым способом: вывез из города на природу, надел на всех рюкзаки, заполнил эти рюкзаки гречкой и пшенкой и дал нам возможность смотреть на мир во все глаза.
ГОРДЕЕВА: Надолго?
ХАМАТОВА: На месяц. Нас было около двадцати человек: школьники и студенты Казанского университета, которые нас опекали. Мы жили в очень красивом месте под названием Красновидово, где не было никакой цивилизации вообще. Лагерь стал самым прекрасным и смыслообразующим событием моей жизни. Последние три-четыре школьных года были пропитаны ожиданием того, что наступят каникулы и я поеду в “Квант”, где будут другие люди, одетые не по дурацкому фэшн-сценарию, принятому в гопнической субкультуре, заполонившей тогдашнюю Казань. Нет. У них будут феньки, хайратники, драные джинсы, длинные волосы у мальчиков. Они будут петь песни на английском языке и читать книжки, много книжек. Мы будем вечерами смотреть диафильмы, путешествуя по самым великим музеям мира, открывать для себя у костра обэриутов и Серебряный век. И единственное желание было – лишь бы это не кончалось. Но оно кончалось: кончалось лето, и я должна была возвращаться в школу, где преподавали литературу по учебнику, заставляли ходить “как все”, хотя уже была отменена школьная форма, и делали всё, чтобы я забыла, что есть на этом свете другие люди, которые, как и я, не хотят подстраиваться под чье-то мнение, а хотят свободы. Или, как минимум, возможности оставаться собой.
ГОРДЕЕВА: И ты убегала в библиотеку.
ХАМАТОВА: Библиотека была компромиссом, моим невозможным островом, где важность проведенных в “Кванте” дней и недель не ставилась под сомнение. А свобода, искусство, знания – были ценностью. На мое счастье, после “Кванта” у меня появились друзья, с которыми прочитанные “на острове” книги можно было обсуждать. Еще до поступления в Казанское театральное училище я знала, кто такой Арто и что такое театр жестокости, например, и уже успела с кем-то поговорить об этом. А потом с удивлением обнаружила, что Арто – в программе третьего-четвертого курса ГИТИСа. И мои сокурсники узнавали о нем именно тогда, на занятиях.
ГОРДЕЕВА: Почему ты решила идти именно на актерское? Не на сценарное, не на режиссуру… Считается же, что артисты, в целом, поглупее режиссеров. Ну и вообще от них на сцене мало что зависит.
ХАМАТОВА: Я себя, Катя, умной никогда не считала. Да и до сих пор не считаю. К тому же, понимаешь, всё, что со мной происходило на спектаклях или фильмах, это ведь проделывали со мной артисты! Это же они были теми волшебниками, которые переворачивали мой мир.
ГОРДЕЕВА: И ты пошла в театральное, еще учась в школе?
ХАМАТОВА: О нет! Я проявила мудрость. Я пошла туда, окончив школу и поступив на аудиторский факультет финансового института.
Только ведь детство – это же территория абсолютного знания правды. И, уже поступив в институт, я поняла, что никогда не прощу себе, если не попробую исполнить мечту. При этом я была твердо уверена, что меня никуда не возьмут, в этом у меня не было никаких сомнений. Но в то же время я понимала, что не выпустить наружу страсть, которая во мне тлела, я не могу. Я как будто увидела себя в будущем: пройдет много лет, и сидя за бухгалтерскими отчетами, я вдруг пойму, что никогда себе не прощу, что даже не попробовала. Именно в этот момент, вот в том самом библиотечном зале со звуком льющейся в гроте воды и видом на Казанский университет, у меня в руках оказалась книжка “Бегущая по волнам”, в начале которой, если помнишь, главный герой, вспоминая свою жизнь, говорит о несбывшейся мечте.
ГОРДЕЕВА: Этот фрагмент мне всё мое детство пересказывала бабушка, которая мечтала стать летчицей. И не попробовала. Она так всегда горько и отчетливо произносила это словосочетание: несбывшаяся мечта, что меня охватывала тоска.
ХАМАТОВА: Именно! Меня это словосочетание сразило наповал и определило дальнейший план действий. Будучи уверенной, что меня всё равно никуда не возьмут, я точно понимала, что не смогу жить с несбывшейся мечтой.
Глава 4. Пазл
Мы безнадежно застряли в пробке. Таксист щелкает радиостанциями. “Дворники” гоняют по лобовому стеклу крупные капли. Поварская стоит, подсвеченная красными стоп-сигналами застрявших на ней дорогих машин. Выхлопной газ поднимается вверх: мы в багряном неподвижном облаке. Навигатор обновляет время пути в бо?льшую сторону: предлагает проехать оставшиеся пятьсот метров то за десять минут, то за двадцать, а то вообще неизвестно за сколько. Таксист цыкает зубом: “Девоньки, стояк!”
Мы переглядываемся: “Побежали?” И выпрыгиваем из машины. Чулпан впихивает в сумку красивый, с тисненой золотом обложной ежедневник, а за ним второй – точно такой же, на ходу приговаривая: “Катастрофа: январь совершенно пустой, в марте всего несколько дней, половина лета. Если опоздаем, ничего не заполним. Давай скорей”.
Мы скользим по льду, покрытому слякотью, несколько раз едва не падаем, но бежим: в туфлях, без шапок – мы же на светское мероприятие! – бежим со всех ног.
Очередь в кинотеатр “Октябрь” сплошь из знаменитостей. Это – декабрь 2016-го. Цвету столичного общества впервые покажут закрепляющий морально-нравственные ориентиры последнего времени русский блокбастер о том, как князь Владимир стал христианином.
Главы телекорпораций, чиновники, артисты, спортсмены, светские львы и львицы некрасивой промокшей толпой входят в кинотеатр с морозной улицы и тут же оказываются в хитрой инсталляции из елок и деревянных предметов, якобы принадлежащих эпохе князя Владимира и его товарищей. Звучит тревожная музыка.
Мы работаем локтями. Нам надо оказаться в зале раньше всех, узнать, кого сможем, и у узнанных взять автограф. Через две недели в Лондоне назначен благотворительный бал фонда “Подари жизнь”, в конце которого – аукцион. Красивый ежедневник в обложке с золотым тиснением – главный лот этого аукциона. И главный повод, по которому мы оказались на этом светском мероприятии. План такой: опознав знаменитость, мы подходим, улыбаемся, по очереди объясняем, что собираем для аукциона фонда в специальный ежедневник автографы и пожелания на каждый день от самых известных людей страны (в голове стучит: январь пустой, март полупустой, на летние месяцы тоже почти нет пожеланий). После этого Чулпан протягивает ежедневник, а я снимаю айфоном: во время аукциона участников должна вдохновить записанная на видео процедура сбора подписей.
В зале – кромешная тьма. И оказывается, что надо одним айфоном светить подписывающим, а другим – снимать. Многие уже расселись по своим вип-местам. И к ним Чулпан приходится подползать на коленках. До начала показа двадцать минут. За это время мы успеваем собрать сорок четыре автографа (пару раз, правда, ошиблись, подойдя к одним и тем же знаменитостям дважды): у Собчак, Эрнста, Козловского, Юдашкина, Лунгина и Виторгана, Сапрыкина и Малышевой, Раппопорт и Евстигнеева, Литвиновой и Дюжева… Когда начинается фильм, мы, пряча телефон под шарфом, отправляем ребятам из фонда полный список подписавшихся в ежедневнике селебрити. Задание выполнено. Однако впереди – два с половиной часа блокбастера о раннерусском христианстве в современной интерпретации. Наши места – в центре партера. Уйти нельзя. КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА
ГОРДЕЕВА: Трудно тебе брать автографы?
ХАМАТОВА: Да нет. Я не вижу в этом никакого унижения. Наоборот, это как игра. К тому же, у нас ведь два ежедневника: тот, который мы с тобой подписывали, потом продали на аукционе, между прочим, за пятнадцать тысяч фунтов! Но ведь второй-то остался. И лет через десять, думаю, все эти автографы только наберут в цене.
ГОРДЕЕВА: Или, наоборот, потеряют. Работа в фонде тебя сделала прагматичной?
ХАМАТОВА: Это не прагматизм, Катя. Это фандрайзинг. Давай так на это смотреть.
ГОРДЕЕВА: У меня детская травма, связанная с автографами. Когда мне было лет двенадцать, у меня совсем не было друзей. А к нам в Ростов приехала группа “Наутилус Помпилиус”. И я нарисовала большой плакат якобы от фанатской группы, нашлепала там своими руками самые разные отпечатки ладошек, якобы принадлежавших разным людям. И пошла на концерт.
ХАМАТОВА: Одна?
ГОРДЕЕВА: Одна. Но я стояла довольно близко к сцене. И поднимала этот плакат от якобы нашей ростовской фанатской группы. На нем было написано: “Мы вас любим”.
ХАМАТОВА: Смешно. Потом с похожего эпизода начнется фильм “Лето” Кирилла Серебренникова.
ГОРДЕЕВА: Но там девушек с плакатом было, кажется, две. И они лично знали тех, кто поет на сцене. Я была одна и не имела ни к кому из выступавших никакого отношения. Когда концерт кончился, все поклонники пошли к служебному выходу Дворца спорта. С ними пошла и я. У меня была открыточка, которую я приготовила для автографа. Мы все, фанаты “Наутилуса” – а там была целая группа фанатов, к которым я как-то прислонилась, но в действительности никого не знала, – стояли на диком морозе часа полтора-два. А потом вышла группа, и их директор сказал: “У музыкантов руки заняты, автографов не будет”. И все пошли по домам.
Я шла пешком, вверх по темному, промерзлому и в те годы довольно опасному переулку имени бомбиста царских лет Халтурина. И ревела взахлеб. В лицо мне бил колючий ростовский ветер. Я злилась на себя, что вообще стояла в этой толпе поклонников и что хотя бы на секунду поверила, будто могу быть интересна великой группе “Наутилус Помпилиус”, что рисовала дурацкий плакат, что принесла эту чертову открыточку. Жалея себя, я рыдала еще сильнее, терла слезы, которые немедленно примерзали к щекам и царапались. Когда я пришла домой, то увидела в зеркале совершенно жуткое свое лицо в кровавых царапинах. Но я никому ничего не рассказала про эту историю. Я написала на открытке сама себе какой-то автограф как бы от “Наутилуса”. Я никому его не показывала, просто положила в ящик письменного стола. Он долгое время там бесславно хранился. В общем, автографы для меня – это история про унижение.
ХАМАТОВА: А я недавно нашла у себя автограф Славы Полунина, о котором он не знает, и о котором напрочь забыла я.
ГОРДЕЕВА: Как так?
ХАМАТОВА: Ну, Казань же была очень важной культурной точкой на карте страны, у нас постоянно проводились фестивали, лучшие программы независимых театров непременно приезжали к нам. Приехал и Полунин – это еще задолго до “Снежного шоу”, до всего. Программка со Славиным автографом подписана не мне лично – я постеснялась попросить – она подписана с размахом: “Казанцам!”
Думаю, что Слава приезжал со своей клоунской командой, которая тогда называлась “Лицедеи”, на фестиваль в Казань. И, конечно, я смотрела и их, и много чего еще. И просто дурела от увиденного.
Единственной точкой, в которой всё то невероятное, что я видела, могло пересечься со мной, был наш Казанский институт культуры. Там были подготовительные курсы. Я решила пойти на них, но денег у меня не было, а сказать кому-то, что они мне необходимы, что я собираюсь стать артисткой, я не могла. Уверена была: это временная история, не надо никому о ней рассказывать. Тогда я решила, что сама заработаю на свою мечту. И пошла работать на кондитерскую фабрику.
ГОРДЕЕВА: Кем?
ХАМАТОВА: Упаковщицей. Я делала коробки для всевозможных конфет и тортов. Потом мыла посуду в столовой на огромном заводе, то есть не мыла в прямом смысле слова, а ставила ее в огромный агрегат, который эту посуду мыл. Это было всё очень романтично.
ГОРДЕЕВА: А тебя кто-то устраивал на эти работы или ты сама туда приходила?
ХАМАТОВА: Конечно, устраивалась через кого-то. На завод меня устроила бабушка, которая там работала врачом и, собственно, проверяла чистоту вымытой мною посуды. Потом я работала у папы на фирме, тоже в столовой, там была прекрасная украинская женщина, которая меня научила резать огурцы так, чтобы никто не понял, что их мало, а всем бы казалось, что их много. Короче говоря, всё лето я зарабатывала. Но не удержалась и купила себе очень крутой плеер с наушниками-капельками, тогда это был последний писк моды. Плеер этот мне страшно помог в школе: я с ним ходила сдавать биологию и сдала ее на пять, потому что никому в голову не пришло, что я сижу на экзамене в никому не заметных наушниках и перекручиваю под партой кассету внутри плеера с ответом на нужный вопрос, который я дома себе предусмотрительно записала.
ГОРДЕЕВА: Сейчас будет смешно: со своей первой зарплаты санитарки в отделении патологии новорожденных ростовского Института акушерства и педиатрии я купила себе плеер, Чулпан.
ХАМАТОВА: С наушниками?
ГОРДЕЕВА: Да. С наушниками-капельками. Он стоил двести сорок два рубля четырнадцать копеек. И мне еще осталось на кассеты. Обе – фирмы Sony. Одна голубенькая – как раз с “Наутилусом Помпилиусом” на одной стороне и “Кино” – на другой, а вторая красно-черная с “Аквариумом” и опять же “Кино”.
ХАМАТОВА: Нам было проще – у нас была казанская фабрика “Тасма”, выпускавшая кассеты. Купить их было невозможно, но мы как-то доставали. Но трагедия, Катя, была в том, что денег, которые я заработала летом, да еще и за вычетом потраченных на плеер, на курсы не хватало. И я решила сдать в ломбард семейные ценности: серебряные ложки, доставшиеся от бабушки и прабабушки, которыми мы никогда не пользовались, потому что они были очень ценные. Я сдавала их не разом, а по одной, в надежде, что потом заработаю и выкуплю. Сдала, наверное, ложки три. И пошла на курсы вместе со своей подружкой Олесей. Мы там оказались вдвоем. Буквально вдвоем: никто больше в Казани так театра не жаждал, но мы не переживали, решив, что остальные просто не нашли на курсы денег.
Однажды на занятие наших “курсов” пришел человек с татарской кафедры…
ГОРДЕЕВА: Что это значит?
ХАМАТОВА: В Казанском институте культуры есть русская и татарская кафедры. У нас же два языка, как бы две литературные традиции, театральные. И вот приходит такой суровый человек и говорит мне: “Так, ты будешь поступать к нам. Выучишь язык”.
ГОРДЕЕВА: А ты языка не знаешь?
ХАМАТОВА: Да, к сожалению, я не знаю татарского языка, у нас дома все говорили по-русски.
ГОРДЕЕВА: Но ты же – татарка!
ХАМАТОВА: Да, конечно, я татарка. У меня татарское имя, татарские корни, но довольно долгое время всё это было погребено под слоями чудовищной ситуации, в которой я выросла. У меня есть дядя, его тоже зовут Чулпан. Он сейчас заканчивает книгу “Зов памяти” о нашей родословной, там такое начало: “Язык, Мелодия, Память – опора бытия духа. Первым исчезает Язык, остаются Мелодия и Память, затем та же участь постигает Мелодию. Третье поколение лишается Памяти”. Так вот, к сожалению, я и есть это третье поколение. Вокруг меня все боялись говорить правду и молчали. Мой прадед был хозяином обувной фабрики, артели, где работало довольно много наемных рабочих. Он был раскулачен. Другой прадед – тоже раскулачен, у них отняли всё, и моя прабабушка одна с пятью дочками оказалась в Казани.
А папа дяди Чулпана был муллой – его арестовали и расстреляли. И для дяди эта тема закрыта раз и навсегда. Мой дедушка молчал о своем отце, моем прадедушке. Но он и про другое молчал: никогда не вспоминал войну, например. И в школе я попадала в идиотское положение: когда нам поручали писать сочинение про подвиги дедушек, то у всех были такие большие красочные сочинения, полные подвигов, а у меня… У меня не было ничего, потому что я приходила к дедушке, спрашивала его про войну, а он, хоть и дошел до Польши, отвечал: “Война? Война – это холодно, грязно и вши”. И всё. Получается, я росла в ситуации вынужденного умолчания прошлого. От всей истории семьи сохранилось только несколько фотографий. На одной сидит прапрабабушка. У нее трогательный татарский платочек на голове.
Это я теперь понимаю, почему моя тетя от безысходности, пытаясь противостоять системе, в которой единственный официальный язык русский, постоянно мне твердила: “Запомни, еще Горький сказал: татарин – это звучит гордо”. Ей казалось, что через призму советской пропаганды, которой были напичканы наши умы, до меня можно донести действительную значимость моей национальности. Это такая отчаянная попытка преодолеть молчание.
ГОРДЕЕВА: То есть фактически – ответ на молчание.
ХАМАТОВА: Это был ответ, который долгое время меня устраивал. Понимаешь, я росла в Казани, столице Татарской республики, но была оторвана от культуры и от своих корней. В классе у нас учились четыре татарина – я, мальчики Тимур и Эдик и девочка Лиля. Когда все уходили домой, нас заставляли (это для татар было обязательным условием) оставаться на дополнительный урок татарского языка. Учительница впихивала нас в класс, и мы вчетвером вынуждены были сидеть, когда все уже давно гоняют в футбол или просто слоняются по городу, и зубрить этот, как мне тогда казалось, ненужный, ненавистный и непонятный татарский язык. Причем у меня и мальчика Тимура в семье не говорили по-татарски, только у девочки Лили бабушка говорила, Лиля хоть что-то знала. По большому счету, эти два-три дополнительных урока в неделю нам не давали ничего, только еще больше отдаляли. Но мы зубрили сказки и всякие притчи типа “Шурале”. И очень быстро и радостно их забывали. Потом случилась Перестройка. И Татарстан как-то начал беспокоиться по поводу самоидентификации и захотел отделяться. И все как-то бойко и резко вспомнили свои национальные традиции и приметы. Например, моя бабушка, когда я выходила замуж за Ивана Волкова, русского парня, сказала: “Прокляну. На свадьбу не приду, и не жди”. Я опешила. Но в день свадьбы вдруг раздается звонок, открываю дверь, стоит даваника, моя бабушка. Я ей говорю: “Как хорошо, что ты пришла. Я так рада тебя видеть!” Она: “Это не я решила прийти. Это там решили (и – пальцем вверх!). Мне приснился сон, что я ем свинину. И она оказалась очень вкусной”. Так она мне разрешила выйти замуж.
Именно в это время, кстати, у нас стали поддерживать носителей языка, школы срочно перешли на татарский полностью, но оказалось, что его некому преподавать: конечно, приезжало много людей из деревень, которые да, знали татарский, но при этом были не сильно образованы. Мой младший брат Шамиль пошел учиться в татарскую гимназию. Все предметы он учил по-татарски. Я как-то прихожу за ним в школу и вижу, на доске написано: “Завтра принести к труту – через т! – клей и бумагу”. Это еще больше меня оттолкнуло от культуры и языка. Уже позже, учась в Москве, я задумала ставить татарский танец для одного экзамена, приехала на каникулы в Казань, стала искать музыку. Вся татарская музыка, что была в девяностые доступна, оказалась странного одинакового качества: пошлая страшная мелодия, сыгранная на синтезаторе. Всё это официализированное “возвращение к корням” было таким неестественным, что, конечно, оттолкнуло меня еще сильнее. К огромному моему сегодняшнему сожалению. У вас дома говорили о национальности?
ГОРДЕЕВА: О том, что я еврейка, я узнала от дедушки, который вообще-то не был никаким евреем, а был сыном репрессированного и расстрелянного белого офицера. Дедушка женился на моей бабушке-еврейке, чьих родителей в тридцать седьмом году арестовали. Прадедушку тут же расстреляли. Прабабушка провела двадцать лет в лагерях. Вышла на свободу после смерти Сталина. До семьи своей дочери, то есть моей бабушки, прабабушка Елизавета добралась в пятьдесят шестом. И два года, до самой своей смерти, прабабушка посвятила одному: восстановлению доброго имени мужа, Соломона Раскина. Я, когда разбирала эти документы, была потрясена. Вот представь, ты двадцать лет не видишь родных людей, не видишь, как растет твоя дочь – бабушке было одиннадцать, когда родителей арестовали, – тебя нет на свадьбе дочери, ты не видишь, как рождается твоя внучка. Я бы вышла из этого лагеря, если бы вышла, и сказала: да будьте вы прокляты! А она вышла и писала письма и запросы, чтобы прадедушку восстановили в партии, в должности, чтобы его “честное имя советского человека” было восстановлено. Меня это потрясло.
ХАМАТОВА: Вероятно, с точки зрения того времени ей это было важно.
ГОРДЕЕВА: Я очень мало знаю о прабабушке. Бабушка почти не рассказывала про нее. Ну, может, кроме того, что она не умела обниматься. Она же всю жизнь провела с теми, кого не обнимешь.
ХАМАТОВА: Возможно, именно поэтому, оказавшись на свободе, она так цеплялась за жизнь, которую помнила. Так что тебе сказал дедушка, чтобы объяснить, что ты еврейка?
ГОРДЕЕВА: Он меня встречал из садика, а я ему и говорю: “Ваня Петров – жиденок, представляешь?” Мой дедушка Николай Георгиевич Фридрих – очень мягкий человек с тихим голосом и сухой узкой ладонью – вырос в обеспеченной русско-немецкой дворянской семье, где говорили по-французски и по-немецки. Дедушка потерял своих родителей во время репрессий, прошел войну и уже после нее, в самые сложные и тяжелые годы махрового антисемитизма, женился на еврейке Розе Раскиной, моей будущей бабушке. Так вот, услышав от меня пятилетней этот важный вопрос про национальность, дедушка наклонился ко мне и очень спокойно сказал: “Правильно говорить не жиденок, а еврей. И это ты – еврейка. А Ваня – русский”. Тем и закончилось. До казачьих погромов середины девяностых у нас в Ростове было как-то довольно просто с национальным вопросом. Там столько национальностей, что и не разберешься. И столько людей, приехавших в город по самым разным причинам в послевоенное время, что о прошлом – о происхождении, национальности, предшествующей истории – не было принято спрашивать.
ХАМАТОВА: В Казани было иначе: существовали темы, про которые было просто принято молчать. Но они всё равно вскрывались: никаким страхом их никуда было не загнать, никаким запугиванием не скрыть. Моя мама выросла в доме своей бабушки, у которой было пять дочерей. И все они со своими семьями в этом доме жили. А прабабушка, то есть мамина бабушка, была главной женщиной в доме. И вот как-то моя мама, еще совсем девочка, пришла домой с красным галстуком поверх пальто, страшно гордая тем, что ее только что приняли в пионеры. Прабабушка сидела у печки, шевелила кочергой угли. Мама радостно заявила: “Бога – нет!” И бабушка, не поворачиваясь, – бум ей по башке кочергой. У мамы остался шрам. Но про то, что можно и нужно говорить в школе, а что – дома, она запомнила навсегда.
ГОРДЕЕВА: Но это не сподвигло никого начать, например, дома разговаривать по-татарски? У нас было ужасно смешно: моя бабушка помнила немного идиш, а дедушка знал в совершенстве немецкий, на нем в его семье говорили. Так вот они понимали друг друга. И, когда хотели говорить о чем-то тайно, говорили на идише-немецком таком, своем.
ХАМАТОВА: Это всё – страшное наследие сталинского времени: нам предлагалось родиться и прожить свою жизнь в абсолютном отрыве от своих корней, в полнейшем незнании национального, семейного, генетического; у нас это было отнято по факту нашего существования, системе нужен был человек без прошлого. Моя бабушка дома говорила по-русски, но татарский она знала. Дедушка играл на аккордеоне военные песни, но и татарские тоже. Мы всегда пили чай из пиалы… Всё это было так неочевидно и так зыбко. И вот все эти обрывки, кусочки воспоминаний начали всплывать у меня в голове, когда я стала читать роман Гузели Яхиной “Зулейха открывает глаза”.
ГОРДЕЕВА: Помню, ты его прочитала и сказала, что никогда отчетливо не мечтала ничего сыграть, но вот теперь мечтаешь – Зулейху.
ХАМАТОВА: Мне казалось, что героиня моложе и вообще – это не я. Но потом я поговорила с Гузель, и выяснилось, что она представляла меня, когда работала над романом. И она очень многие вещи интуитивно точно описала – как будто знала что-то про мою семью. Я даже дядю Чулпана уговорила прочесть эту книгу. И дядя, который ничего про те времена не хочет слышать, прочитав, сказал: “Правильно ты меня уговорила”.
ГОРДЕЕВА: Теперь ты будешь играть, наконец, Зулейху в новом фильме.
ХАМАТОВА: Я волнуюсь. Знаешь, мне эта книга позволила собрать хотя бы фрагмент своей личной истории воедино – сложить разрозненные, крошечные пазлы, не соединяющиеся друг с другом.
ГОРДЕЕВА: Вернемся к тому, что на татарскую кафедру в Институт культуры ты не пошла. Ты начала рассказывать, как человек с кафедры пришел и потребовал, чтобы ты выучила язык…
ХАМАТОВА: И его предложение меня, надо сказать, ошеломило. Но неожиданно женщина, которая вела наши курсы, – замечательная, сильно выпивающая, но очень чуткая женщина, – буквально встает на дыбы и говорит: “Какая еще татарская кафедра? Вы что, не видите, она насквозь пропитана русской литературой? Мы ее не отдадим. Она будет поступать к нам”. Это был какой-то первый знак, первый маячок, что, может быть, всё не зря, что надо не переставать пробовать. Что есть у меня или на меня какая-то все-таки надежда.
Глава 5. “Можно я не буду увядать?”
ГОРДЕЕВА: А каким образом обнаруживают артистические способности в ребенке, в подростке? Как это можно разглядеть? Вообще, настоящий артист – это больше подаренное или наработанное?
ХАМАТОВА: Это подаренное. И в подростковом возрасте уже, как правило, хорошо видно, есть или нет.
ГОРДЕЕВА: Есть – что?
ХАМАТОВА: Вера.
ГОРДЕЕВА: Это как?
ХАМАТОВА: Ну, вера. Вот стоят перед тобой два человека, и ты говоришь: “Идет дождь”. И по одному видно: идет дождь или на самом деле не идет, а по другому не видно. Он может как угодно кривляться, изображать, что ему сыро, прятаться от дождя, но у него нет этого! А тот, первый, выходит, и ты видишь вместе с ним дождь, чувствуешь его, мерзнешь и мокнешь. Если маленький человек способен передать тебе это состояние – это дар.
ГОРДЕЕВА: При этом он же еще должен не стесняться, так? Потому что стеснение дар, возможно, скроет.
ХАМАТОВА: Если ты действительно видишь дождь, то ты можешь сколько угодно продолжать стесняться, но видеть дождь. Даже среди взрослых артистов есть люди, которые свое стеснение преодолевают всю жизнь и для них каждый выход на сцену – преодоление, а не то что “я вышел и сейчас вас буду поражать”. Но дара это не отменяет и не влияет на него. Дождь или есть или нет.
ГОРДЕЕВА: Значит, в тебе почувствовали человека, который “видит дождь”?
ХАМАТОВА: Наверное, они что-то такое увидели во мне, потому что вопрос о моем поступлении встал ребром. И пробил тот страшный час, когда мне, наконец, пришлось предупредить родителей, что я несусь по пути порока с невероятной скоростью. Я поговорила с мамой. Если коротко, мама была в ужасе. И она рассказала о моих страшных планах нашей соседке, учительнице русского языка и литературы Маргарите Александровне, про которую маме было известно, что когда-то давно Маргарита Александровна мечтала быть актрисой и певицей, но нашла в себе силы наступить на горло собственной песне и пошла в педагогический. Моя мама подразумевала, что Маргарита Александровна, с высоты своего жизненного опыта, поговорит со мной и даст какой-нибудь дельный совет. Например, скажет: “Посмотри, как прекрасно сложилась моя жизнь. Забудь ты про эти артистические бредни”. Но Маргарита Александровна сказала совершенно другое: “Институт культуры, – сказала она, – это полная ерунда. Там выпускают непрофессиональных режиссеров деревенских театров и непрофессиональных артистов студий при заводских дворцах культуры. Годится только для кружков и секций. Если ты хочешь заниматься серьезно театром, – сказала она, – ты должна поступать в профессиональное театральное заведение, каким является Казанское театральное училище”. Тут маме стало совсем плохо. Потому что ты же понимаешь ситуацию: я неплохо заканчивала школу и вот-вот должна была поступить в высшее учебное заведение. А тут – какое-то театральное училище! ПТУ, куда идут, как думала мама, все эти девятиклассники, которых не взяли учиться ни в старшие классы школы, ни в другое приличное место. Караул: ее дочь идет в ПТУ!
Чтобы не обострять, я продолжаю сдавать экзамены в школе и поступать в финансовый институт. Но как только я туда поступаю, бегу в театральное училище, успевая, правда, только на последний тур. Но мне везет. Экзамены принимает Вадим Кешнер, великий артист казанского БДТ имени В.И. Качалова. В момент встречи с ним надежды на то, что всё само собой рассосется, мне скажут “вы непригодны”, я вернусь домой, и у меня не будет ни конфликтов с родителями, ни дальнейших стремлений изменить свою жизнь, рухнули. Вадим Валентинович сказал: “Приходи и приноси документы. Всё”.
ГОРДЕЕВА: Послушай, но вот если, как ты говоришь, дар “чувствовать дождь” понятен при первой встрече, если Кешнер сразу же понял, что ты – артистка, а не бухгалтер, то откуда берутся страшные истории про великих артистов и артисток, поступивших в театральное только с какого-нибудь пятого-десятого раза?
ХАМАТОВА: А кто тебе сказал, что в приемной комиссии всегда сидят люди, которые чувствуют?