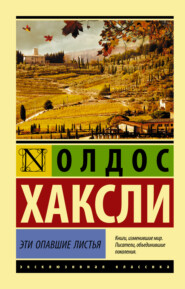скачать книгу бесплатно
– А на следующее утро, промаявшись всю ночь в кошмарных снах, он встанет, полный решимости впредь соблюдать закон, сделается фарисеем из фарисеев, а потом отправит пожертвование в какое-нибудь общество защиты общественной морали и еще одно – в лигу противников омаров. Затем напишет статью в местную газету, призывая запретить молодым писателям публиковать книги, содержащие омерзительные сцены поедания ветчины, оргий с устрицами в рыбных лавках и прочих кулинарных извращений, о которых язык не повернется рассказывать. Ведь так он и поступит, согласны, мисс Мэри?
– Наверняка, – добавила мисс Триплау, забыв о взятой на себя роли старшеклассницы из монастырской школы. – Но вы должны упомянуть еще одно: он будет после этого особенно бдительно следить, чтобы его дочери выросли, даже не подозревая о существовании свиных сарделек.
– Точно! – воскликнул мистер Кардан. – Однако подведем черту. Все приведенные примеры имели целью показать, насколько увлекательным занятием может стать самая обычная еда, если привнести в нее элементы религии, если каждый ужин сделать таинством, а созывающий к нему звук гонга заставить будоражить воображение. Соответственно и любовь превращается в нуднейшее занятие, когда воспринимается буднично, как обычный ужин. Для мужчин и женщин в 1830 году, если они не хотели сдохнуть от скуки, насущной необходимостью стало придумать себе мученицу, святую, ангела, чтобы внушать им библейские заповеди, пока они увлеченно поддавались дьявольскому соблазну. Они стремились привнести нечто новое в любовь, которую их предшественники восемнадцатого столетия и периода империи превратили в нечто прозаическое. Возродили ханжество из чувства самосохранения. Но нынешнее поколение, устав от игр мадам Марнефф, вновь обратилось к имперским понятиям барона Юло… Никто не спорит, в какой-то мере эмансипация – штука замечательная. Но в результате она начинает противоречить собственным целям. Люди просят дать им свободу, но получают в результате одну лишь скуку. Те, для кого любовь стала такой же рутиной, как обычная еда, для кого в ней нет больше места для тайн, от которых краской заливаются щечки, для фигуры умолчания, для секретных уловок, кто оставил себе только откровенные разговоры об интимном и природную необходимость совокупляться – какой же тоской обернулась вся эта свобода для них! Вот почему необходимы кринолины, чтобы воспламенять воображение, и строгие, как драконы, дуэньи, чье навязчивое присутствие само по себе способно превратить простое желание во всепоглощающую страсть. Легкомысленная болтовня об эдиповом комплексе и анальной эротике уничтожает красоту любви. Позвольте мне сделать пророческое заявление: через несколько лет вы, молодые люди, чтобы придать пикантности своим чувствам, снова начнете нашептывать друг другу на ушко высокие слова об ангелах, святых и вечности. Станете изнывать и томиться друг по другу. Но следствием этого явится более романтическое и острое чувство любви, нежели то, что принесла вам эмансипация.
Мистер Кардан сплюнул косточки последней виноградины, отодвинул от себя фруктовую тарелку, откинулся на спинку стула и огляделся с видом триумфатора.
– Как же плохо ты разбираешься в женщинах, – покачав головой, произнесла миссис Олдуинкл. – Как вы считаете, Мэри?
– По крайней мере в некоторых, – согласилась мисс Триплау. – Вы забыли, например, мистер Кардан, что Диана была таким же распространенным типом женщины, как и Венера.
– Вот именно, – сказала миссис Олдуинкл. – Коротко, но верно.
Восемнадцать лет назад они с мистером Карданом были любовниками. За ним последовал Эльзевир, пианист – недолгая связь, – после чего был лорд Трунион или доктор Лекоинг? – или оба одновременно? Миссис Олдуинкл не помнила. А когда она о них вспоминала, то совсем не так, как другие участники событий – тот же мистер Кардан. Теперь все это представлялось ей восхитительно романтичным, и она всегда выступала в роли Дианы.
– Но ведь я с вами согласен, – проговорил мистер Кардан, – и безусловно, верю в реальность существования Артемиды. Я мог бы даже доказать его вам эмпирически, если пожелаете.
– Было бы мило с твоей стороны, – усмехнулась миссис Олдуинкл, стараясь вложить в свои слова побольше сарказма.
– Единственной фигурой на Олимпе, которую я всегда считал чисто мифической, – продолжил мистер Кардан, – поскольку ее существование никак не оправдано с точки зрения житейской необходимости, это Афина. Богиня мудрости. Богиня! Вам не кажется это слегка надуманным?
Миссис Олдуинкл величаво поднялась из-за стола.
– Пойдемте в сад, – предложила она.
Глава IV
Миссис Олдуинкл купила даже звезды.
– Какие они яркие! – воскликнула она, выходя во главе небольшой группы гостей на террасу. – А как мерцают! Пульсируют! Словно живые. В Англии они никогда не бывают такими, не правда ли, Кэлами?
Тот согласился. Умение соглашаться, как он уже сообразил, экономило уйму усилий и было просто необходимым качеством для гостя этого идеального дома. Поэтому он всегда и во всем стремился соглашаться с миссис Олдуинкл.
– А как отчетливо видна Большая Медведица! – продолжила хозяйка, словно обращаясь непосредственно к небесам. Медведица и Орион были единственными созвездиями, которые она умела распознавать. – Необычное и красивое сочетание, верно?
Это прозвучало так, будто и расположение звезд стало шедевром архитектора дворца Маласпина.
– Очень необычное, – подтвердил Кэлами.
Миссис Олдуинкл низвела взор с зенита, повернулась и пронзила его улыбкой, забывая, что в глубокой безлунной темноте ее очарование не видно. Во тьме раздался голос мисс Триплау, которая говорила тихо и снова по-детски растягивала слова:
– Это словно итальянские теноры, заливающиеся страстными тремоло высоко в небе. С такими звездами над головой не приходится удивляться, что сама жизнь в этой стране немного напоминает нечто оперное.
– Не надо богохульствовать на эти звезды! – возмутилась миссис Олдуинкл. Но затем, вспомнив, что купила и итальянскую музыку, не говоря уже об обычаях и традициях всего итальянского народа, заметила: – Кроме того, шутливое сравнение с тенорами банально. В конце концов это единственная страна, где bel canto все еще… – Она взмахнула рукой. – Лучше вспомните, как сам Вагнер восхищался этим, как его…
– Беллини, – подсказала юная племянница. Ей уже доводилось слышать тетушкину фразу про восхищение Вагнера.
– Беллини, – повторила миссис Олдуинкл. – Кроме того, в итальянской жизни нет ничего оперного. Она исполнена подлинных высоких чувств.
Мисс Триплау даже не сразу нашлась, что ответить. У нее был несомненный талант к подобным невинным шуткам, но в то же время она боялась, что люди сочтут ее просто умной, однако бесчувственной, блестящей и слишком жесткой молодой женщиной. С полудюжины метких острот были, конечно, допустимы, а потом ей нельзя забывать, что в основе своей она простодушна, схожа с героинями Вордсворта – просто фиалка, растущая рядом с покрытым мхом камнем. А особенно нынешним вечером, в этой своей шали.
Как бы нам ни хотелось этого, как бы высоко мы ни оценивали свои способности, все-таки считается признаком дурного вкуса похваляться собственным умом. Но в том, что касается достоинств душевных, подобная стеснительность нам не свойственна; а потому мы открыто рассказываем о доброте, граничащей со слабостью, о щедрости, граничащей с безрассудством (но при этом умеряем свое хвастовство, чтобы чрезмерность данных качеств характера не переросла для сторонних наблюдателей в его дефекты). Однако мисс Триплау принадлежала к редкому типу людей, настолько очевидно и несомненно умных, что ни у кого не вызвало бы раздражения, если бы она показывала это так часто, как ей хотелось. Окружающие восприняли бы это всего лишь адекватной самооценкой личности. Но вот сама мисс Триплау испытывала противоестественное желание, чтобы ее ценили в первую очередь не за ум, и не стремилась выпячивать свое достоинство. Ее гораздо больше волновало, поймут ли в этом мире, насколько она сердечная натура. А потому стоило ей поддаться своей природной склонности к острословию, увлечься желанием соответствовать уровню красноречия компании, когда она произносила нечто, противоречившее в своем блеске простоте и гармоничной искренности ее предполагаемых эмоций, как она спохватывалась и торопилась исправить неверное впечатление о себе, угрожавшее сложиться среди слушателей. Сейчас мисс Триплау нашла ремарку, которая идеальным образом сочетала подлинное понимание красоты природы с элегантной и не всем доступной аллюзией. Последнюю она адресовала главным образом мистеру Кардану, в ком видела образованнейшего человека старой школы, умевшего ценить и восхищаться интеллектом других.
– О, Беллини! – взволнованно воскликнула мисс Триплау, едва миссис Олдуинкл успела закончить последнюю фразу. – Каким он обладал потрясающим даром мелодиста! – И тонким голоском она пропела первую длинную музыкальную фразу. – Какому прелестному изгибу следует здесь мелодия! Это почти как линия вон тех холмов на фоне неба.
На дальнем краю долины, к западу от горы, на которой стоял дворец, протянулась более высокая и длинная гряда. С террасы открывался вид снизу вверх на эту нависавшую над долиной громаду. Именно туда указала мисс Триплау.
– Сама природа Италии – произведение искусства, – добавила она.
– Верное замечание, – улыбнулась миссис Олдуинкл, потом сделала первый шаг, начав вечерний променад вдоль террасы.
Шлейф бархатного платья волочился за ней по пыльным каменным плитам. Но миссис Олдуинкл не беспокоило, что он собирает грязь. Важен был лишь общий производимый ею эффект. Пятна, пыль, мелкие веточки и гусеницы – несущественные мелочи. Она вообще была склонна относиться к своей одежде с утонченной аристократической небрежностью. Присутствующие последовали за ней.
Луна так и не показалась, только звезды светились на темно-синем небосводе. Черные и плоские на фоне неба Геркулесы и согбенные Атласы, Дианы в коротких юбочках и Венеры, прикрывавшие свои прелести вызывающе соблазнительными жестами обеих рук, выстроились, словно окаменевшие танцоры, вдоль всей балюстрады. Между ними тоже проглядывали звезды. Внизу, в темной долине, сияли крупные созвездия желтых огней городка. Беспрестанное кваканье лягушек; этот тонкий, отдаленный, но очень отчетливый звук поднимался из каких-то невидимых водоемов.
– В такие вечера, – сказала миссис Олдуинкл, останавливаясь и обращаясь к Кэлами, – начинаешь по-настоящему понимать, что такое подлинная южная страсть.
У нее выработалась пугающая привычка. Когда она начинала говорить с кем-то в отдельности и на серьезную тему, то приближала свое лицо почти вплотную к лицу собеседника, открывая глаза во всю ширь и на секунду концентрируя взгляд, как окулист, осматривающий пациента.
Подобно вагонам, прицепленным за локомотивом, машинист которого внезапно включил тормоза, гости миссис Олдуинкл остановились, натыкаясь друг на друга.
Кэлами закивал.
– Верно, – произнес он. – Очень тонко подмечено.
Даже при скудном свете звезд, заметил он, глаза миссис Олдуинкл угрожающе блестели на ее приблизившемся лице.
– В эту ужасную буржуазную эпоху, – в словарном запасе миссис Олдуинкл (как и у мистера Фэлкса, хотя по другим причинам) не было более пренебрежительного определения, чем «буржуазный», – только южные народы понимают, что такое подлинные страсти, и даже способны поддаваться им.
Сама миссис Олдуинкл, разумеется, понимала, что такое страсть.
– Вы совершенно правы, – проговорил мистер Кардан. – Все дело, разумеется, в климате. Жара оказывает на местных жителей двойное воздействие, прямое и косвенное. Прямой эффект не нуждается в объяснениях: теплота порождает теплоту. Это очевидно. Но и побочное воздействие не менее важно. В жарких странах люди не склонны трудиться слишком усердно. Человек работает ровно столько, сколько требуется для поддержания жизни, и возводит в культ время отдохновения. И не менее очевидно, чем может заняться человек, если он не философ, в свободное время – любовью. Ни у одного серьезного и трудолюбивого мужчины не оставалось бы ни времени, ни энергии, ни особого желания все забыть и предаться страсти. Она расцветает только среди хорошо накормленных безработных. А потому, если не брать в расчет людей из привилегированного сословия, располагающего досугом, то любовная страсть во всех своих роскошных хитросплетениях едва ли доступна труженикам севера. И только среди тех, кто обладает склонностью к ней и чья природная леность лишь поощряется щедрым южным солнцем, страсть всегда цвела пышным цветом, и, как вы справедливо заметили, дорогая Лилиан, продолжает цвести даже в эту обывательскую эпоху.
Мистер Кардан едва лишь начал свою речь, когда миссис Олдуинкл возмущенно двинулась дальше. Он оскорблял ее в лучших чувствах. Впрочем, мистер Кардан продолжал развивать свои мысли, когда они миновали силуэты скромницы Венеры, Дианы с верным псом у ног, опиравшегося на свою дубину Геркулеса, Атласа, горбившегося под тяжестью земного шара, и Бахуса, воздевшего к небу обломок руки, в отсутствовавшей части которой он когда-то держал кубок с вином. Добравшись до конца террасы, они развернулись и пошли обратно мимо того же ряда символических персонажей.
– Подобные рассуждения легко даются, – заметила миссис Олдуинкл, – но только они не умаляют величия страсти, ее чистоты, и красоты, и…
– А разве не богослов Боссюэ сказал, что страсть есть нечто, не имеющее пределов? – произнесла Ирэн.
– Великолепно, Ирэн! – воскликнул мистер Кардан.
Та залилась краской, что осталось не замеченным в темноте.
– Но я действительно считаю, что Боссюэ был совершенно прав, – заявила она.
Даже краснея, Ирэн могла превращаться в настоящую львицу, когда возникала необходимость поддержать тетю Лилиан.
– Полагаю, что он абсолютно прав, – сказала она после нескольких мгновений, пока переживала воспоминания из собственного жизненного опыта.
Она сама очень хорошо прочувствовала эту беспредельность, поскольку в разное время Ирэн, как она считала, успела предаться страстям. «Не представляю, – говаривала тетя Лилиан, когда Ирэн вечерами приходила в ее комнату, чтобы расчесать ей волосы перед сном, – как ты до сих пор не влюбилась в Петера, или Жака, или Марио (имена могли меняться, поскольку миссис Олдуинкл и ее племянница совершали длительные ежегодные турне по всей Европе). – Будь я в твоем возрасте, непременно увлеклась бы им». И, начав после этого всерьез думать о Петере, Жаке или Марио, Ирэн обнаруживала, что тетя наблюдательна. Упомянутый молодой человек действительно оказывался чудесным. И остаток времени, что они проводили в отелях «Континенталь», «Бристоль» или «Савой», она была влюблена, причем страстно. И чувства ее тогда оказывались беспредельными. Вот почему для нее не подлежало сомнению, что Боссюэ хорошо знал, о чем говорил.
– Что ж, если даже вы, Ирэн, считаете, что он был прав, – проговорил мистер Кардан, – тогда мне остается лишь признать свое поражение в споре. Я вынужден склониться перед подлинным знатоком вопроса. – Он вынул изо рта сигару и низко поклонился.
Ирэн почувствовала, как у нее вспыхнули щеки.
– Вы просто решили посмеяться надо мной, – промолвила она.
Миссис Олдуинкл покровительственным жестом обняла девушку за плечи.
– Я не позволю вам дразнить ее, Кардан, – предупредила она. – Ирэн – единственная среди вас всех, кто по-настоящему способен оценить благородство, красоту и величие.
Она привлекла племянницу еще ближе к себе, изобразив неловкие объятия. Но Ирэн ответила на них, счастливая и преданная. Тетушка Лилиан была для нее неподражаема!
– О, я знаю свое место, – сказал мистер Кардан извиняющимся тоном. – Я всего лишь козлоногий старик, не более.
Между тем лорд Ховенден, громко бормоча что-то себе под нос, шел чуть в стороне от остальной компании, достаточно ясно, как он надеялся, демонстрируя всем, что занят собственными мыслями и не слушает их. Но сказанное все же привело его в смущение. Откуда Ирэн могла столько знать о страсти? Неужели были… Неужели до сих пор есть другие мужчины? Болезненный вопрос навязчиво лез в голову. Решив отделить себя от присутствующих и их разговоров, он обратился к мистеру Фэлксу.
– Скажите, мистер Фэлкс, – спросил он таким тоном, словно размышлял над этой проблемой достаточно долго, прежде чем задать вопрос, каково ваше мнение о фашистских профсоюзах?
Тот охотно пустился в разъяснения.
Страсть, думал Кэлами, страсть… Даже ею можно пресытиться! Он вздохнул. Если бы только сказать себе: «Все! Никогда больше!» – и сдержать обещание. Это бы принесло огромное облегчение и успокоение. Но вот ведь проклятие! – было нечто неизъяснимо и извращенно привлекательное для него в этой Триплау.
А мисс Триплау как раз очень хотелось самой вставить реплику, чтобы показать свое отношение к страсти, веру в нее, но только не в ту страсть, какой ее представляла миссис Олдуинкл; в естественную, спонтанную, почти детскую страсть, а не в то пышное тепличное экзотическое растение, которое распускалось в гостиных. Кардан, конечно, прав, не воспринимая всего этого всерьез. Но едва ли он мог много знать и о той простой невинной любви, какую имела в виду мисс Триплау. Как ничего не знала о ней и миссис Олдуинкл, если на то пошло. Зато она сама хорошо разбиралась в этом. Но все же мисс Триплау пришла к выводу, что тонкая паутинка страстей была слишком нежной и деликатной материей, чтобы заводить разговор о ней сейчас среди слушателей, не готовых к правильному восприятию ее понятий.
Небрежным жестом она сорвала листок с одного из нависавших над ними деревьев и рассеянно растерла его пальцами. И постепенно ее носа достиг аромат уничтоженного ею листа. Мисс Триплау поднесла ладонь к лицу, принюхалась. И внезапно перенеслась к парикмахеру в Уэлтингэме, где когда-то ждала, пока делали стрижку ее кузену Джиму. Мистер Чигуэлл, парикмахер, закончил работать вращающейся щеткой. Вал машинки продолжал крутиться, эластичный резиновый привод совершал обороты в колесе, покачиваясь из стороны в сторону как умирающая змея, подвешенная в опасной близости над коротковолосой теперь головой Джима.
– Немного бриллиантина, мистер Триплау? Ваши волосы суховаты. Или, как всегда, лавровишневый лосьон?
– Давайте лосьон, – грубовато ответил Джим.
И мистер Чигуэлл, взяв пульверизатор, окутал голову Джима облаком, получившимся из полупрозрачной коричневой жидкости во флаконе. Воздух в парикмахерской моментально пропитался ароматом, что и лист с древа Аполлона, остатки которого она держала в руке. Все это происходило много лет назад, и Джима уже не было в живых. Они любили друг друга по-детски, с глубокой и тонкой страстью, о которой она не могла говорить. По крайней мере не здесь и не сейчас.
Остальные же говорили не переставая. Мисс Триплау продолжала принюхиваться к сломанному, скомканному лавровому листу и размышлять о своих девичьих годах, об умершем двоюродном брате. «Милый, мой милый Джим, – мысленно повторяла она. – Мой дорогой Джим!» Как же сильно она любила его, как горевала, когда он умер. И это до сих пор причиняло страдания, хотя минуло много лет. Мисс Триплау вздохнула. Она гордилась своей способностью к сильному страданию, даже готова была усугубить его. Внезапное воспоминание о Джиме в парикмахерской, живая память о нем, навеянная запахом сорванного листа, служили доказательствами ее исключительной чувствительности. Поэтому к горю примешивалось и удовлетворение. Ведь это случилось спонтанно, почти само собой. Мисс Триплау всегда говорила, что у нее чувствительное сердце, способное на глубокие эмоции. Это могло служить подтверждением ее слов. Никто не догадывался, как она страдала. Откуда людям знать, что таится под ее внешней жизнерадостностью? «Чем ты чувствительнее, – говорила она себе, – чем более смиренна и чиста, тем важнее для тебя носить маску». Ее смех и шутки как раз и являлись такой маской, скрывавшей от внешнего мира все, что творилось в душе. Они стали броней против праздного и навязчивого любопытства посторонних. Как могли они догадываться, например, сколь много значил для нее Джим, как важен был и сейчас его образ – пусть минуло немало лет? Разве под силу их воображению представить, что в ее сердце до сих пор сохранялся уголок, святая святых, в которой она и сейчас могла поддерживать духовную связь с ним? Милый Джим, милый, милый Джим… На глаза навернулись слезы. Пальцами, все еще пахнувшими лавром, мисс Триплау смахнула их.
Внезапно она сообразила, что из этого может получиться потрясающий рассказ. В нем будут юноша и девушка, прогуливающиеся под звездным небом – под огромными итальянскими звездами, вибрирующими как тремоло тенора (не забыть включить в текст данную деталь), на фоне черного бархата неба. Между ними происходит разговор, тема все ближе и ближе к любви. Молодой человек по натуре робок (мисс Триплау решила дать ему имя Белами). Он один из тех славных и очаровательных юношей, которые начинают с обожания на расстоянии, считая, что девушка слишком хороша для него. Не осмеливаются надеяться, что такое божество может снизойти до него. Он и потом боится признаться в любви, опасаясь, что его с позором отвергнут. Но она, конечно, тоже влюблена в него, и зовут ее Эдна. Она – деликатная и чувствительная, скромность и неуверенность в себе придают ей особое очарование.
Они вот-вот затронут тему любви; звезды трепещут все сильнее, словно в предчувствии экстаза. Проходя мимо лавра, Эдна случайно срывает один из его пахучих листьев. «Самое чудесное в любви, – начинает молодой человек (он заранее подготовил монолог и полчаса набирался отваги, чтобы произнести его), – а я имею в виду только подлинную любовь, полнейшее понимание друг друга, слияние душ, забвение собственного „Я“ для того, чтобы стать единым целым с кем-то еще…» Но, принюхиваясь к раздавленному между пальцами листу, она внезапно и невольно вскрикивает (импульсивность – часть обольстительности в личности Эдны): «Боже мой! Да это же парикмахерская в Уэлтингэме! И смешной маленький мистер Чигуэлл с его косоглазием! И резиновая лента, крутящаяся на колесе, извиваясь змеей». Этим она, конечно же, повергает бедного юного Белами в замешательство. Он расстроится. Если она так реагирует, стоит ли ему говорить о любви, не лучше ли промолчать?
Наступает продолжительная пауза, а потом он пускается в рассуждения о Карле Марксе. А она никак не может ему объяснить – попадает в какой-то психологический тупик, – что парикмахерская в Уэлтингэме – символ ее детства, а запах измятого листа лавра вернул ей воспоминание о покойном брате (в рассказе он будет ее родным братом). Ей попросту не под силу растолковать ему, что ее грубое вмешательство в его трогательную речь было вызвано внезапной вспышкой в памяти. Она очень хотела бы, но не может заставить себя даже начать. Слишком уж все сложно, смутно, чтобы выразить словами, и если твое сердце настолько ранимо, как можешь ты полностью обнажить его и показать кровоточащую рану? И кроме того, он должен был сам каким-то образом догадаться, любить ее до такой степени, чтобы суметь понять все; хотя бы то, что у нее есть гордость. Объяснение делается невозможным. А он жалким и невыразительным тоном продолжает твердить про Карла Маркса. И внезапно ее словно прорывает: она начинает рыдать и смеяться одновременно.
Глава V
Черный силуэт, который на террасе лишь поверхностно воплощал в себе фигуру мистера Кардана, трансформировался в полного энергии и источавшего добродушие мужчину, стоило ему войти в залитый светом зал. Его красноватое лицо поблескивало, он улыбался.
– Я хорошо знаю Лилиан, – говорил мистер Кардан на ходу. – Она теперь будет часами сидеть там под звездами, проникаясь романтикой момента, но замерзая все сильнее и сильнее. И с этим ничего не поделаешь, уверяю вас. Хотя завтра ее прихватит приступ ревматизма. Но нам с вами ничего не останется, кроме как устраниться и постараться молчаливо сносить ее страдания. – Он уселся в кресло напротив огромного, но пустого камина. – Вот так намного лучше.
Кэлами и мисс Триплау последовали его примеру.
– А вам не кажется, что мне следовало хотя бы предложить ей свою шаль? – после паузы спросила мисс Триплау.
– Этим вы только вызовете ее раздражение, – ответил мистер Кардан. – Если Лилиан сказала, что сейчас достаточно тепло, значит, действительно тепло. Мы уже выставили себя дураками в ее глазах, пожелав вернуться в дом. А если принесем шаль, то получится грубо и бестактно. Мы словно уличим ее во лжи. «Дражайшая Лилиан, на улице вовсе не тепло. И, утверждая обратное, ты несешь чепуху. Вот почему мы принесли тебе шаль». Нет-нет, мисс Мэри. Вы наверняка понимаете, что этот номер не пройдет.
Мисс Триплау кивнула.
– Дипломатично! – заметила она. – Но вы, разумеется, правы. Мы все дети в сравнении с вами, мистер Кардан. Вот такого росточка. – Она совершенно произвольно, хотя это и была часть роли ребенка, обозначила ладонью высоту в пару футов от пола. И столь же по-детски улыбнулась ему.
– Нет, всего лишь вот такого, – с иронией произнес мистер Кардан, поднес правую руку на уровень глаз и показал между большим и указательным пальцами расстояние примерно в полтора дюйма. А потом посмотрел на нее в эту щелку и подмигнул.
– Но мне доводилось встречать детей, – продолжил он, – рядом с которыми мисс Триплау…
Он воздел руки вверх, а затем позволил им спуститься на свои бедра.
Мисс Триплау не понравилось, насколько откровенно ей отказывали в ребяческой простоте. Словно сбросили с небес на землю. Вот только обстоятельства не позволяли отстаивать свою точку зрения именно в присутствии мистера Кардана. Слишком уж не располагала к этому странная история их знакомства. При первой же встрече мистер Кардан сразу (хотя, как утверждала мисс Триплау, совершенно необоснованно) стал относиться к ней с дьявольской откровенностью и цинизмом, зачислив в категорию «современных», лишенных всяких предрассудков молодых женщин, которые не только поступали, как хотели, но и открыто рассказывали о своих похождениях. И в своем желании доставить удовольствие новому знакомому, слишком увлеченная свойственной ей способностью легко приспосабливаться к любой моральной атмосфере, мисс Триплау непринужденно стала играть навязанную ей роль. И как блистательно она играла! Как порой бывала очаровательно смела и порочна в речах! Но лишь до тех пор, когда однажды, не переставая весело подмигивать ей, мистер Кардан подвел разговор с ней к такой неслыханно опасной грани, что мисс Триплау поняла: она поставила себя в двусмысленное положение. Одному Богу было известно, куда это могло завести ее дальше в общении с подобными мужчинами. И потому едва заметными маневрами мисс Триплау превратила себя из саламандры, весело пляшущей среди языков пламени, в нежную примулу, цветущую на берегу лесного ручья. Она входила теперь в этот образ при каждом разговоре с мистером Карданом – образ женщины-литератора, культурной и образованной, но не испорченной жизнью. Со своей стороны, с тем тактом, который отличал его во всех ситуациях, мистер Кардан принял ее новый облик, ничем не выдав удивления подобной метаморфозой. Единственное, что он потом позволял себе, так это неожиданно подмигнуть ей или многозначительно улыбнуться. Мисс Триплау неизменно делала в таких случаях вид, будто ничего не замечает. В сложившихся обстоятельствах ей ничего иного не оставалось.
– Многие почему-то считают, – сказала мисс Триплау со вздохом мученицы, – что образованная женщина непременно многоопытна. Но хуже всего то, что люди не способны так же ценить добрую душу, как умную голову.
А ведь она обладала именно такой доброй душой. Умным может стать любой, твердила она. Но ведь гораздо важнее быть порядочным и милосердным, питать только чистые и благородные чувства. Ее необычайно порадовал эпизод с листком лавра. Вот в чем и заключалось благородство чувств.
– Читатели почти всегда неправильно понимают смысл написанного автором, – продолжила мисс Триплау. – Им нравятся мои книги, потому что они умны, сюжетные ходы неожиданны и часто парадоксальны, а герои циничны и зачастую жестоки при всей своей элегантности. Они не видят, насколько у меня все серьезно. Не умеют разглядеть подлинной трагедии и нежности, скрывающейся в глубинах повествования. Я стараюсь создать нечто новое, вызвать необычную реакцию, смешивая не сочетаемые, казалось бы, химические компоненты. Легкость и трагизм, очарование и остроумие, фантазия и реализм, ирония и наивная чувствительность – все в одной формуле. Но людям это кажется всего лишь забавным, не более. – Она горестно всплеснула руками.
– Но это же вполне ожидаемо, – заметил мистер Кардан. – Любой, кому действительно есть что сказать, неизбежно натыкается на стену непонимания. Публика воспринимает лишь то, что ей хорошо знакомо. А среди чего-то нового теряет ориентиры. И подумайте, как часто не понимают друг друга даже умные и знакомые между собой люди! Вам когда-нибудь доводилось вести переписку с возлюбленным, жившим вдалеке от вас?
Мисс Триплау чуть заметно кивнула; ей этот мучительный процесс был хорошо знаком.
– Тогда вам понятно, с какой легкостью тот, кому вы писали, мог принять ваше случайное, мимолетное настроение за постоянное расположение духа, не покидающее вас никогда. Вас ни разу не удивляло ответное письмо, исполненное радости по поводу ваших успехов, тогда как на самом деле вы уже были погружены в глубокое уныние от неудач? Вас ни разу не изумляла ситуация, когда, весело насвистывая, спустившись к завтраку, вы находили рядом со своей тарелкой эпистолу на шестнадцать страниц с выражениями сочувствия и сострадания? И неужели на вашу долю не выпадало несчастье быть любимой кем-то, к кому вы сами не чувствовали ни малейшей любви? И если выпадало, то вы прекрасно знаете, как слова, написанные со слезами на глазах, от всего сердца, из глубины души, вам кажутся не только глупыми и неуместными, но и проявлением дурного вкуса. Вульгарными, как тексты жалких писем, что порой зачитывают в судах во время бракоразводных процессов. А ведь к вам пишут в абсолютно тех же выражениях, какие обычно используете вы, обращаясь к тому, в кого влюблены. Так же читатель, чье настроение не совпадет с настроением, с которым автор создал книгу, будет скучать над страницами, рожденными в порыве вдохновения и с величайшим энтузиазмом. Или же он, уподобляясь удаленному от вас получателю писем, ухватится в тексте за то, что вам представляется несущественным, но именно в этом будет видеть основной смысл и стержень вашего произведения. А вы только что признали, что усложняете восприятие своих книг для читательской аудитории. Пишете сентиментальную трагедию под покровом сатиры. Вот читатель только сатиру и видит. Неужели для вас это неожиданность?
– В этой теории заключена, конечно, доля истины, – произнесла мисс Триплау.
– И вы должны помнить, – продолжил мистер Кардан, – что большинство читателей на самом деле вовсе не читают. Если примете во внимание, что страницы, которые стоили вам неделю непрестанного и тяжелого труда, бегло читаются в течение нескольких минут или вовсе пропускаются, то вас перестанет удивлять возникающее непонимание между автором и читателем. Мы читаем только глазами, не включая воображения; не даем себе труда преобразовывать в уме печатное слово в живой образ. Но поступаем мы так исключительно в целях самозащиты. Мы прочитываем огромное количество слов, однако девятьсот девяносто из каждой тысячи не стоят внимания, и с ними так и следует обходиться, то есть просматривать поверхностно. Необходимость пролистывать огромное количество ерунды приучает нас небрежно относиться ко всему, что читаем, даже к действительно хорошим книгам. Поэтому вы можете вкладывать душу в свое творчество, мисс Мэри, но из каждой тысячи ваших поклонников, сколько, по-вашему, тратят хоть какие-то умственные усилия, читая ваши творения? И под словом «читая», я имею в виду настоящее чтение. Так сколько?
– Кто знает? – отозвалась мисс Триплау. Ведь даже если они читают по-настоящему, многие ли способны уловить суть?
– Мания идти в ногу со временем, – сказал мистер Кардан, – убила искусство настоящего чтения. Большинство людей выписывают три или четыре ежедневных газеты, с субботы по понедельник просматривают полдюжины еженедельников, а в конце каждого месяца и дюжину журналов. В остальное время, если использовать библейское определение, они предаются блуду с новыми романами, пьесами, стихами и биографиями. У них попросту нет времени на нечто большее, нежели поверхностное ознакомление с литературой. Если вам угодно все усложнять и создавать трагедии под маской фарса, то путаница неизбежна. Книги имеют свои судьбы, как и люди. И их судьбы, определяемые многими поколениями читателей, зачастую сильно отличаются от тех, что были предначертаны им авторами. «Путешествия Гулливера» с незначительными изъятиями превратились в детскую книжку, новое иллюстрированное издание печатают к каждому Рождеству. Вот что получается из попыток высказать глубочайшие мысли о человеческой природе в форме сказки. Публикации «Пуританской лиги» почти неизменно фигурируют в каталогах книготорговцев под рубрикой «Это любопытно». Богословская, а для самого Мильтона – фундаментальная и важнейшая составляющая «Потерянного рая» воспринимается ныне настолько несерьезно, что вообще остается незамеченной. Когда кто-нибудь упоминает о Мильтоне, какие ассоциации всплывают первыми в нашем сознании? Мы думаем о нем как о великом религиозном поэте? Нет. Мильтон стал для нас набором отдельных цитат, ослепительно ярких, пестрых, исполненных громогласной гармонии – хоть пустейший мюзикл создавай на его основе! Порой шедевры литературы для взрослых одного поколения уже для следующего становятся предметом изучения школьников. Разве читает в наши дни тот, кому исполнилось шестнадцать, стихи сэра Вальтера Скотта? Или его романы? Сколько произведений, исполненных благочестия и высокой морали, выжили только потому, что хорошо написаны! И представьте, каким шоком это стало бы для авторов, узнай они, что в будущем их труды будут ценить за одни лишь эстетические достоинства? Если подводить итог сказанному, именно читатели определяют, какое место в литературе займет та или иная книга. Это неизбежно, мисс Мэри. И вы должны смириться с фактами.
– Да, вероятно, – произнесла она.
– Лично мне не совсем понятны ваши жалобы на непонимание, – с улыбкой заметил Кэлами. – С моей точки зрения, было бы неприятнее, если бы вас слишком хорошо понимали. Вас, конечно, могут возмущать недоумки, не способные постичь то, что представляется очевидным; тщеславие автора может страдать от того, каким они воспринимают его, уподобляя в вульгарности самим себе. Вы даже можете считать, что не состоялись как художник, поскольку не сумели сделать свои произведения ясными до прозрачности. Но все это ничто в сравнении с ужасом быть понятой до конца, до донышка! Вы выложились полностью напоказ, с вами все ясно, и отныне вы зависите от благосклонности каких-то людишек, кому открыли всю душу. На вашем месте я бы, напротив, радовался и поздравлял себя с успехом. У вас есть своя аудитория, ей нравятся ваши книги, пусть и по неверным, как вам представляется, причинам. Но как раз это и обеспечивает вашу безопасность, не дает им дотянуться до вас, позволяет сохранить себя нетронутой.
– Вероятно, вы правы, – сказала мисс Триплау.
Но мистер Кардан понял ее гораздо лучше. Не совсем реальную и не самую главную часть, это верно, но приходилось признать, что и немалую. Ничего хорошего она в этом не видела.
Глава VI
Почти все мы обречены на болезненную необходимость буквально разрываться, чтобы сохранить лояльность к несовместимым друг с другом вещам. Нас тянут в разные стороны дьявол и Бог, плоть и дух, любовь и долг, здравый смысл и освященные древними традициями предубеждения. Подобные конфликты лежат в основе каждой драмы. Мы приобрели отвращение к зрелищу корриды, казни или гладиаторского поединка, однако не можем удержаться от удовольствия исподтишка понаблюдать за теми, кто бьется в судорогах нравственных мучений. В отдаленном будущем, когда общество примет рациональные формы и каждый индивидуум займет в нем отведенное ему место, выполняя посильный для себя труд, когда система образования перестанет насаждать в молодых умах нелепые предрассудки вместо истины, когда поджелудочную железу научат гармонично функционировать, как ей и положено, а все недуги будут побеждены, наша нынешняя литература, построенная на конфликтах и человеческих бедах, покажется нам до странности непостижимой. А наш вкус к зрелищу чужих душевных мук сочтут омерзительным извращением, какого должен стыдиться любой нормальный человек. И вот когда радость заменит несчастье как основная тема искусства, может случиться так, что и само искусство перестанет существовать вообще. У нас часто говорят, что у счастливого народа нет прошлого. Позже мы, возможно, присовокупим к этому, что счастливые люди не создают литературы. Ведь современный романист отметает в сторону и в одном абзаце описывает предыдущие двадцать лет благополучия своего героя, зато неделю глубокой скорби и нравственных терзаний растягивает на двадцать глав. Когда для скорби не останется в жизни места, нам попросту не о чем станет писать. Наверное, так будет лучше для нас всех.
Внутренний конфликт, который разрывал душу Ирэн последние месяцы, хотя и не достигал остроты и серьезности духовной борьбы истинных героев, стремящихся найти способ сохранить свою человеческую сущность и целостность, оставался тем не менее мучительным. Вопрос стоял так: должна она заниматься живописью и литературным трудом или шить нижнее белье, следуя собственным идеям?