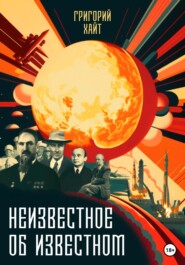скачать книгу бесплатно
Из дневника Сахарова: «Был принят на должность заведующего лабораторией с окладом 6000 рублей в месяц и 75-процентной надбавкой». Сразу отмечу, что зарплата Андрея Сахарова в десять раз превышала зарплату какого-нибудь врача или учителя на гражданке. Неплохо однако ведомство Берии относилось к своим кадрам. Ну а дальше Сахаров начинает разрабатывать свою конструкцию водородной бомбы под кодовым названием «Слойка». Конструкция выглядит перспективно. Расчёты, правда, ничего толкового не говорят, но Сахаров уверен, что это то что надо. Возражать никто не собирается. Себе дороже будет. Потому что в ту пору Сахаров не был особым гуманистом, каковым он стал спустя десятилетия. Так что теперь советская перспективная бомба строится ударными темпами.
Ну а теперь обратно за океан, в Нью-Мексико, в Лос-Аламос, к той самой шкурке банана. Тут всё по сценарию фильма «Бриллиантовая рука». Идёт Станислав Улам по улице. Думает о чём-то своём, под ноги не смотрит. И тут – бац! Нога скользит по банану. Упал, очнулся. Вокруг люди. «Хау ар ю?» спрашивают. Плохо, отвечает Улам. Вызывают амбуланс. Везут в госпиталь. Делают рентгеновский снимок. Молодой доктор успокаивает: перелом не страшный, закрытый. Накладывают гипс. Дают костыли, бюллетень на недельку и отправляют домой. Отдыхай, мол.
Ну а дальше лежит Станислав в кровати, рассматривает рентгеновский снимок, думает о принципах работы рентгеновской машины и физике рентгеновских лучей. И тут Улама осеняет идея! Рентгеновское излучение (X-Ray другое название) и есть ключик к водородной бомбе! Те самые мягкие рентгеновские лучи, под которые и ногу-то не страшно подставить, могут поджечь термоядерную реакцию. И вот на следующий день спешит Улам к своему шефу, поделиться мыслями и идеями конструкции.
Надо отдать должное Теллеру. Он не отверг идею с порога, как делают многие начальники, чьи подчинённые лезут поперед батьки. Не стал он также воровать идею, присваивая своё авторство. Наоборот, подхватил её, провёл предварительные расчёты и… Да, подтвердил, что это оно и есть. То, что надо.
На идею эту Теллер и Улам оформили секретный патент, как бы закрепив двойное авторство. Ну а потом – за работу. Впрочем, здесь в очередной раз проявился неуживчивый характер Эдварда Теллера. С коллегами своими он вёл себя по-хамски, не считался с чужими мнениями, отстаивая свою, как он считал, правоту. Так что примерно через год после серии скандалов с коллегами Эдварда Теллера уволили из лаборатории. Рассорился Эдвард Теллер со своими коллегами настолько, что даже отказался ехать на испытания первого термоядерного устройства Ivy Mike, высокомерно заявив: «Сработало это устройство или нет, я узнаю через несколько секунд после взрыва с помощью моего сейсмографа (прибор для измерения силы землетрясений).
Ivy Mike подорвали 1 ноября 1952 года. Сила взрыва составила 10 мегатонн – в 500 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Но это была не бомба. Это было устройство размером с трёхэтажный дом и использовалось оно для тестов, проверки правильности идеи, заложенной в конструкции Улам-Теллер.
Ну а что же делается в Советском Союзе? Как там идут дела с термоядерным тортиком «слойка»? Вообще-то неплохо. Хотелось, конечно, утереть нос американцам, порадовать человечество термоядерным грибком в парочку мегатонн. Но не успели. Знаете ли, как обычно, смежники подвели – не то поставили, не так скрутили-свинтили. Потом отец народов скончался. Траурные мероприятия и тому подобное. Потом главного атомного начальника Берию арестовали. Потом отпускной сезон. Тем более что теперь Берия не гонит, не грозится посадить, расстрелять. Объективные причины, короче.
И тем не менее холодным летом 1953 года, в августе, бомба на полигоне. Шампанское приготовили, обратный отсчёт начали. Десять, девять… ба-бах! Рванула, но что-то не очень громко. Хотелось парочку мегатонн, а тут даже полмегатонны не получилось. Зельдович тут же на коленке что-то посчитал и сообщил, что термоядерный выход составил 15—20 процентов от всей мощности. Остальное – уже привычный атомный взрыв. Конечно же, кривил душой товарищ Зельдович, ибо прекрасно знал, что в подобных расчётах на коленке 15—20 процентов – это попросту нормальная ошибка расчётов. Нет там никакого термояда. Но не будем же наверх докладывать, что сорвалось. Дипломатичненько так: испытания прошли успешно, хотя имеются некоторые недостатки. А руководству-то это и надо. Наверх, в Москву – секретную телеграмму. Испытания прошли успешно. Теперь и мы не лыком шиты. Есть водородная бомба.
Председатель правительства, товарищ Маленков, взбирается на трибуну и, обращаясь к империалистам и советскому народу, сообщает, что и у нас есть водородная бомба. Ура! Народу советскому, правда, всё равно, есть бомба – нет бомбы. Насущных проблем слишком много. Не до плясок на улице. Товарищи империалисты глянули на свои сейсмографы, тихонько улыбнулись и вздохнули облегчённо. Но в Кремле праздник. И на секретном объекте КБ-11 тоже праздник. Намечается серьёзный банкет. Получилось – не получилось, потом разберёмся. А отметить окончание работ, сам бог велел.
И вот всё тем же холодным августом 1953 года съезжаются, сбегаются, сходятся на банкет и стар и млад. И старшие научные сотрудники, и младшие, и корифеи, и лаборанты. Все, кто имел отношение к бомбе. Ну, вначале, конечно, все чинно, благородно. Берёт слово корифей, Герой Соцтруда и так далее Яков Зельдович. Сообщает о необычайных достижениях, умолчав об имеющихся недостатках. Говорит, что предстоит ещё много работать, за что и предлагает поднять бокалы-стаканы. Потом ещё парочка официальных тостов. Потом обязаловка, и дисциплина кончается.
Люди сбиваются в кружки, в группы по интересам, и начинаются разговоры. Ну, вначале, конечно, о работе. Спорят о бомбе, промывают косточки начальству. Потом, естественно, разговоры гармонично переключаются на политику. Ещё немножко горячительного принято. Все страхи забылись, языки развязались. И отцу народов досталось, и товарищу Берии. И надежда вот в разговорах гуляет на светлое будущее. Чувствуете ветры свободы. Видите – вот уж и забор с колючей проволокой ставят на полметра пониже. И колючка вроде теперь не такая колкая. Потом принято еще немного. Следующий пункт программы любого банкета – музыка и танцы. Патефон, дефицитные пластинки. И вот уже заголосила Любовь Орлова и какой-то иностранный Дюк Эллингтон.
Состав КБ-11 практически мужской. Женского пола катастрофически не хватает. Дефицитные лаборантки быстро разобраны младшим научным составом. Причём особым успехом пользуется одна лаборанточка – селёдка в очках, надевшая по случаю банкета новенькое зелёное платье цвета крокодила. Те же, кому лиц противоположного пола не хватило, быстро допивают спиртное. Ищут, чего бы выпить ещё.
Потом разносится слух, что, по проверенным данным, в сейфе начальника административно-хозяйственного отдела (АХО) есть канистра со спиртом, выписанным для протирки очков и карандашей научных работников. «Боевая группа» устремляется в АХО, где долго и неистово ищут ключ от сейфа. Наконец ключ найден, канистра со спиртом доставлена в банкетный зал и наполовину оприходована. И тут слышится звон бьющейся посуды и истошные крики той самой селёдки в очках. Оказывается, два младших научных сотрудника, не сумев поделить девушку в зелёном, решили выяснить отношения кулаками. Дерущихся разнимают. Более агрессивного «мэ нэ эса» вяжут ремнями. Пострадавшего отправляют умыться и выгоняют вон. Безутешно рыдающую селёдку в очках и порванном крокодильем платье отправляют домой на личной машине Зельдовича. Ну а более трезвое и ответственное начальство банкет закрывает, грозясь вызвать милицию и охрану.
А на следующий день с утра ещё не очень протрезвевших научных работников собирают на рабочее собрание. Выступает академик Игорь Тамм и уже безо всякой дипломатии режет правду-матку. Испытания не просто неудачные, это катастрофа. Погибли люди. Радиоактивное заражение ужасающее. Три четверти заражения от всех проведённых испытаний пришлось на эту последнюю бомбу. После чего заявляет следующее: «Мы все безработные. Надо искать новые пути».
Ну а слегка потом, спустя не знаю сколько времени, выходит Сахаров со своей новой идеей, которую спустя годы окрестили «третьей идеей». Вообще-то третья идея на самом деле была идеей номер один товарища Берии, которая заключалась в том, что «никакой самодеятельности. Воруем то, что плохо лежит». Хватаем за хвост американскую мечту.
А вы знаете, читатель, в чём состоит так называемая американская мечта? Американская мечта – это иметь домик в приятном нэйборхуде (добрососедство, в переводе) и миллион долларов на банковском счету. Но существуют преграды к осуществлению этой самой американской мечты.
Работает, скажем, в каком-то секретном месте некий талантливый молодой учёный, получая при этом зарплату в три тысячи долларов в год. Тут не надо быть гением, чтобы сосчитать, что до осуществления его американской мечты следует ждать тридцать лет и три года. И при этом ни на что не тратиться. То есть не есть, не пить и злачные места не посещать. Но вот посещать всякие злачные места молодой учёный любит, и вот как-то раз знакомится он в стриптиз-клубе с неким мистером Гонзалесом, представившимся испанским бизнесменом, но говорящим при этом с подозрительным русским акцентом.
И вот мистер Гонзалес предлагает решить все проблемы с американской мечтой быстро, в течение одного месяца. А на прощание – в качестве сувенира – дарит удивительную зажигалку. Нажмёшь на кнопочку, и можно сигарету прикурить. Но переведёшь какой-то потайной рычажок, и можно фотки делать – жены, детей. Но лучше – того, что у талантливого научного работника на столе лежит. Ну что, товарищи читатели, скажете? Быть такого не может? Может! Из первых рук, можно сказать, осмелюсь доложить. Правда, не моих, а моей жены Ирины. Она тут в одном психиатрическом госпитале работает. Приходил к ней как-то на приём один шпион-мудило. Зажигалочку, как водится, получил в виде презента. Но с конструкцией её не разобрался. Повернул не той стороной и нафотографировал самого себя. А потом эту вот зажигалочку ещё и потерял. Уборщица (клининг-леди, как уважительно именуют эту профессию в Америке) зажигалочку нашла и снесла куда следует. Представляю себе, как цэрэушники-то веселились! Вообще-то ничего страшного не случилось. Получил срок, отсидел, вышел, пишет мемуары, лечится от головы.
Но это так, к слову. Но по поводу третьей идеи. Ой, как прав был Лаврентий Берия! С фотками и документиками дело пошло гораздо быстрее. Всего только два года спустя после неудачного испытания первой советской водородной бомбы РДС-6 была построена вторая, уже настоящая водородная бомба РДС-37. Она была сброшена с самолета и рванула над полигоном Семипалатинска 22 ноября 1955 года с силой три мегатонны, продемонстрировав всем… ну, если не величие советской науки, то, по крайней мере, тот факт, что водородная бомба в Советском Союзе есть.
Я уже предвижу, что некоторые читатели начнут со мной дискуссию на тему того, что мы и сами с усами. На этот аргумент у меня есть парочка контраргументов.
Контраргумент номер один.
Бананы в КБ-11 не завозились и, следовательно, не на чем было там поскользнуться и вот так прийти к идее рентгеновских лучей. Естественно, вы понимаете, что это шутка.
Контраргумент номер два, уже посерьёзней.
В США между моментами, когда Улам изложил свою идею, и когда первое термоядерное устройство размером в трёхэтажный дом было готово, прошло два года. Потом ещё два года ушло на то, чтобы устройство это миниатиризировать настолько, чтобы оно приобрело размеры авиационной бомбы. При этом у американцев был в распоряжении первый в мире компьютер ЭНИАК. Не говоря уже об американской промышленности, технологии и огромном финансировании. В Советском Союзе же – ну прямо чудо. Как говорится, «раз – и на матрас». Меньше двух лет, и на тебе – готовая водородная авиабомба. Так что есть о чём задуматься. Впрочем, ещё несколько лет спустя в Советском Союзе взорвали самую мощную за всю историю гонки вооружений «Царь-бомбу» – мощностью 50 мегатонн, закрепив за собой первенство по мощности термоядерного взрыва.
Ну а потом? Десятки лет бессмысленной гонки вооружений, завершившейся развалом Советского Союза. Впрочем, как говорится, это уже совсем другая история.
Ну а напоследок ещё – маленькая справка. Англичане, естественно, тоже делали водородную бомбу. Поначалу их преследовали неудачи, но в 1958 году они подорвали настоящую водородную бомбу мощностью три мегатонны. Франция сделала бомбу 10 лет спустя, в 1968 году. Индия не сумела сделать водородную бомбу, тест 1998 года окончился неудачей. Больше тестов не проводилось. Америка очень сильно давила на Индию, угрожая серьёзными санкциями.
Ну и, по-видимому, вы немного удивитесь, когда узнаете, что нищий, безграмотный Китай, коим он был в 60-х годах, успешно испытал первую атомную бомбу в 1964 году, и лишь три года спустя, в 1967 году, – самую настоящую водородную бомбу. Загадки, собственно, здесь нет никакой. В период большой дружбы с Китаем Никита Хрущёв распорядился передать всю документацию на атомную и водородную бомбы младшему брату. Более того, советские специалисты ударно трудились на строительстве ядерных реакторов и прочей инфраструктуры, необходимой для создания бомб. Далее, как известно, великий кормчий Мао рассорился со своим старшим братом. И уже в 1969 году заявил о себе провокацией на острове Даманском. Теперь можно разговаривать на равных, помахивая при этом Н-бомбой.
Послесловие
После ухода из Лос-Аламоса Эдвард Теллер был надолго вовлечён в горькую дискуссию, кто же был всё-таки отцом, кому должны достаться лавры отца водородной бомбы. Ганс Бете, руководитель теоретического отдела Лос-Аламоса, в шутливой форме разрешил этот спор. Отцом, конечно же, был Улам. Он бросил семя. Эдвард Теллер был матерью, который выносил ребёнка. Я же был акушеркой, который роды принял.
В дальнейшем непростой и неуживчивый характер Теллера сказался ещё неоднократно. Он вступил в конфликт со всеми физиками на слушаниях по делу о лишении допуска Роберта Оппенгеймера к атомным секретам. Он, единственный из всех физиков, выступил против своего коллеги и учителя, отца атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. В дальнейшем Теллер работал и преподавал в различных университетах Калифорнии, вёл общественную жизнь. Неоднократно бывал в Израиле, вероятно, консультируя в вопросах атомного оружия.
Ещё в далёкие 70-е годы Теллер предупреждал правительство об опасности глобального потепления. Настойчиво предлагал использовать ядерную энергию в промышленности. Умер Эдвард Теллер в возрасте 95 лет в Стэнфорде.
Станислав Улам постепенно уходит в научную и преподавательскую деятельность. Ещё во время работы в Лос-Аламосе он становится профессором Гарварда и Массачусетского технологического института. После ухода из Лос-Аламоса занимается исключительно математикой, не отвлекаясь на мирские проблемы. Умер он в возрасте 73 лет в городе Санта Фе.
Яков Зельдович проработал в том самом закрытом КБ-11 (впоследствии – Арзамас-16) до 1963 года. Затем вернулся в Москву. Преподавал, занимался наукой. Интересы его научной деятельности всё больше и больше уходили от проблем земных, насущных. Исследовал отдалённые космические объекты, квазары, чёрные дыры. За что и получал признание, премии, награды, приглашения на вполне земные симпозиумы и конференции. Избирался почётным членом множества иностранных академий. Но и не был забыт советским руководством. Осыпан звёздами Героя Соцтруда, орденами и медалями. Скончался в Москве в возрасте 73 лет.
Андрей Сахаров будто бы прожил две абсолютно разные жизни. В молодости он был очень неприятным типом – карьеристом, не брезгующим тем, чтобы подсидеть своих учителей Зельдовича и Харитона. Был он, что говорится, могуломвойны. Бегал к Хрущёву с предложением разместить вдоль побережья Соединённых Штатов водородные бомбы, угрожать империалистам всё это подорвать и смести с лица земли всё западное побережье США. А потом что-то в нём словно переключилось. Неожиданно он стал гуманистом и диссидентом. О наследии Сахарова можно много спорить, но тем не менее следует признать, что он был смелым человеком, не прятавшимся за свои заслуги, за россыпью звёзд, отдавшим всё за идею. Андрей Сахаров скончался в Москве уже после начала перестройки, в 1989 году, в возрасте 68 лет.
На фотографиях: Теллер, Улам, Зельдович, Сахаров
Кто вы, академик Сахаров?
Как бы получше выразиться, но феномен Сахарова ставил в тупик всех. И нас, продвинутых кухонно-диванных политиков-экономистов, и весь советский народ, всегда и безоговорочно поддерживающий решения партии и правительства, и даже политических обозревателей, призванных понятными словами донести народу те самые решения. Вспомним хотя бы самого крутого политического обозревателя СССР Юрия Жукова. Он имел ответ на любой, даже самый заковыристый, вопрос. Скажем, некий тракторист совхоза «Красный Октябрь» задаёт вполне конкретный политический вопрос: «Почему мы до сих пор не бросили атомную бомбу на Америку? Сколько можно терпеть их империалистические выходки?». На этот счёт у Юрия Жукова всегда был простой и понятный народу ответ: «Видите ли, уважаемый товарищ, в Америке проживают не только богатеи и буржуи, но также представители угнетённого рабочего класса, который как раз-то и пострадает от нашей бомбы».
Просто, понятно, доходчиво. Но в случае с академиком Сахаровым терялся даже лучший советский политический обозреватель Юрий Жуков. Ну как можно ответить на такие вот совершенно законные вопросы:
– Почему академик Сахаров имеет две квартиры – одну в Москве, другую в Горьком (Нижний Новгород)? Коли выделена вне очереди квартира в городе Горьком, то московскую следует отобрать!
– Почему академик не работает, но получает охренительную зарплату в 500 рублей – при том, что у нас на водку не хватает?
– Откуда у Сахарова берутся продукты? Никто в очередях в «Гастрономе» его не видел. Значит, в то время, когда простой советский труженик сражается в очередях за кило колбасы, продукты Сахарову носят на дом?
Совершенно верно. Крыть нечем. И потому приходится лучшему советскому политическому обозревателю мямлить насчёт советского гуманизма и ещё чего-то совершенно неубедительного. Собственно, даже у нас, диванных аналитиков и кухонных политологов, возникала куча вопросов. Действительно, почему наше КГБ так долго возится с нашим любимым диссидентом и гуманистом? Почему его, по примеру иных диссидентов, не сдали в психиатрическую лечебницу с диагнозом «острая шизофрения на почве преклонения перед буржуазным строем»? Или ещё проще – обширный инфаркт и торжественные похороны в колонном зале Академии наук СССР.
Действительно, как говорится, без бутылки не разберёшься. Впрочем, и с бутылкой – подавно. Выпитая в пылу политических дискуссий на кухне водка совершенно ничего не прояснила. И лишь спустя многие годы, уже после появления интернета и высыпавшейся оттуда информации, все как-то потихоньку сложилось. Как-то объяснились казавшиеся раньше несуразности. Так что разрешите, читатель, мыслями моими и находками с вами поделиться.
Начать историю и пояснить феномен Сахарова следует, пожалуй, с самого первого дня появления Андрея Сахарова на свет. Почему? Просто история и биография Сахарова в сильной мере отражают эволюцию страны – от революционного катаклизма 1917 года вплоть до её окончательного распада в 1991 году.
Итак, с годом рождения Андрею Сахарову повезло. Он сразу попал в счастливое детство, не ощутив вихрей и прочих неприятностей революции, доставшихся на долю его родителей. Родственники и предки Андрея Сахарова к рабочему, а также крестьянскому классу отношения не имели. Выражаясь ленинским языком, гнилая интеллигенция – дворяне, священнослужащие. Короче, все те, кого в бурные революционные годы без особых сомнений ставили к стенке. Но не поставили. Как-то уцелели Сахаровы.
К 20—30-м годам весь этот бардак с революцией, НЭПом и прочим кончился. Родители будущего академика стали советскими служащими, заняли приличные должности и более-менее решили свои материально-денежные вопросы. Во всяком случае, семья Сахарова жила относительно богато, но честно. Папина должность профессора физики в Московском университете оплачивалась неплохо. И хоть не имели они возможности купить мечту маленького Андрюши – мотоциклет, тем не менее каждое лето снимали они дачу в Подмосковье. Как признавался потом Сахаров, дачные воспоминания были самыми приятными из всего детства. Потом детство и отрочество прошли. Настала юность, время окончания советской школы с вопросом «кем работать мне тогда, чем заниматься».
Собственно, никаких метаний у юного Сахарова не было. Он был хорошим, правильным мальчиком, к тому же абсолютно аполитичным. Не интересовали его всякие гуманитарии, театры, политика и тому подобное. Нравилась ему физика и пошёл он по стопам отца. Поступил на физический факультет Московского университета. Учился он прекрасно. Был лучшим или, по крайней мере, одним из лучших студентов.
Лето 1941 года ничего не подозревающий и мало разбирающийся в политике Андрюша Сахаров встретил студентом-третьекурсником физического факультета. Как вспоминает Сахаров, в тот самый знаменательный день пришёл он в университет. Обычная консультация перед важным экзаменом. История партии или что-то в этом роде. Одним из каверзных на будущем экзамене был вопрос: «Носит ли договор о ненападении и дружбе с Германией конъюнктурный или принципиальный характер?».
На что, естественно, следовало отвечать: «Принципиальный, поскольку отражает глубинную близость позиций. Русский и немецкий народы имеют общие интересы, культуру, историю».
Тему можно было развивать и дальше в том же ключе. Но в этот день развить тему не дали. Завели в большую аудиторию и зачитали послание Молотова о начале войны, заканчивающееся словами: «Наше дело правое, мы победим».
Но до победы надо было ещё дожить. Ещё шагать и шагать. И самое главное – не ясно, чем помочь, что делать. Собственно, от нечего делать являлись в университет – пережёвывать непонятные слухи и новости, чтобы потом разойтись восвояси и на следующий день прийти снова. Однажды, правда, их построили, скомандовали: «Комсомольцы, шаг вперёд!». Вышедших отправили на рытьё окопов. Андрей Сахаров комсомольцем не был и тем самым первые неприятности с неразберихой избежал.
Вернувшиеся спустя несколько дней девушки рассказывали, что ребят забрали в какие-то добровольческие отряды на фронт, а одного из ребят там же свои и расстреляли – якобы за невыполнение приказа. Ничего не поделаешь. Война. Шутки в сторону. Ну а потом пришёл приказ: университет эвакуируется. А университет – это не только учебники и преподаватели. Студенты тоже относятся к университету. Лучшие студенты – особенно. А Сахаров как раз и был лучшим. Всё было просто и обыденно. Нашёл свою фамилию в списках. Собрал вещички и – на вокзал. Так что зря на Сахарова «катили бочки» советские патриоты да учёные-общественники. Липовых справок он не предоставлял, от армии не «отмазывался». Так вот с эвакуацией и получилось.
Ехали долго, очень долго. Как там питались? У эвакуированных поинтересуйтесь, если найдёте кого в живых. Кипяток на вокзале и бесплатное, без карточек, жидкое картофельное пюре на воде, если достанется. Слава богу, местное население по привычке приносило на вокзал продавать какие-то продукты. Прочие приключения с эвакуацией, а их обычно много, пропустим. Остановимся в Ашхабаде, куда был эвакуирован университет.
Приехали, разместились, обжились. Местное население с ужасом взирало, как приехавшие студенты горстями лопают шелковицу. Местные шелковицу не ели, считая её сорняком, отравой. Приятные дни в приятном месте бегут быстро. Ашхабад, райский уголок. Хоть и не сильно сытно жилось на студенческих карточках, но рацион можно было пополнить яблоками с бесхозных яблонь и шелковицей.
Учёба у Андрея Сахарова заканчивается в соответствии с ускоренным выпуском в июне 1942 года. Госэкзамены, распределение. И вот новоиспечённый специалист по новоиспечённой специальности «Оборонное металловедение» готов к труду и обороне. Сахаров вспоминает, что ему предложили аспирантуру. Но Андрей отказался, полагая, что во время войны надо делать что-то полезное, а не учиться.
Далее Сахаров попадает в город Ульяновск на патронный завод. Как водится, главный инженер, мгновенно поняв, что толку от молодого специалиста не будет, отправил его на лесозаготовки. Всё как положено – по известным законам советской экономики, даже и во время войны. Вскоре лесозаготовки Сахарова кончились весьма прозаическим способом. Поранился, заболел, услали обратно со словами «на хрен таких хлюпиков присылать, которые даже топор в руках держать не умеют». Так что пришлось главному инженеру все-таки подыскивать место на заводе для юного специалиста.
Ставят его младшим технологом в заготовительный цех. Что это за работа, можно лишь догадываться, но понятно, что нечто весьма тяжёлое. Одиннадцать часов смена, далее – быт-житие в бараке с трехъярусными нарами. Отоваривание карточек. Неотоваренные пропадают, а стоять в очереди на отоваривание времени нет. Вши, холод, антисанитария, замёрзшие лужи мочи перед общежитием. Впрочем, всё это описывается не для того, чтобы вызвать сострадание, а лишь для того, чтобы современный читатель представлял себе то, что часто называют «отсиживался в тылу».
Впрочем, даже здесь, в жутких условиях, Сахаров делает попытки применить свои знания и сообразительность на благо Родины. Увидев, каким ужасным способом проводится контроль качества продукции, Сахаров решает внести свою научную лепту. Отправившись на заводскую свалку, он находит там всяческую дрянь – остатки разбитых измерительных приборов, магнитики, проводки. Короче, он знал, что ищет. И затем самостоятельно конструирует некий прибор, который определяет бракованную продукцию.
Учитывая, что контроль качества продукции проводился именно на глазок (молоденькие девочки с острыми глазками рассматривали изломы бронебойных патронов), изобретение Сахарова имело исключительное значение для завода. Сахаров был награждён премией – трёхмесячной зарплатой, а также возможностью работать над своим изобретением уже в заводской лаборатории – место, более подходящее Сахарову, чем заготовительный цех. Народ там поинтеллигентней и расписание повольготней. Девушки неподалёку – лаборанточки симпатичные. Так что складывается всё один к одному, когда провозглашают: «И тут пришла к Андрею Сахарову большая любовь».
А собственно, как тут не прийти. Молодые мальчики захаживают к молодым девушкам-лаборанткам. К тому же, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А в те голодные времена – особенно. Тогда обыкновенный пирожок с картошкой значение имел большее, чем бриллиантовое колье для какой-нибудь арабской принцессы.
Девушка Клава была из куркульской семьи. «Куркульской» по тем понятиям означало, что жила она с родителями в собственном доме с собственным огородом, который во многом решал продовольственные проблемы. Могла девушка Клава для своего ухажёра пирожок испечь или картофелину сварить. Потом гуляния под луной и не под луной в свободное от работы время. Потом Андрей приходит в гости к родителям девушки Клавы, помогает вскапывать огород. И ещё через месяц Клава Вихирова и Андрюша Сахаров, взявшись за руки, бегут через васильковое поле в местный загс. Здесь их без особых проволочек объявляют мужем и женой.
Брак, естественно, был неравным – и с точки зрения сахаровской тёщи, и впоследствии с точки зрения свекрови, матери Андрея Сахарова. Ну что может быть общего между москвичом, потомственным интеллигентом, сыном профессора Андреем Сахаровым и семьёй недобитых кулаков из-под Ульяновска? Тёща невзлюбила Андрея Сахарова с первого дня, с которого он въехал в дом своей жены. И в самом деле, что хорошего можно ожидать от хлюпика, который и ведро-то помоев не может из избы вынести, не расплескав. Малограмотная бабёнка, не читавшая в жизни ничего кроме Библии, особенно ненавидела Сахарова за заумные книжки, которые он таскал в дом: Стендаль «Красное и черное», Стейнбек «Гроздья гнева». Короче, тьфу, позорище. С тестем же отношения были дружеские.
Ну, собственно, так установилась и потекла жизнь Андрея Сахарова. Вполне возможно, что дожил бы так вот Андрюша Сахаров до конца войны, получил бы какое-нибудь повышение, потом хрущёвку-двушку в ульяновской новостройке. И так дотерпел бы до заслуженной пенсии бывший москвич, а ныне – ульяновец Андрей Дмитриевич Сахаров. Так бы и шли мир и один из его представителей, Андрей Сахаров, параллельно, но каждый – своим путём. Но тут происходит одно незначительное событие, которое вытащило Андрея Сахарова из болота на вершину и сделало из сахарова – САХАРОВА.
Папа Андрея Сахарова, обеспокоенный судьбой сына и имеющий желание вытащить его в люди, проводит некую изыскательную работу и узнаёт, что у академика Игоря Тамма есть место в аспирантуре. Тамма он знает лично и потому отправляется к нему на аудиенцию, где и рекомендует своего сына. Были ли иные кандидатуры у Игоря Тамма, неизвестно, но выбор его всё-таки падает на младшего Сахарова. Как вы понимаете, такая штука как блат работает всегда и везде. А во время тяжелых испытаний – особенно хорошо.
Впрочем, я совершенно не собираюсь утверждать, что Андрей Сахаров этого места не заслуживал. Заслуживал, ещё как. И впоследствии с лихвой доказал это. И вот в декабре 1944 года приходит Андрею Сахарову вызов в Москву в аспирантуру. Наконец можно проститься с Ульяновском, опостылевшим патронным заводом и дорогой тёщей. Наконец можно почувствовать себя мужчиной, главой семьи, а не съёмщиком угла в тёщиной избе.
И вот 12 января 1945 года Андрей Сахаров отправляется в Москву. Беременная на девятом месяце Клава должна приехать к нему в Москву после рождения ребёнка. Далее встречают его родители ночью на вокзале. Утром, по окончании комендантского часа, везут к себе в комнатушку: большая довоенная трёхкомнатная квартира разбомблена немцами. И вот выясняется, что тот самый квартирный вопрос становится для Андрея Сахарова по-настоящему критическим. Жить с женой и новорождённой дочкой у родителей невозможно. Найти комнату, которую бы сдали семье с ребёнком, тоже практически невозможно. На постой пускают какие-то не совсем светлые личности, часто пытающиеся получить деньги вперёд, а потом выгнать постояльцев. Ну тут хоть пригождается кулацкое происхождение девушки Клавы – умение постоять за себя. Впрочем, умение постоять за себя в отношениях со свекровью оказывает совершенно противоположный результат. Отношения Клавы с матерью Сахарова испорчены навсегда. Однажды, по воспоминаниям Сахарова, им сильно повезло. Они сняли маленький домик у полковника ГБ. Как бы по блату, по рекомендациям. Но радоваться неожиданному счастью пришлось недолго. На следующий день в отсутствие Андрея Сахарова явился некий человек в погонах и предложил Клавдии сотрудничать с органами – писать доносы на своего мужа. Не очень интеллигентная девушка Клава послала человека в погонах куда подальше. После чего чете Сахаровых опять пришлось подыскивать очередную комнатку для проживания.
«А к чему всё это описывается?» – задастся вопросом благодарный читатель. Знаем, что тяжело было всем, и Сахаровы не исключение.
Совершенно верно, отвечу я вам. Описываю я всё это потому, что каким-то чудным образом вся эта катавасия с квартирами и гэбистами оказала прямое влияние на судьбу Сахарова и всю будущую атомную программу Советского Союза. Ну а как, узнаете слегка погодя. А пока вернёмся к быту и работе Сахарова в ФИАНе (Физический институт Академии наук) у академика Тамма.
Тридцатые, сороковые, пятидесятые годы прошлого столетия – это расцвет теоретической физики, когда учёные всерьёз хотели добраться до основ мироздания – трёх слонов и той самой черепахи, на которой покоится мир. Появлялись и исчезали теории, методы. Вокруг них кипели страсти, шли научные споры. И это было в те самые послевоенные годы. И Сахаров с головой окунулся в эту оптимистичную атмосферу споров, дискуссий, открытий, в которой можно было хоть ненадолго забыть о тяжестях жизни, о хлебе насущном.
Как обычно пишут учёные-биографы: в 1947 году Андрей Сахаров блестяще защитил кандидатскую диссертацию. По-моему, словосочетание «блестяще защитил» – это абсолютная бессмыслица. И я сейчас поясню почему.
Был у меня один знакомый. Работал он на одном телефонном заводе в некоей биологической лаборатории. Был он весьма деятельным человеком. Приходил к начальству со всяческими предложениями по повышению производительности труда. В частности, внедрил новшество: в сборочном цеху целый день играли тихую приятную музыку, что, как оказалось, благотворно влияло как на настроение работников, так и на качество производимой продукции. Изобретение своё он оформил в виде диссертации с неким названием типа «Влияние русских народных песен на улучшение качества производства телефонных аппаратов». Ну а дальше начинается блестящая защита, начинающаяся с печатания диссертации на особой меловой бумаге, добываемой по блату. Характеристики от месткома, профкома, печатаемые на особой глянцевой бумаге. Нахождение оппонентов в Москве, коих надо будет отблагодарить. А также следует не забыть членов учёного совета. Ну и венец всему – роскошный банкет в лучшей гостинице города, да с таким столом, да с такими яствами, что кремлёвские бонзы позавидуют. Так вот это вот называется блестящей защитой.
У Сахарова всё было много проще. У него просто была отличная диссертация. А иной в аспирантуре у академика Игоря Тамма и быть не могло. А вот блестящей защиты не получилось. За неделю до защиты диссертации, на экзамене по марксистской философии, Сахаров сказал что-то, чего не следует, или, наоборот, не сказал того, что следует. После чего защиту диссертации перенесли на полгода. Но ничего, не страшно. Диссертацию защитил, был принят на работу в ФИАН в качестве младшего научного сотрудника.
Всё замечательно – диссертация, работа, любящая жена, дети. Говоря словами Мальчиша-Кибальчиша, живи и радуйся. Возможно, так и прожил бы Сахаров всю жизнь, двигаясь вперёд в своей научной карьере от младшего научного сотрудника к старшему. От кандидата к доктору. От работника теоретической лаборатории до заведующего теоретическим отделом. И ушёл бы на пенсию, и выращивал бы цветочки на даче никому не известный заведующий теоротделом А.Д. Сахаров. Но судьба опять распорядилась иначе.
В последних числах июня 1948 года Игорь Тамм с таинственным видом попросил остаться после семинара Сахарова и ещё одного своего ученика. Плотно закрыв двери, Тамм объявил, что Постановлением Совета министров в институте создаётся особая группа. Задача группы – проверка и уточнение расчётов, ведущихся на секретном объекте. Впоследствии Сахаров узнал, что причиной включения младшего научного сотрудника Сахарова, не имеющего никакого отношения к ядерным и термоядерным исследованиям в группу, проверяющую расчёты учёных, создающих термоядерную бомбу, послужил всё тот же набивший всем оскомину квартирный вопрос. Директор института, академик Вавилов сказал Тамму: «У Сахарова очень плохо с жильём. Надо его включить в группу. Тогда мы сможем ему помочь». Сама же группа в ФИАНе был создана по приказу главного атомного начальника Советского Союза Лаврентия Берии.
Вы ничего не слышали о роли Лаврентия Берии в советском атомном проекте? Вам задурила голову талантливая советская пресса словами «Курчатов, Курчатов, Курчатов…». Да, был такой Курчатов, да, сделал он немало. Но роль его в создании атомного оружия оказалась сильно преувеличена в угоду вымарать из истории две другие личности – Лаврентия Берию и Юлия Харитона.
В свое время Капица назвал Берию дирижёром, который дирижирует оркестром, не зная партитуры. Это правда, что в руках у Берии была не дирижёрская палочка, а большая дубина, и руководил он именно ею, не разбираясь в деталях. Такие вещи, как управление советской разведкой, создание огромных подразделений из учёных, работа сотен тысяч зэков на строительстве атомных объектов, были под силу только Берии.
Второй человек, которого я упомянул, это Юлий Харитон. Наш, свой, советский Оппенгеймер (отец американской атомной бомбы). Глава КБ-11 – того самого места, где создавалась первая советская атомная бомба.
Здесь же, в КБ-11, трудился Яков Зельдович – начальник теоретического отдела КБ-11. Несколько слов о Якове Зельдовиче. Родился в Минске в 1914 году. Никогда не получал высшего образования, но был принят в аспирантуру Института химической физики. В 1943 году за работы в теории горения и взрывов был удостоен Сталинской премии, которую ему вручал лично Сталин. С 1948 года работал в КБ-11 над созданием ядерного и термоядерного оружия. Итак, роль Зельдовича понятна. Не очень ясна другая загадка: при чём тут особая группа в ФИАНе и молодой научный сотрудник А.Д. Сахаров?
Всё тут просто. То, что атомную бомбу построить можно, американцы уже доказали успешными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. В возможности создания термоядерной (водородной) бомбы уверенности не было. То, чем занимался Яков Зельдович, – это изыскания в области термоядерных реакций. А вот главный атомный начальник Берия не доверял никому. Всё так же ему мерещились кругом вредители и шпионы. Потому и была создана специальным постановлением специальная группа в ФИАНе, в задачу которой входило читать отчёты Зельдовича, проверять и перепроверять его выводы и расчёты. Сахарову же очень льстило, что ему доверили работу проверять корифеев. Нравилась (как он сам писал в воспоминаниях) обстановка секретности и даже всякая бюрократия, сему сопутствующая: утром – в секретный отдел, получать там секретные материалы с пронумерованными страницами и ключ от секретной комнаты. Сидеть там, корпеть над формулами, расчётами и писать заключения, соглашаясь или не соглашаясь с признанными учёными.
Вот так, потихонечку, течёт время. Утром на работу, вечером с работы. Завтра – копия вчера, послезавтра – копия сегодня… Но вот приходит черёд русской бани. Нет, не какой-нибудь особой парной для действительных членов и не членов Академии наук СССР. Нет, приходит черёд обыкновенного московского банно-прачечного комбината номер 72. Сюда регулярно ходил на еженедельную помывку младший научный сотрудник ФИАНа Андрюша Сахаров. Ну вот стоит в очереди за входным билетиком Андрюша Сахаров, думает о чём-то своём, перебирает в уме последние отчёты Зельдовича, перетирает свои мысли, и вдруг – хлоп! – и нарисовалась в голове Сахарова конструкция водородной бомбы. И вот на следующий день с утра бежит Сахаров на работу к своему руководителю, академику Игорю Тамму, обсуждать свою идею. Далее Игорь Тамм советует пойти пообсуждать свою идею в Институт физических проблем к Ландау. Далее, пообсуждав тему у Ландау, он бежит обсуждать свою идею ещё куда-то, потом ещё к кому-то …
Андрюша Сахаров был по своему характеру человек очень заводной и увлекающийся. Самокритики у него был ноль, общительности – хоть отбавляй, язык за зубами держать не умел. А зря…
А вот помните историю с жильём и полковником ГБ? Я ведь этот случай не зря упомянул. Если тогда уже пытались уговорить Клаву стучать на своего мужа, то можете представить себе, сколько кругом было стукачей и нештатных сотрудников ГБ? Представили? Правильно! Каждый второй. Так что отстукивается наверх телега, донос по-простому: «Сахаров знает, как сделать водородную бомбу». Благодаря особой важности сей информации, письмо доходит аж до товарища Берии, который и распоряжается принять нужные меры.
И вот Андрюшу Сахарова и его руководителя Игоря Тамма вызывают к некоему товарищу Ванникову, заместителю товарища Берии. Наговорив Сахарову массу комплиментов, Ванников быстренько переходит к делу. Предлагает Сахарову перейти в их ведомство. Большого желания у Сахарова переходить в сие ведомство нет. Тамм тоже не хочет расставаться со своим любимым учеником. Поэтому Игорь Тамм начинает вести речи о том, что и на своём месте в ФИАНе Андрей Сахаров сможет принести огромную пользу науке. Причём, по воспоминаниям Сахарова, академик Тамм настолько волновался, что произнёс слова «пользу науке», а не «советской науке», что было в те крутые времена непростительной ошибкой. Ванников же слушал монолог Тамма с иронической улыбкой.
И в этот момент зазвонил правительственный телефон – вертушка. Ванников как-то сразу напрягся и схватил трубку. Далее Сахаров слышал лишь отдельные фразы Ванникова: «Да, товарищ Берия… Да, у меня… Что делают? Думают, сомневаются… Хорошо, Лаврентий Павлович! Передам непременно!».
Далее, положив трубку и слегка успокоившись, Ванников сказал: «Только что звонил товарищ Берия. Он очень вас просил принять наше предложение».
Да, умел же пошутить Лаврентий Павлович. Так что вопросы принципиальные превратились в вопросы сугубо технические. Свернуть свои дела, запереть комнатку на ключ здесь и далее уже оформить дела и получить ключи от квартиры там. Там, как вы, читатель, догадались, было то самое место – КБ-11. Симпатичненькое место за двумя рядами колючей проволоки. Место, где создавалась советская атомная бомба.
Первая поездка в КБ-11 была чисто ознакомительная, дабы прочувствовать всю атмосферу секретности, увидеть воочию это таинственное место, познакомиться с людьми. Впоследствии с ними пройдёт Сахаров по всей своей жизни.
Первый раз приезжает Сахаров в КБ-11 примерно за месяц до испытания первой советской атомной бомбы. Встречает его Яков Зельдович. Встречает очень хорошо. Извинился, что не может уделять Сахарову больше времени и водить его на рабочие собрания: «Это не вольница института теоретической физики. На собрания приходят лишь те, кто должен там быть. Всем остальным – не ходить куда не нужно, не болтать и не спрашивать. Ну а по поводу вашего проекта, товарищ Сахаров… Конечно же, вам карты в руки, вы у нас теперь главный по термояду. Ну а мы будем тут недалече, помогать вам будем, за спиной у вас постоим, если не возражаете…».
Вы, читатель, наверное, слегка удивились этим странным отношениям. То есть Яков Зельдович – лауреат Сталинской премии, глава теоретического отдела КБ-11, имеющий колоссальный опыт, массу работ в теории атомного ядра, вдруг ни с того ни с сего отдаёт бразды правления какому-то молокососу, недавно защитившему диссертацию, не имеющему ни малейшего понятия в вопросах атомной энергии и вообще придумавшего какую-то бредятину, стоя в очереди в московской бане. Странно, скажете вы. Это сейчас вам странно. А тогда странно не было.
Дело в том, что положение Зельдовича очень напоминало историю Ходжи Насреддина. Помните, как Ходжа Насреддин пообещал султану за 30 лет научить осла говорить человеческим голосом? На замечание друзей, что ему, Насреддину, теперь несдобровать и султан непременно отрубит ему голову, Насреддин успокоил всех: «За 30 лет кто-нибудь да умрёт – или я, или султан, или осёл».
Чувствуете параллели? Султан – это товарищ Берия, Насреддин – это Зельдович, а осёл – это та самая водородная бомба, термоядерная реакция, запустить которую – это всё равно что научить говорить осла. Причём 30 лет Зельдовичу на сей проект никто отводить не собирался. Султан