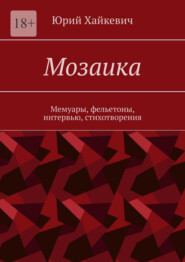скачать книгу бесплатно
Мозаика. Мемуары, фельетоны, интервью, стихотворения
Юрий Хайкевич
В этой книге писатель и журналист Юрий Хайкевич делится воспоминаниями об интересных событиях, размышлениями о жизненных ситуациях. Мемуары, эссе, очерки и фельетоны изложены ярким литературным языком, а стихотворения придают тексту ажурность. Ещё представлена беседа со звёздами эстрады, проведённая некогда автором книги по журналистской линии.Порядок размещения разножанровых произведений подобран так, чтобы внимание к повествованию сохранялось до последней страницы. Скучать точно не придётся!
Мозаика
Мемуары, фельетоны, интервью, стихотворения
Юрий Хайкевич
© Юрий Хайкевич, 2023
ISBN 978-5-0056-0284-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Жизнь состоит из множества запоминающихся моментов, которые отличаются настроением, силой воздействия и прочими уникальными особенностями. Некоторые события несут полезный опыт или яркие эмоции, но также могут быть основой для размышлений о несовершенстве мира и поиске способов улучшить окружающую действительность. А если реальных впечатлений вдруг перестаёт хватать, всегда имеется возможность создать мир воображаемый.
Но неправильно было бы только фиксировать в сознании ценную информацию. Ведь она может представлять интерес для значительного количества людей. Поэтому, обладая некоторыми способностями перевода в общедоступные формы своих воспоминаний и размышлений, я решил поделиться ими с читательской аудиторией. Придать материалу дополнительный вес призваны интересные соображения, некогда высказанные мне знаковыми представителями культуры.
Суть осмысленных и прочувствованных событий передана различными литературными способами, чтобы максимально точно расставить акценты. Творческая переработка собственных эмоций, конечно, обозначила между строк гамму чувств и личное отношение автора книги к содержанию каждого её фрагмента. В результате получился взаимосвязанный набор разнородных произведений – своеобразная мозаика, передающая значительную часть моей духовной сущности. Надеюсь, что от прочтения останется приятное послевкусие.
Встреча на стыке веков
Музыкальная диаспора
Когда-то наши семьи дружили. Родители отдыхали в Доме творчества ВТО, находившемся в Плёсе; там и познакомились со звёздной супружеской парой. Сошлись на почве музыки, но не только – да мало ли было общих интересов у молодых, талантливых, творческих людей!
Среди историй с того отдыха, рассказанных отцом, мне запомнилась одна. Как они вчетвером катались на машине Аллы Иошпе и Стахана Рахимова по окрестностям Плёса. В какой-то момент, приблизившись к большой луже, Алла, находившаяся за рулём, резко вывернула на встречную полосу, едва не столкнувшись лоб в лоб с грузовиком. Скрупулёзно объехав злополучный водоём, певица вырулила обратно. На шокированные возгласы моих родителей Стахан с переднего сиденья смиренно заметил: «Она эту лужу всегда так объезжает».
Потом общение перенеслось в Москву. Ходили в гости, посещали концерты. Но круговорот наших собственных семейных событий отодвинул прочие жизненные аспекты на дальний план. Перестали выходить на связь и Иошпе с Рахимовым; сохранилась только их пластинка с дарственной надписью родителям, которую я очень любил, временами переслушивая отдельные песни.
И вот у меня остались позади школа с институтом. Незадолго до окончания века, в девяносто девятом, не стало отца. Через год после этого, под влиянием ностальгических мыслей я решил разузнать, куда делись музыкальные друзья нашей семьи. Ходили слухи, что они давно в эмиграции, а отыскать контакты практически невозможно. Никаких публикаций на эту тему тоже найти не удалось. Но всё же я сделал попытку и позвонил в «Москонцерт». Выяснилось, что концертное объединение «Эстрада» этой легендарной организации возглавляет Стахан Мамаджанович Рахимов!
Дальше всё происходило стремительно. Редакция одной дружественной газеты с удовольствием согласилась напечатать материал о дуэте, а затем моя мама, в соответствии с хронологией знакомства, первой позвонила героям грядущей публикации.
Мы довольно быстро договорились о встрече и вскоре вчетвером пили чай в квартире Иошпе и Рахимова. Особой духовной близости уже не ощущалось, но вопрос об их тогдашнем внезапном исчезновении буквально слетел с наших уст. Оказалось, что история с отъездом из страны вовсе не была придумана. Её подробности прояснились в процессе беседы, которая естественным образом началась с описания истоков этого семейного музыкального феномена, несколько десятилетий не имевшего аналогов на нашей эстраде.
Алла Иошпе: Я была больной девочкой. Мама приглашала учителей домой. В те времена я уже тянулась к пианино и постоянно ходила к соседке играть. Тогда же сочинила свою первую песню, естественно, в тональности «до минор».
Стахан Рахимов: А со мной занимались педагоги, у которых ещё училась моя мама. Она, кстати, хотела видеть меня инженером. И я пошёл тогда по этой стезе. По поводу музыки же она говорила, что, если бог дал, консерватория не имеет значения. Мама оказалась права.
А.И.: Мать Стахана Шаходат Рахимова была известной певицей, исторической личностью, легендой. Она упоминается во многих энциклопедиях. Так что Стахан – из артистической семьи, и с детства он уже появлялся на сцене и за кулисами. В отличие от меня.
С.Р.: Это была целая команда: моя мать, Тамара Ханум, Назира Ахмедова, Мукаррам Тургунбаева, позже основавшая ансамбль «Бахор»… В общем, семь-восемь женщин, которые впервые сняли паранджу и вышли на сцену. Мама прошла всю войну, её почитала советская власть. Жили мы в Ташкенте. Отец был известным тенором, одним из лучших, как тогда говорили, «аршин мал аланов» – на этом спектакле когда-то прославился Рашид Бейбутов. А бакинцы специально приезжали в Андижанский театр музыкальной драмы слушать моего отца.
А.И.: Коли речь зашла о родителях, расскажу и о своих. Папа был личностью неординарной, человеком удивительной энергии, любви к людям, весёлым, бодрым, вокруг него всё кипело и улыбалось. Стахан его очень любил. Ещё мальчиком отец пел в хедере – еврейской школе – с хором, а, став юношей, играл короля Лира в самодеятельности. По натуре был артистом и всё актерское во мне – от него. В любой организации папа всегда поднимался не выше заместителя директора, вроде «еврея при губернаторе». А мама устроилась медицинским работником, но отец её от работы отлучил и посадил в дом. Она была просто красавицей, любимицей семьи. Кстати, характером я похожа на отца.
– А внешностью – на маму?
А.И.: Возможно…
– Как произошла ваша встреча с будущим супругом?
А.И.: Познакомились мы как конкуренты.
С.Р.: На конкурсе профсоюзов высшей школы, где выступали самодеятельные артисты из университетов и институтов со всего Союза. Вот на заключительном концерте в Колонном зале мы и встретились.
А.И.: Когда Стахан позже решил на мне жениться, его мама была в обмороке.
С.Р.: А твои родители?
А.И.: Они тоже пришли в ужас. Когда-то за мной ухаживал цыган, но чтобы узбек!
С.Р.: За тобой ухаживал цыган? Это что-то новое для меня…
А.И.: Речь сейчас не об этом… Так вот, мама говорила, что узбеки – народ опасный, любят иметь много жён. А я взяла и рискнула. К тому времени Стахан был сложившимся человеком.
– И популярным артистом?
А.И.: Больше талантливым, а это для меня важнее. Известными мы стали рука об руку. Но тогда в своей студенческой диаспоре его уже знали.
С.Р.: Слово «диаспора» употребляют применительно к национальности, а студенчество – само по себе нация. Мы не считались тогда ещё профессионалами: я – из МЭИ, Алла – аспирантка МГУ. Самодеятельность во времена существования худсоветов использовалась только по случаю. Но мы были достаточно популярны.
А.И.: Тогда уже существовал Студенческий эстрадный театр МГУ, из которого появились Аркадий Арканов, Григорий Горин, Семён Фарада. Там же был Гена Хазанов. Мы со Стаханом стали частью этого театра. И многие уже знали, что есть такая студенческая команда. Убойные номера следовали один за другим. А стоило это, конечно, дешевле, чем приглашать профессиональных артистов. Позже все участники нашего коллектива стали известными людьми.
С.Р.: Марк Розовский, Альберт Аксельрод, Илья Рутберг, Саша Филиппенко. Такие вот «шестидесятники».
– Как образовался ваш творческий тандем?
А.И.: Просто влюбились друг в друга и запели! Отсюда всё пошло. Наш дуэт когда-то назвали «штучным товаром». В начале карьеры, как и многие артисты, мы имели достаточно врагов. Потом нас начали буквально расхватывать.
С.Р.: В шестьдесят седьмом году мы, наконец, стали профессиональными артистами. Что не помешало Алле защитить диссертацию! Посыпались приглашения в различные коллективы: Московский мюзик-холл, оркестр Рознера, оркестр Лундстрема.
– На кого вы ориентировались в своём творчестве?
А.И.: Поскольку я много болела, для меня огромное значение имели книги и пластинки. Очень любила Клавдию Ивановну Шульженко. Она всегда ассоциировалась с чем-то белым, нарядным, как красивые круглые наклейки на пластинках! Я представляла себе совершенно не тот образ, который позже увидела. Но её мастерство вызвало удивление и восторг.
С.Р.: А я начинал учиться на «итальянщине». Моими кумирами были Беньямино Джильи, Тито Гобби, Энрико Карузо. Я очень любил такой вокал. Потом уже появился Марио Дель Монако…
А.И.: Для меня всегда главными были музыкальность и актёрский образ, а для Стахана – вокальное искусство.
С.Р.: Я также любил Восток – это Мохаммед Абд Эль-Ваххаб и Радж Капур. У меня – природная склонность к музыке, к мелодии. А когда мы познакомились с Аллой, стал уделять не меньшее внимание и текстам, и сюжету.
Возвращение после забвения
– Репертуар вашего дуэта всегда состоял из песен разных народов и стилей.
С.Р.: В советские времена мы очень много гастролировали. Поэтому исполняли песни и европейские, и латиноамериканские, и африканские. Для каждой страны делали свою подборку.
А.И.: А я бы сказала иначе…
С.Р.: Как обычно, в отличие от узбека… Вечно ты отвечаешь по-другому!
А.И.: Просто у нас не всегда хватало хорошего материала, где присутствовали и мелодия, и сюжет – чтобы была возможность создать драматургию. Мы долгое время не входили в «первый эшелон», который получал самые лучшие произведения, поэтому искали песни на стороне. Потом уже композиторы разобрались, что к чему, для нас стали писать Эдуард Колмановский, Марк Фрадкин, Ян Френкель. Мы со Стаханом всегда были очень придирчивы.
С.Р.: Даже случалось, что уходили с записи. Кто-то давал нам песню. И вот приходим в студию, уже сделана аранжировка, сидит оркестр. Делаем один дубль, второй и начинаем понимать, что песня не подходит.
А.И.: Других дуэтов тогда не существовало. И материал для нас приходилось готовить специально. Это тоже было большой проблемой. Мы и сейчас иногда берём песни, которые раньше никто вдвоём не пел, и переделываем под дуэт. Например, романс «Только раз бывает в жизни встреча».
С.Р.: Мы никогда не были придворными певцами. Из патриотических произведений в нашем репертуаре можно вспомнить только «Алёшу» Колмановского. Потому, что песня лирическая, мягкая…
А.И.: А «До свидания, мальчики» забыл?
С.Р.: После нашего исполнения этой песни чуть не уволили всю редакцию радиостанции.
– А что там могло не понравиться?
C.Р.: Коду мы сделали так, что мальчики всё идут, идут, идут до сих пор, а не только во время Великой Отечественной. И всё уходят и уходят. Это не понравилось художественному совету. Та же история была с песней «С чего начинается Родина».
А.И.: Её мы спели в форме вопросов и ответов. Я задавала вопрос – Стахан отвечал, Стахан спрашивал – я отвечала. Мы размышляли: с чего же всё-таки она начинается? Не утверждали, а размышляли. В нашей интерпретации не содержалось окончательного ответа. Стояло многоточие. А в ту пору надо было только утверждать.
С.Р.: Кстати, сегодня я смотрел кусок правительственного концерта, посвящённого Дню защитника Отечества, – один к одному программа времён Брежнева. Тот же позитивный, утверждающе-пугающий репертуар! А мягкого ничего нет. Только Лариса Долина спела лирическую песню. Да, мне нравится Газманов; он лирически патриотичен и очень естественен. Но сколько же можно петь «Господа офицеры»?! Для нас с Аллой всё это непостижимо. Не могли мы там быть никогда. И по-прежнему остались белыми воронами.
А.И.: Но всё-таки нас любили и понимали нашу ценность.
– Расскажите подробнее о причинах вашего решения уехать на постоянное проживание за границу.
А.И.: У меня имелись определённые медицинские проблемы, нерешаемые в Советском Союзе. Но не только это. Чтобы съездить на гастроли за рубеж, надо было пройти массу некомпетентных комиссий. Раздражало также неуважительное отношение к артистам. Например, титры фильмов, в которых мы пели, никогда не содержали наших имён! От многого свинства хотелось бежать… В семьдесят девятом году мы подали документы на выезд, а Стахан положил свой партбилет. Но нас не выпустили.
– И как это мотивировали?
А.И.: Говорили, что это было не в интересах государства.
С.Р.: А вторая формулировка звучала так: «Вы слишком много сделали для советского искусства, чтобы вами рисковать». И пояснили, что за границей, оказывается, убивают много наших людей. В общем, чушь какая-то.
А.И.: И вот мы со Стаханом – лирические исполнители, которые всегда пели о любви – остались одни, два отказника. Нам запретили выходить на сцену, не давали работать, уничтожили записи. Сотрудники радио и телевидения с риском для карьеры пытались сохранить хоть какие-то наши песни. Чем мы только ни занимались, чтобы выжить, даже развозили товары на машине…
– Кто-нибудь из известных людей вас тогда поддержал?
А.И.: В самом начале восьмидесятых мы получили приглашение от известного продюсера, нашего друга Эдика Смольного на украинский фестиваль. Чтобы можно было подработать и выступить перед зрителями. А ещё мы благодарны Иосифу Кобзону. Он дал возможность выйти на сцену, предоставив свой оркестр. Второй раз он помог, когда встал вопрос о первом нашем выезде за рубеж после нескольких лет отказничества.
С.Р.: Меня вызвали в партком. Иосиф тоже пришёл туда и произнёс решающее слово в нашу защиту. Мы это помним и до сих пор поддерживаем уважительные, добрые отношения.
– Сегодня жалеете о том, что когда-то не удалось уехать?
А.И.: Конечно, жалеем. Там бы мы всё равно не пропали.
С.Р.: Михаилу Шуфутинскому, Любе Успенской, Вилли Токареву очень помог их отъезд. Сейчас они вернулись и приняты как герои. А мы не смогли уехать и были отчасти забыты. Нет пророка в своём отечестве…
А.И.: У нас был большой перерыв, десять лет. Вы знаете, что такое оказаться преданными анафеме? Нас объявили врагами родины и партии. Мы до сих пор не восстановились полностью, потому что потеряли несколько поколений и выпали из тусовки. Иногда кажется, будто всё наладилось, но я не считаю это окончательным прорывом, так как мы отсутствуем на самых престижных концертах. Например, организуемых Аллой Борисовной Пугачёвой. А к наиболее рейтинговым передачам, вроде «Песни года», нас и близко не подпускают, хотя со своим по-прежнему уникальным жанром мы ни на чьи владения не претендуем. Пару лет назад мы в «Песню года» принесли «А самовар кипит…» Оскара Фельцмана. Все были в восторге, сказали, что песня полюбилась сразу же. Но… нас опять не взяли.
С.Р.: Отсутствие нашего дуэта и песен, написанных Оскаром Фельцманом, в программе на стыке веков – нарушение законов этики. Это оскорбительно и неуважительно по отношению к огромной массе телезрителей.
А.И.: Мы чисто по-человечески не ожидали такого ни от Крутого, ни от Эрнста. Очень обидно за Оскара Борисовича, который недавно отметил свой восьмидесятилетний юбилей, но даже в честь этого не попал на фестиваль «Песня года», как, впрочем, и последние несколько лет.
С.Р.: Это притом, что его песни – суперкласс и по стихам, и по музыке.
А.И.: Взгляните на программу фестиваля: все ли номера близки к уровню произведений Фельцмана?!
С.Р.: Раньше многое упиралось в политический аспект, теперь – в финансовый. Неужели отныне и вовеки всё будут решать только деньги?
– С радиостанциями похожая ситуация?
С.Р.: Полтора года назад мне позвонила сотрудница радиостанции «Маяк», где нас с Аллой прекрасно знают, и говорит: «Есть потребность, чтобы звучали ваши песни. Нужен новый материал». Я назначил свидание в «родном» Доме звукозаписи. Перед этим специально подбирал новые произведения. Скомпоновал на кассетах два часа чистого звучания. Чтобы просто подарить, хотя на запись песен мы потратили немалые собственные средства. Встретились, обрадовались друг другу после долгого перерыва, возобновлению сотрудничества. И тут слышу вопрос: «Какую песню ты хочешь, чтобы я раскрутила?» Говорю: «Весь материал, который здесь есть, мы с Аллой любим, поэтому выбирай для эфира, что тебе по вкусу. Ведь ты – редактор-профессионал». А она мне: «Ты не понял вопроса. Всё стоит денег». Оказывается, я должен был заплатить, чтобы определённая песня прозвучала.
А.И.: Ну и зря не заплатил.
С.Р.: Нет уж! Я принёс двухчасовой материал, сделал им подарок. Это наши деньги, пот, кровь, талант. И ещё надо платить за эфир? В общем, разговор был закончен. Но буквально через два дня встретился другой редактор и просто попросил дать наш материал. А это уже совсем иная постановка вопроса.
А.И.: Артисту важно присутствовать на телеэкране и в радиоэфире. Для этого сейчас нужны деньги. Но даже статья в газете или журнале может принести результаты, если будет очень интересной или скандальной.
Концертные концепции
Во время общения после столь долгого перерыва при всём добродушии собеседников сразу бросился в глаза их особый менталитет. Не советский и даже не российский. Алла Иошпе и Стахан Рахимов привыкли рассчитывать только на свои силы. Видимо, поэтому многие высказанные мысли отличались твёрдостью, отражавшей принципиальные взгляды на жизнь.
С.Р.: Часто наши современные исполнители – не хочу их обидеть, они, возможно, поступают искренне – искусственно нагнетают ситуацию: развод, скандал, изменение имиджа. Это всё к нам с Аллой не относится. И ещё. Многие пользуются в своих шоу сумасшедшими эффектами: дымами, лазером, светом, танцевальными группами. А мы поём «натурально». Вот в прошлом году на сцене концертного зала «Россия» состоялся юбилейный вечер, посвящённый тридцатипятилетию нашей творческой деятельности. Конечно, репетировали со звукорежиссёром. А потом подошёл светорежиссёр и спросил: «Где ваша световая партитура?» Мы ответили: «Сначала послушайте исполнение. И очень просим: не отвлекайте от нас зрителей».
А.И.: Когда-то нам захотелось персонального режиссёра. У всех же они были. Мы пригласили Леонида Викторовича Варпаховского, замечательного театрального режиссёра, Народного артиста РСФСР. Он сел, стал нас слушать и… заплакал. И говорит: «Вам не нужен режиссёр. Всё уже в вас самих!»
С.Р.: Мы не против использования спецэффектов, но только когда всё делается неназойливо и корректно. А лишнее мелькание подчас настолько рассеивает восприятие, что перестаёшь слышать голоса и понимать, о чём хочет поведать исполнитель.
А.И.: Но многим из них только этого и надо!
С.Р.: Раньше мы работали на телевидении так. С разных сторон ставились две камеры. Безжалостные, всё видящие насквозь. Не должно было падать никаких теней. Абсолютная неподвижность. И, хотя появлялись мы на экране телевизора только раз в год, нас запоминали, начинали узнавать.
А.И.: Вкус идёт, прежде всего, от деликатности. Виктор Шендерович сказал на нашем юбилейном концерте: «Алле и Стахану аплодируют за то, что они пели, а не за то, что закончили петь».
– Когда ощущался пик популярности вашего дуэта?
А.И.: Сейчас.
С.Р.: Именно теперь чувствуется востребованность. Люди нам верят. Может быть, потому, что мы никогда не обманывали их надежд.
– У вас бывает на концертах молодёжь?
А.И.: Больше – среднее поколение.