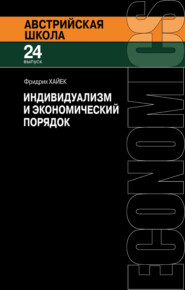скачать книгу бесплатно
Индивидуализм и экономический порядок
Фридрих фон Хайек
Австрийская школа #24
Книгу «Индивидуализм и экономический порядок» составили экономические и политико-философские работы одного из крупнейших мыслителей XX века, выдающегося экономиста, лауреата Нобелевской премии Ф. А. Хайека (1899 – 1992). Написанные в 30 – 40-е годы, они стали классическими и во многом определили развитие современной экономической и социальной теории. Название сборника связано с одной из ключевых для творчества Ф. Хайека тем: почему некоторые версии философского индивидуализма оказываются несовместимы с идеалами свободного общества, прокладывая свободу тоталитаризму? В книге представлены знаменитые статьи о социалистическом планировании, в которых вскрывается теоретическая несостоятельность различных моделей социализм – от «классической» К. Маркса до «рыночной» О. Ланге, а также анализ рынка как информационной системы, которая способна координировать разрозненные знания, рассеянные среди миллионов незнакомых друг другу людей.
Фридрих фон Хайек
Индивидуализм и экономический порядок
Свободный ум в несвободную эпоху
Фридрих Август фон Хайек (1899 – 1992) – лауреат Нобелевской премии, лидер неоавстрийского направления в экономической науке, критик социализма и кейнсианства, продолжатель традиций классического либерализма, один из крупнейших социальных мыслителей XX столетия – вряд ли нуждается в представлении[1 - Краткий биографический очерк см. в статье: Капелюшников Р. Философия рынка Фридриха фон Хайека // Мировая экономика и международные отношения. 1989. №12.]. Многие его книги и статьи переведены на русский язык, его концепции активно обсуждаются отечественными философами, социологами, экономистами. Более того, его имя то и дело всплывает в спорах по проблемам текущей политики. (Сам Хайек, всегда сторонившийся политической злобы дня, был бы, вероятно, немало этим удивлен.)
Чем объяснить такое небезразличное, пристрастное отношение к его наследию? Дело, скорее всего, в хайековской сосредоточенности на исследовании глубинных основ современного общества. Когда фундамент, на котором стоит здание человеческого сообщества, прочен, внимание и усилия естественно переключаются на обустройство «верхних этажей». Но когда закладка нового фундамента еще не закончена, насущным становится осмысление опорных принципов социального бытия, и здесь трудно найти лучшего собеседника, чем Фридрих Хайек.
«Индивидуализм и экономический порядок» (1948) – пятая крупная книга Хайека, выходящая по-русски[2 - Хайек Ф. А. Общество свободных. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1991; Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992; Хайек Ф. А. Дорога к рабству. М.: Экономика, 1993; Хайек Ф. А. Частные деньги. М.: Институт национальной модели экономики, 1996. [См. также: Хайек Ф. А. Контрреволюция науки. М.: ОГИ, 2003; Хайек Ф. А. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005; Хайек Ф. А. Право, законодательство и свобода. М.: ИРИСЭН, 2006; Хайек Ф. А. Цены и производство. Челябинск: Социум, 2008; Хайек Ф. А. Судьбы либерализма: очерки об австрийской экономической школе и идеале свободы. М.: ИРИСЭН, 2009.]]. В ней собраны его «малые произведения» 30 – 40-х годов – статьи, лекции, доклады. Это был нелегкий период в жизни ученого, когда из чистого экономиста-теоретика он все больше превращался в социального философа, работающего на пересечении многих дисциплин. Смена основной сферы деятельности далась ему нелегко и сопровождалась растущим отчуждением от профессионального сообщества экономистов. Тогда же левой интеллигенцией Запада он был предан анафеме за «Дорогу к рабству» (1944), где прослеживались общие корни тоталитарных идеологий – нацизма и коммунизма.
Постепенная переориентация научных интересов Хайека нашла отражение в сборнике «Индивидуализм и экономический порядок». Вошедшие в него работы относятся к различным отраслям знания: политической философии, эпистемологии, методологии науки, экономической теории; в некоторых из них рассматриваются практические предложения по усовершенствованию отдельных звеньев общественного механизма. Однако все они, как предупреждает в предисловии автор и как вскоре убедится сам читатель, исходят из общего взгляда на природу сложных человеческих сообществ.
Открывает сборник статья «Индивидуализм: истинный и ложный» (1945). Хайек производит здесь своеобразный смотр основополагающих принципов и ценностей «классического либерализма», таких как верховенство права, частная собственность, федерализм, демократия и др. Необходимо напомнить, в какое время была написана эта работа.
Период между Первой и Второй мировыми войнами, особенно 30-е годы, по праву можно считать эпохой затмения либерализма. Первая мировая война, а затем Великая депрессия нанесли по нему такие удары, после которых, казалось, он уже никогда не оправится. Отступление от традиций либерализма шло по всему фронту – как в сфере теоретической мысли, так и в сфере практической политики. Господствовало убеждение, что капиталистическая система доказала свою экономическую несостоятельность и моральную ущербность и что будущее за централизацией, сознательным планированием, всепроникающим государственным контролем. Классический либерализм воспринимался как достойный осмеяния старомодный пережиток, всеобщее увлечение тоталитарными идеологиями оставляло мало надежд на выживание свободного общества.
Неоднозначное воздействие на состояние умов было оказано Второй мировой войной. С одной стороны, она наглядно показала, к чему приводит полный отказ от либеральных ценностей в попытках переустроить общество по тоталитаристским схемам. С другой стороны, неизбежное в условиях войны усиление контроля государства над экономикой порождало иллюзию, что это и есть ключ к решению всех проблем будущего мирного времени.
В этот критический момент выбора путей мирной жизни Хайек счел своим долгом напомнить об общих принципах, лежащих в основе современной цивилизации, начать трудную работу по реабилитации и обновлению либерального символа веры. В качестве общего обозначения отстаиваемой им политической философии он избирает термин «индивидуализм». Но на какую традицию в истории мысли следовало бы опереться защитникам идеи свободы в середине XX века? Чтобы ответить на этот вопрос, Хайек берется за «расчистку корней», выявляя родословную двух несовместимых подходов, известных под одним и тем же именем.
«Истинный индивидуализм» он возводит к идеям Дж. Локка, Б. Мандевиля, Д. Юма, А. Смита, А. Фергюсона, а в XIX веке относит к его ведущим представителям А. де Токвиля и лорда Актона. «Ложный индивидуализм» он связывает с традицией, восходящей к Декарту и воспринятой затем физиократами, энциклопедистами и Руссо. (Важно отметить, что утилитаризм И. Бентама и «ревизионистский либерализм» Дж. Ст. Милля Хайек также выводит, хотя и не полностью, за пределы «истинного индивидуализма».)
По Хайеку, разделительная черта между двумя типами индивидуализма пролегает в вопросе о природе основополагающих общественных институтов: являются ли они непредвиденным результатом взаимодействия множества людей или продуктом чьего-то сознательного замысла, вырастают спонтанно или создаются по заранее вычерченным схемам? Согласно одному подходу, свобода деятельности индивидов не только не противоречит возникновению «порядка» в обществе, но сама является его источником. Согласно другому, «порядок» в обществе может создаваться только сверху, сознательными усилиями конструирующей его власти. В конечном счете различие позиций связано с неодинаковой оценкой интеллектуальных возможностей человека: смирению «истинного индивидуализма», признающего неизбежную ограниченность человеческого разума, противостоит гордыня «ложного индивидуализма», верящего в неограниченную мощь человеческого интеллекта и считающего его способным переустраивать общество по собственному усмотрению (позднее Хайек обозначил такую установку как «конструктивистскую»).
Небольшая работа Хайека «Факты общественных наук» (1942), посвященная методологическим проблемам социальных дисциплин, отпочковалась от созданного им в годы войны фундаментального исследования «Контрреволюция науки»[3 - Перевод «Контрреволюции науки» готовится к выходу в свет издательством «Сatallaxy». [См.: Хайек Ф. А. Контрреволюция науки. М.: ОГИ, 2003.]]. В ней он предстает как убежденный противник сциентизма – некритического переноса в обществознание методов естественных наук. Вопреки претензиям на «научность», показывает Хайек, сциентистский подход к социальным явлениям ведет к прямо противоположному результату – к персонификации таких целостностей, как «общество», «государство», «класс», которые начинают наделяться собственными потребностями, интересами и мотивами и изображаться так, как если бы это были самостоятельные живые существа.
Методологическим принципом, адекватным общественным наукам, Хайек считал принцип методологического индивидуализма, согласно которому любое социальное образование есть не что иное, как сеть взаимоотношений между индивидами, и не существует вне и помимо них. (Впервые этот принцип был отчетливо сформулирован К. Менгером, родоначальником «австрийской школы» в экономической науке.)
Еще одной мишенью хайековской критики становится историцизм – представление о том, что история человечества жестко «запрограммирована» на прохождение через строго определенную последовательность эпох, или стадий развития. (Одним из наиболее откровенных историцистов был, как известно, К. Маркс.) Хайековские рассуждения на эту тему было бы интересно сопоставить с «Нищетой историцизма» К. Поппера, которая была написана раньше, но публиковалась на английском языке почти одновременно с «Контрреволюцией науки»[4 - См.: Поппер К. Р. Нищета историцизма. М.: Путь, 1993. Двух ученых связывала тесная дружба. Именно по инициативе Хайека Поппер был приглашен в Лондонскую школу экономики. Их многолетнюю переписку предполагается опубликовать в одном из томов академического «Полного собрания сочинений Ф. А. Хайека».].
Ф. Хайек говорил в шутку, что за всю жизнь ему удалось сделать одно открытие и два изобретения. Своим открытием он считал концепцию рассеянного знания (он называл ее также концепцией разделения знания – по аналогии с концепцией разделения труда у экономистов-классиков)[5 - К своим «изобретениям» Хайек относил проект денационализации денег (см. ниже) и проект двухпалатного парламента особого типа. Верхняя палата такого парламента занималась бы законодательством в строгом смысле слова, устанавливая «правила справедливого поведения», по определению Хайека, в таких сферах, как гражданское право, уголовное право и др., тогда как нижняя ведала бы делами собственно государственного управления, выпуская необходимые «инструкции» по таким проблемам, как бюджет, оборона, внешняя политика и т.п. По мысли Хайека, такое разделение функций освободило бы законодательный процесс от искажающего давления корыстных групповых интересов.]. Первый ее набросок содержится в лекции 1936 г. «Экономическая теория и знание» (глава вторая настоящего сборника), а зрелая формулировка – в выступлении в 1945 г. перед Американской экономической ассоциацией «Использование знания в обществе» (глава четвертая). В них Хайек развивает представление о рынке как особого рода информационном устройстве, осуществляющем координацию знаний миллионов не знакомых друг другу людей. Чтобы подчеркнуть эту уникальную способность рынка, он называет его «телекоммуникационной системой».
По мысли Хайека, рынок обеспечивает синтез предельно конкретного знания с предельно абстрактным. Под первым понимается индивидуальное знание специфических условий времени, места и образа действий. Значительная часть такой информации неформализуема и невербализуема, не поддается выражению в словах или каких-либо иных символах. Оставаясь неявной, она воплощается в практических навыках и умениях, в опыте и мастерстве, в профессиональных приемах и привычках. Еще одна особенность «локального» знания – его быстротечность: многие благоприятные возможности, открывающиеся индивиду, существуют только здесь и сейчас, и, если ими не воспользоваться сразу же, они будут упущены навсегда. Но именно умение пользоваться уникальными возможностями времени и места предопределяет в конечном счете успех в любом деле, обеспечивает индивидуальные преимущества в производительности труда. Рынок создает условия для эффективного использования всего этого личностного знания, наделяя правом распоряжаться им самих его носителей.
Этого, однако, недостаточно. Нужно еще создать условия для координации разрозненных знаний, рассеянных среди множества индивидуумов, что невозможно без предоставления им обобщенной информации о состоянии всей системы. Сгустками такой абстрактной информации выступают цены. В сжатом виде они содержат сведения о предпочтениях, производственных возможностях и планах на будущее участников рынка, тем самым помогая каждому из них вписать свои конкретные специфические знания в общую систему разделения знаний. Хотя координация, достигаемая с помощью ценовых сигналов, далеко не безупречна, она осуществляется достаточно успешно, чтобы посчитать ее «чудом». Хайек намеренно прибегает к этому слову, чтобы подчеркнуть: никакой другой механизм – в том числе и механизм централизованного планирования – не способен дать результаты, обеспечиваемые рынком. По Хайеку, решающий аргумент в пользу капитализма является эпистемологическим: конкурентный рынок позволяет с большей эффективностью использовать больший объем знаний, рассеянных среди членов современного сложного общества, не имеющих, как правило, ни малейшего представления друг о друге, чем какая бы то ни было альтернативная система.
В «Смысле конкуренции» (1946) скрупулезному критическому анализу подвергается понятие «совершенной конкуренции», одно из центральных для неоклассической экономической теории. Характерному для неоклассиков представлению о конкуренции как об определенном состоянии Хайек противопоставляет выработанное «австрийской школой» понимание конкуренции как динамического процесса. По его замечанию, понятие «совершенной конкуренции», как это ни парадоксально, в принципе исключает всякую конкурентную деятельность. Теория «совершенной конкуренции», предостерегает Хайек, не только далека от реальности – очень часто она становится источником вредных практических рекомендаций (вроде требований обязательной стандартизации продукции и т.п.).
Намеченные в «Смысле конкуренции» подходы были развиты позднее в статье Хайека «Конкуренция как процедура открытия» (1968), где конкуренция трактуется как метод открытия, метод порождения новых знаний[6 - См.: Хайек Ф. А. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения. 1989. №12. [См. наст. изд. с. 378—393.]]. Приращение знаний в ходе конкуренции достигается не только потому, что благодаря ей производители открывают новые потребности, до сих пор никем не замечавшиеся, а потребители – новые способы их удовлетворения, ранее им не известные. Вдобавок экономические агенты узнают нечто новое и о самих себе: на что они реально способны по сравнению со всеми остальными (насколько лучше или дешевле они могут удовлетворять чьи-то потребности). Ситуация здесь аналогична ситуации в спортивных состязаниях. И это означает, что всякое искусственное ограничение конкуренции сокращает объем знаний, доступных обществу.
«„Свободное предпринимательство“ и конкурентный порядок» (1947) представляет собой вступительную речь, которой открылась первая встреча международного Общества Мон-Пелерин (по названию местечка в Швейцарии, где была организована эта встреча). Оно было создано по инициативе Ф. Хайека и объединило ученых и практических деятелей, озабоченных судьбами свободы в современном мире. В списке его членов такие имена, как К. Поппер, М. Полани, Ж. Рюэфф, М. Фридман, Л. Эрхард и др. Со дня основания до 1960 г. Ф. Хайек был председателем, а затем почетным председателем Общества.
Главная мысль хайековского выступления отчетливо выражена в его названии: защиту конкурентного порядка недопустимо сводить к идее «свободного предпринимательства», лозунгу laissez faire. В этом, по убеждению Хайека, состояла роковая ошибка либералов XIX века, ставшая причиной их поражений. Вместо того чтобы давать практические ответы на возникавшие перед обществом новые сложные вопросы, они ограничивались повторением общего положения о неприемлемости государственного вмешательства. Наступление государства, подчеркивает Хайек, можно остановить, только если сегодняшние либералы будут вырабатывать собственные рецепты преодоления трудностей, с которыми сталкивается современный мир. В своем выступлении он приводит внушительный список проблем, ждущих решения.
Прошедшие годы подтвердили дальновидность такого подхода. Кардинальные изменения в интеллектуальном климате современного общества, а затем и серьезные политические сдвиги произошли действительно именно тогда, когда начали активно разрабатываться и предлагаться новые, иногда неожиданные, практические решения, выдержанные в либеральном духе.
Драматичным эпизодом в истории экономической мысли XX столетия стала знаменитая дискуссия об экономическом расчете при социализме (the socialist calculation debate), одним из главных участников которой стал Ф. Хайек. Под его редакцией вышел сборник «Коллективистское экономическое планирование» (1935), для которого им были написаны вводная и заключительная главы. Позднее он откликнулся обширной рецензией (1940) на книги О. Ланге и г. Диккинсона, двух ведущих теоретиков «рыночного социализма». Эти хайековские работы образуют центральную часть «Индивидуализма и экономического порядка» (главы седьмая, восьмая, девятая).
Дискуссия о возможности «социалистического расчета» длилась несколько десятилетий, и здесь нет возможности проследить все ее повороты.
Проблема была поставлена в 1920 г. учителем Хайека Людвигом фон Мизесом, выдвинувшим тезис о невозможности рационального экономического расчета при отсутствии рынка и частной собственности на средства производства[7 - Mises L. v. Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen // Archiv f?r Sozialwissenschaften und Sozialpolitik. 1920. Vol. 47. No. 1.]. Пик полемики пришелся на 30-е годы. Вызов критиков социалистического планирования, Л. Мизеса, Ф. Хайека и Л. Роббинса, приняли г. Диккинсон, М. Добб, Э. Дурбин, О. Ланге, А. Лернер, Ф. Тэйлор и др. Поначалу большинство экономистов были склонны принять точку зрения критиков социализма, однако вскоре чаша весов склонилась на сторону их оппонентов. Возобладало мнение (перекочевавшее затем во все учебники), что тезис Мизеса был полностью опровергнут усилиями О. Ланге и его единомышленников.
Исходная критика социализма велась с позиций «австрийской школы» и была обращена против «классического» марксистского проекта плановой безденежной экономики[8 - Как показал Хайек в «Контрреволюции науки», истоки идеи всеобъемлющего централизованного планирования лежат в технократических фантазиях Сен-Симона, от которого она и была воспринята Марксом.]. Чтобы принимать рациональные экономические решения (то есть достигать наилучших результатов при наименьших затратах), необходимо, утверждал Мизес, знать цены: их он называл «помощниками ума». Без цен невозможна калькуляция прибылей и издержек, а значит, невозможно узнать, производится ли из того или иного набора ресурсов продукт, имеющий наивысшую ценность. «Где нет никакого рынка, – писал Мизес, – нет никакой системы цен, а где нет никакой системы цен, не может быть никакого экономического расчета». При отсутствии цен и общего знаменателя, в котором они могут быть выражены, общество обречено на «калькуляционный хаос». Опыт советского «военного коммунизма» стал своеобразным экспериментальным подтверждением этого тезиса. Вместо обещанного роста благосостояния безденежная, безрыночная экономика принесла нищету и разруху.
Последующая дискуссия прошла через несколько этапов, которые подробно прослеживаются Хайеком.
Большинство ортодоксальных марксистов оказались настолько наивны в теоретическом отношении, что просто не поняли, в чем суть доводов Мизеса[9 - Это, например, наглядно видно из дискуссии о безденежной экономике в советской литературе 20-х годов. См. блестящее изложение этой дискуссии у Л. Юровского: Юровский Л. Н. Денежная политика советской власти (1917—1927). Избранные статьи. М.: Начала-пресс, 1996.]. Они восприняли их как попытку доказать, что централизованное планирование невозможно физически. Это, конечно, недоразумение. Речь шла не о возможности или невозможности существования централизованного планирования как такового, а о другом: возможно или невозможно успешное централизованное планирование, превосходящее по эффективности рыночный механизм координации.
В результате миссия защиты социализма от австрийской критики перешла к экономистам-неоклассикам, отправным пунктом для которых служила модель общего равновесия Л. Вальраса. Принципиальное отступление от исходной марксистской схемы состояло в том, что они признали ключевую роль цен для рационального размещения ресурсов. Идея марксистов, что экономический расчет возможен при отсутствии денег – с помощью каких-либо натуральных измерителей (единиц энергии или часов труда), – была оставлена. Однако, по мнению экономистов-неоклассиков, функция цен могла бы успешно реализовываться – в иных формах – и при социализме. В таком случае социализм представал бы как более совершенная общественная система, поскольку, не уступая капитализму по эффективности, он в то же время был бы в состоянии обеспечить большее равенство в распределении доходов.
Историки экономической мысли выделяют два основных варианта ответа на тезис Мизеса. Первый – за ним закрепилось название «планометрического» – предполагал, что централизованное планирование способно «имитировать» действие рыночного механизма на бумаге. Равновесный набор цен, обеспечивающий оптимальное размещение ресурсов, может быть найден с помощью соответствующих математических моделей.
Второй вариант получил название «рыночного социализма». Это был еще один шаг назад от исходной марксистской схемы. Если на предыдущей стадии дискуссии защитники планирования признали «теоретические» достоинства рынка, вменив в обязанность плановым органам «имитировать» его работу на бумаге, то теперь они пошли дальше, допустив существование при социализме реальных рынков. Фактически предлагалась гибридная конструкция – с рынком, но без частной собственности. (Или, если точнее, с рынками потребительских товаров и труда, но без рынка капитала.)
Что касается производственных благ, то равновесные цены на них сторонники «рыночного социализма» предлагали устанавливать методом проб и ошибок – на манер вальрасианского аукционщика. Плановым органам предстояло назначать пробные цены, которые в течение установленного периода оставались бы неизменными, так что менеджеры социалистических предприятий принимали бы их как «данные». (В связи с этим О. Ланге писал о «параметрической функции цен».) Затем в зависимости от возникновения либо избыточного спроса, либо избыточного предложения они пересматривались бы в ту или иную сторону – и так до тех пор, пока в конце концов не «нащупывались» бы искомые ценовые соотношения.
Хайек вскрывает непонимание самой сути рыночного процесса, стоящее как за «планометрическим», так и за «конкурентным» решением. В основании его критики лежит концепция рассеянного (неявного) знания. При социализме, доказывает он, гигантский массив знаний, имеющихся у индивидуальных агентов, неизбежно останется невостребованным. Эта эпистемологическая ущербность, присущая социалистической системе, непреодолима.
«Планометрическая» схема несостоятельна прежде всего потому, что оставляет без ответа вопрос, каким образом всю соответствующую сумму знаний предполагается сосредоточить в центре. Ведь «имитация» работы рынка плановыми органами могла бы начаться только после получения всей необходимой для этого информации. Но важнейшая ее часть – это неявные, личностные знания. Такие знания по определению не поддаются формализации и передаче. Кроме того, для приспособления к постоянно меняющимся условиям необходимы оперативные решения. Но ни о какой оперативности не может быть и речи, когда информацию о происшедших переменах придется сначала передавать наверх, а затем ждать указаний, как действовать. Потеря времени будет означать потерю огромного количества благоприятных возможностей, требующих мгновенной реакции. Поэтому система всеобъемлющего централизованного планирования неспособна даже отдаленно приблизиться к результатам, демонстрируемым рынком.
Далеко не всеми этот аргумент был верно понят. Некоторые восприняли его так, будто речь шла не о невозможности рационального экономического расчета в условиях плановой системы, а о невозможности математических вычислений, которые понадобились бы для решения системы уравнений с астрономически большим числом неизвестных. В таком случае помочь делу могли бы дальнейший прогресс математики и появление сверхмощных компьютеров. Однако аргументация Мизеса и Хайека не была столь примитивной. По их мысли, плановые органы не были бы способны не то что решить, но даже составить искомую систему уравнений – из-за невозможности аккумулировать в центре все необходимые для этого «данные». Лишь видимость решения проблемы рассеянного знания, показывает Хайек, дает и модель «рыночного социализма».
Мизес и Хайек расходились с экономистами-неоклассиками прежде всего в понимании категории издержек, центральной для всей дискуссии. «Рыночные социалисты» видели в издержках объективно данную величину. Но в действительности оценки альтернативных издержек всегда субъективны и строятся исходя из индивидуальных представлений участников рынка об открывающихся благоприятных возможностях. Опираясь именно на такие субъективные ожидания и представления, предприниматели вступают в конкуренцию за право употребить часть ресурсов общества для реализации намеченных ими проектов. Важнейшее условие здесь – свобода установления цен на ресурсы, принципиально не допускавшаяся теоретиками «рыночного социализма». Но если предприниматель лишен возможности предложить за факторы производства, необходимые ему для осуществления новой идеи, более высокую цену, ресурсы не направляются туда, где отдача от них была бы выше, а остальные агенты так и не узнают о возросших альтернативных издержках их использования. В схеме «рыночного социализма» цены перестают быть эффективными «разносчиками» информации и оказываются не связанными с издержками, что делает невозможным рациональный экономический расчет.
Иногда складывается впечатление, что участники дискуссии говорили на разных языках. Критики социализма спрашивали: как в условиях плановой экономики на деле будут решаться задачи сбора, обработки и передачи информации, обобщение и координацию которой в условиях капитализма осуществляет конкурентный рынок? На это их оппоненты отвечали, что если бы такая информация была «дана» органам планирования и они были бы в состоянии мгновенно осуществлять расчеты любой степени сложности, тогда ничто не мешало бы принимать решения, не уступающие по эффективности рыночным. Затрудненность диалога во многом объяснялась тем, что защитники социализма мыслили в статической, тогда как его критики – в динамической парадигме. Однако в статических условиях проблема экономического расчета, как ее понимали Мизес и Хайек, вообще не встает. Она возникает только в динамических условиях, требующих постоянного приспособления к новым открывающимся фактам. Модель совершенной конкуренции, где нет неопределенности и все известно заранее, не оставляет места для экономического расчета и потому мало чем может помочь в анализе этой проблемы.
По существу, сторонники социализма из числа экономистов-неоклассиков доказывали, что с точки зрения эффективности не имеет значения, владеют ли средствами производства частные лица или государство: результат в обоих случаях будет примерно одинаков. Но свидетельствовало это только об одном: о неприменимости модели общего равновесия для оценки альтернативных институциональных установлений. По удачному сравнению современных исследователей, утверждать, исходя из предпосылок этой модели, что планирование не уступает по эффективности рынку, – все равно что утверждать, исходя из тех же предпосылок, что бартерная экономика не уступает по эффективности денежной[10 - Furubotn E. G., Richter R. Institutions and economic theory: an introduction to and assessment of the new institutional economics. Saarbrucken, 1995. P. 15.]. Предполагать такое можно лишь при игнорировании трансакционных издержек, сопровождающих действие разных экономических систем.
Едва ли случайность, что среди теоретиков общего равновесия так часто встречались экономисты, симпатизировавшие социализму, и даже убежденные марксисты. По-видимому, конструкция вальрасианской модели с центральной фигурой аукционщика, мгновенно рассчитывающего цены и доводящего их до сведения индивидуальных агентов, с легкостью совмещалась в их сознании с социалистическими схемами, где такое же центральное место отводилось государству. Дело предстает так, как если бы теоретики социализма решили, что метафора, содержащаяся в вальрасианской модели, поддается буквальному перенесению в жизнь.
Обе стороны вышли из спора о возможности «социалистического расчета» с ощущением своего выигрыша. Однако подавляющему большинству экономистов привычнее и ближе оказался способ мышления О. Ланге и других «рыночных социалистов», рассуждавших в терминах сравнительной статики. Они и были признаны победителями.
Потребовалось почти полвека, чтобы эта оценка была пересмотрена. До окончательного отказа от нее дошло только в 80-е годы, когда оставалось совсем мало времени до краха «реального» социализма. Сегодня правота Мизеса и Хайека в том давнем споре практически никем не ставится под сомнение[11 - См.: Vaughn K. I. Economic calculation under socialism: the Austrian contribution // Economic Inquiry. 1980. Vol. 18. No. 4; Murrell P. Did the theory of market socialism answer the challenge of Ludwig von Mises? // History of Political Economy. 1983. Vol. 15. No. 1; Lavoie D. Rivalry and central planning: the socialist calculation debate reconsidered. Cambridge, 1985.]. С этим вынуждены были согласиться даже те экономисты (вроде П. Самуэльсона), которые десятилетиями повторяли в своих учебниках вывод о победе теоретиков «рыночного социализма».
Много сил отдал Ф. Хайек борьбе с инфляционистскими тенденциями, под знаком которых прошел почти весь XX век. Особую тревогу вызвала у него ситуация, сложившаяся в 30-е годы в результате глубокого кризиса системы золотого стандарта. При всех его недостатках золотой стандарт достаточно жестко дисциплинировал поведение денежных властей отдельных государств. Какая альтернативная система могла бы справляться с этой задачей по меньшей мере не хуже или даже лучше него? Этой проблеме посвящена написанная в форме рецензии небольшая работа – «Резервная валюта с товарным обеспечением» (1943), где Хайек выступает за введение единой резервной валюты, основанной на товарном стандарте (глава десятая). Он подробно останавливается на преимуществах денежной единицы, стоимость которой поддерживалась бы неизменной по отношению к некоторому фиксированному набору товаров. Одновременный переход всех ведущих стран на такой стандарт обеспечил бы, по его мнению, стабильность международной валютной системы.
Позднее эта идея получила неожиданное продолжение в очерке Хайека «Денационализация денег» (1976), где она была дополнена экстравагантным, на первый взгляд, предложением: лишить государство монополии на денежную эмиссию[12 - Эта работа опубликована в издании: Хайек Ф. А. Частные деньги. М.: Институт национальной модели экономики, 1996.]. По замыслу Хайека, право на выпуск собственной валюты, основанной на товарном стандарте, следовало бы предоставить всем желающим частным банкам. Это не значит, что все они должны были бы эмитировать валюту одного наименования и выражать ее стоимость в одном и том же наборе товаров. Каждый эмитент был бы вправе выбрать наиболее предпочтительный с его точки зрения стандарт. В поливалютном мире выигрывал бы тот, кто добивался бы большей стабильности своей денежной единицы и выбирал более удачный товарный набор в качестве ее обеспечения: «хорошие» деньги вытесняли бы «плохие». В условиях конкуренции со стороны частных денег государству не оставалось бы ничего другого, как поддерживать стабильной стоимость своей собственной валюты, иными словами – избегать соблазна инфляции. Конкуренция налагала бы на денежные власти более жесткую дисциплину, которую, полагал Хайек, не в состоянии обеспечить ни золотой стандарт, ни монетаристское правило постоянного темпа прироста денежной массы.
Важным вкладом в разработку неоавстрийской теории экономического цикла явилась статья Хайека «Эффект Рикардо» (1942). Понятие «эффекта Рикардо» было введено в ряде хайековских работ 30-х годов, спровоцировавших оживленную полемику[13 - Hayek F. A. Prices and production. London, 1935. P. 69—100, 148—157 [Хайек Ф. А. Цены и производство. Челябинск: Социум, 2008. С. 80—119, 175—192]; Hayek F. A. Profits, interest and investment. London, 1939. P. 3—71; Hayek F. A. A comment // Economica. 1942. Vol. 9. Nov.]. Рассматриваемая статья построена как развернутый ответ критикам. Дискуссия на этом не завершилась: уже в 60-е годы она была продолжена Дж. Хиксом, что заставило вернуться к ней вновь и самого Хайека[14 - Hicks J. The Hayek story // Critical essays in monetary theory. Oxford, 1967; Hayek F. A. Three elucidations of Ricardo effect // Journal of Political Economy. 1969. Vol. 77. No. 2.].
Согласно его позднейшей формулировке, «эффект Рикардо» предполагает, «что в условиях полной занятости рост спроса на потребительские блага будет вызывать сокращение инвестиций, и соответственно наоборот». «Эффекту Рикардо» отводится важная роль в хайековской интерпретации экономического цикла: он призван объяснять высшую поворотную точку цикла – от подъема к спаду.
По представлениям «австрийской школы», бум запускается кредитной экспансией, в результате которой денежная норма процента опускается ниже его «естественной» нормы. Под воздействием этого ложного сигнала предприниматели начинают инвестировать больше, чем общество реально готово сберегать. Но, кроме того, падение процента меняет и относительную прибыльность различных видов и методов производства – в пользу наименее трудоемких. В результате предприниматели начинают больше вкладывать в более капиталоемкие проекты в ущерб менее капиталоемким (по австрийской терминологии, переключаются с менее «капиталистических» методов производства на более «капиталистические»).
Однако такое удлинение вертикальной структуры производства не может продолжаться долго. Переключение ресурсов на выпуск большего объема оборудования ведет к временному сокращению производства потребительских товаров и их удорожанию. Рост потребительских цен, опережающий рост денежной заработной платы, запускает «эффект Рикардо», и это кладет конец циклическому подъему: относительное удешевление труда дает толчок возвратному движению – от более к менее «капиталистическим» методам производства. Растущее отвлечение ресурсов на производство потребительских товаров не позволяет завершить многие начатые проекты, значительная их часть оказывается «зависшей». Предприниматели бросаются за дополнительными кредитами, вследствие чего норма процента идет вверх, восстанавливая равновесие между инвестициями и добровольными сбережениями. Капиталовложения и занятость сокращаются, экономика вступает в фазу спада.
Хайековский анализ «эффекта Рикардо» не был упражнением в чистой теории. Фактически он был ответом на идеи и практические рекомендации Дж. М. Кейнса. Из него следовало, что попытки лечить безработицу непрерывной подкачкой спроса рано или поздно натолкнутся на «эффект Рикардо», что кейнсианская политика, ставящая своей целью обеспечить непрерывный экономический рост при помощи стимулирующих мер государства, обречена на провал.
Главным оппонентом Ф. Хайека выступил Н. Калдор, ученик Кейнса, один из виднейших представителей «кембриджской школы». «Эффект Рикардо» он иронически переименовал в «эффект гармошки» (поскольку вертикальная структура производства должна растягиваться на одних стадиях цикла и сжиматься на других)[15 - Kaldor N. Professor Hayek and the concertina effect // Econimica. 1942. Vol. 9. Nov. Основной контраргумент Калдора состоял в том, что в случае превышения денежной нормой процента «естественного» уровня возрастет прибыльность всех методов производства, пусть одних в большей, других в меньшей степени. Поэтому предприниматели станут расширять выпуск всех видов продукции, а не только наиболее капиталоемких. Следовательно, те изменения в вертикальной структуре производства, которые предполагаются «эффектом Рикардо», происходить не будут.]. Вердикт, вынесенный профессиональным сообществом по поводу полемики об «эффекте Рикардо», как и в случае дискуссии об экономическом расчете при социализме, оказался неблагоприятен для Хайека: он был признан проигравшей стороной.
В 80-е годы эта оценка, до тех пор не менявшаяся, подверглась серьезной корректировке. Обнаружилось, что большинство оппонентов Хайека неадекватно воспринимали его аргументацию. Так, Калдор рассуждал в терминах сравнительной статики, тогда как Хайек пытался построить динамическую теорию переходного процесса от одного равновесного состояния к другому[16 - Garrison R. W. Hayekian trade cycle theory: a reappraisal // Cato Journal. 1986. Vol. 6. No. 2; Moss L. S., Vaughn K. I. Hayek’s Ricardo effect: a second look // History of Political Economy. 1986. Vol. 18. No. 4.].
Большинство историков экономической мысли оценивают хайековский анализ весьма высоко. Признается его теоретическая корректность. Отмечается также, что «эффект Рикардо» действительно мог играть решающую роль в развертывании некоторых циклических кризисов, хотя его и нельзя признать универсальным механизмом, объясняющим переход от подъема к спаду. Его действие может также выходить за рамки цикла. Так, в 70 – 80-е годы в странах Западной Европы опережающий рост реальной заработной платы по сравнению с ростом производительности труда привел к последствиям, о которых писал Рикардо: «вытеснению труда машинами» и соответственно сокращению занятости.
Сегодня подходы Ф. Хайека к изучению циклического движения экономики развиваются не только его непосредственными последователями, теоретиками неоавстрийского направления. По признанию некоторых представителей школы рациональных ожиданий, при разработке равновесной теории цикла они также во многом опирались на идеи Хайека, высказанные им в 30 – 40-е годы (на это, в частности, указывал лауреат Нобелевской премии Р. Лукас)[17 - Kim K. Equilibrium business cycle theory in historical perspective. Cambridge, 1988.].
В завершающей сборник статье «Экономические условия межгосударственного федерализма» (1939) Хайек обращается к обсуждению проблем интеграции. Основная идея работы – невозможность прочного политического союза без союза экономического. Многие из высказанных Хайеком соображений были реализованы при создании Общего рынка, многие сохраняют актуальность и сегодня, когда Европа стоит на пороге нового этапа интеграции.
Но эта работа интересна еще и тем, что она разрушает стереотип восприятия Хайека как мыслителя, погруженного в абстрактные материи и далекого от реальной жизни. Сам он также не переставал повторять, что заниматься политически возможным – дело практического политика; дело политического философа – открывать общие принципы, не слишком заботясь, готово ли общество принять сегодня его идеи. Однако последняя глава сборника «Индивидуализм и экономический порядок» представляет один из тех примеров, когда Хайек прямо обращается к обсуждению проблем практической политики, и у нас есть возможность оценить, насколько трезвым и реалистическим оказывается его подход, насколько живым и некнижным – понимание человеческих интересов и устремлений.
Пожалуй, настоящая книга позволяет увидеть разного Хайека лучше, чем любая другая его работа. Абстрактного мыслителя сменяет разработчик вполне конкретных практических предложений, экономиста-теоретика – виртуозный полемист, историка идей – проницательный политический наблюдатель, методолога науки – убежденный защитник идеалов свободного общества. При этом он неизменно сохраняет независимость от мнений большинства, от давления академической среды, от господствующих увлечений эпохи.
Интеллектуальная мода никогда не имела над ним власти, чего не скажешь о многих и многих его современниках, с готовностью отдававшихся общему течению. Возможно, это самый последовательный «иконоборец» нашего времени. Ведь Фридриху Хайеку довелось противостоять практически всем главнейшим поветриям XX века: социализму, национализму, кейнсианству, идеологии «государства благосостояния». Расплачивался он за это годами забвения и почти полного одиночества. Внутренняя свобода, позволившая ему остаться непобежденным и способствовать глубинным сдвигам в интеллектуальном ландшафте конца столетия, в полной мере ощутима и в этой книге, приходящей к российскому читателю ровно через полвека после того, как она впервые увидела свет.
Предисловие
На первый взгляд может показаться, что очерки, собранные в настоящей книге, посвящены далеким друг от друга темам. Однако, я надеюсь, читатель быстро обнаружит, что в большинстве из них рассматриваются проблемы, тесно связанные между собой. Несмотря на широту охвата – от моральной философии до методов общественных наук и от проблем экономической политики до чистой экономической теории, – обсуждаемые вопросы трактуются в большинстве очерков как различные аспекты одного главного предмета. Эта связь наиболее очевидна в первых шести из них, однако последующие три – об экономическом расчете при социализме – можно в какой-то мере рассматривать как приложение тех же идей к конкретной проблеме, хотя во время написания я еще не воспринимал их именно в таком свете. Только последние три очерка касаются несколько иных моментов теории или политики. Поскольку я уверен, что затронутые в них проблемы будут обсуждаться в будущем шире, чем до сих пор, я воспользовался возможностью представить их в более доступной форме.
Не так давно я опубликовал более популярную книгу по проблемам, связанным с некоторыми из рассматриваемых здесь. Поэтому мне хотелось бы честно предупредить, что настоящее издание не предназначено для общедоступного чтения. Только часть включенных сюда работ (главы I и VI, а также, возможно, IV и V) можно в каком-то смысле считать дополнением к тому предварительному наброску вполне определенных практических выводов, который, побуждаемый чувством безотлагательности, я опубликовал под названием «Дорога к рабству». Остальные, безусловно, адресованы собратьям-ученым и носят достаточно специальный характер. Все они, должен признаться, представляют собой фрагменты – промежуточные результаты, появлявшиеся во исполнение одного моего дальнего замысла и призванные временно служить вместо конечного продукта. Следует, вероятно, добавить, что из своих недавних публикаций в той области, к которой относится большинство глав данной книги, я не включил сюда две серии статей «Сциентизм и изучение общества» и «Контрреволюция науки», поскольку они предназначены для более крупной и систематической работы. Однако их можно найти в соответствующих выпусках журнала «Economica» за 1940 и 1941 – 1945 гг.
Приношу благодарность редакторам «American Economic Review», «Economica», «Economic Journal», «Ethics» и «New Commonwealth Quarterly» за разрешение перепечатать статьи, впервые появившиеся в этих журналах, а также издательству George Routledge & Sons, Ltd., London за разрешение воспроизвести два очерка, вошедших ранее в сборник «Collectivistic Economic Planning», опубликованный в 1935 г.
Ф. А. Хайек
Лондонская школа экономики
Глава I
Индивидуализм: истинный и ложный[18 - Двенадцатая финлеевская лекция, прочитанная в Университетском колледже, Дублин, 17 декабря 1945 г. Опубликована: Hodges, Figgis & Co., Ltd., Dublin, and B. H. Blackwell, Ltd., Oxford, 1946.]
Из восемнадцатого столетия и революции, как из общего источника, вышли два течения: первое вело людей к свободным институтам, тогда как второе направляло их к абсолютной власти.
Алексис де Токвиль
1
Проповедовать в наши дни какие бы то ни было четко сформулированные принципы общественного порядка – значит почти наверняка заработать ярлык оторванного от жизни доктринера. Стало считаться признаком беспристрастного ума, когда в социальных вопросах не придерживаются твердых принципов, но решают каждую проблему «как она есть сама по себе»; когда большей частью руководствуются целесообразностью и с готовностью идут на компромиссы между противоположными точками зрения. Однако у принципов есть способ утвердить себя, даже если они не признаются явно, а лишь подразумеваются отдельными решениями или присутствуют только в качестве смутных идей о том, что следует и чего не следует делать. Так и получилось, что под вывеской «ни индивидуализма, ни социализма» мы на деле быстро движемся от общества свободных индивидов к обществу полностью коллективистского толка.
Я не только намереваюсь защитить определенный общий принцип социальной организации, но и постараюсь показать, что отвращение к общим принципам и предпочтение переходить от одного частного случая к другому являют собой плод движения, которое с «неизбежностью постепенности» ведет нас назад от общественного порядка, покоящегося на общем признании известных принципов, к системе, в которой порядок создается с помощью прямых приказов.
После опыта тридцати последних лет, похоже, уже не нужно доказывать, что без принципов мы начинаем просто плыть по течению. Прагматический подход, господствовавший в этот период, не только не усилил нашу власть над событиями, но фактически привел нас к такому положению вещей, которого никто не желал; и единственным результатом нашего пренебрежения принципами стало, по-видимому, то, что нами управляет логика событий, которую мы тщетно пытаемся игнорировать. Вопрос сейчас состоит не в том, нуждаемся ли мы в направляющих нас принципах, но скорее в том, существует ли еще хоть какой-то их набор, пригодный для общего употребления, которому мы могли бы при желании следовать. Где еще можно отыскать систему заповедей, способную дать нам ясное руководство в решении проблем нашего времени? Осталась ли где-нибудь последовательная философия, которая укажет нам не только моральные цели, но и верный способ их достижения?
Усилия, предпринимаемые церковью с целью выработки законченной общественной философии, и те абсолютно противоположные результаты, к которым приходят многие начинающие с одних и тех же христианских оснований, показывают, что религия сама по себе не дает нам ясного руководства в этих вопросах. Несмотря на то что упадок ее влияния, несомненно, является одной из главных причин нынешнего отсутствия у нас ясных интеллектуальных и нравственных ориентиров, возрождение религии не намного уменьшило бы потребность в пользующемся всеобщим признанием принципе общественного порядка. Мы все равно нуждались бы в политической философии, которая шла бы дальше фундаментальных, но общих предписаний, предоставляемых религией и нравственностью.
Название, выбранное для этой главы, говорит о том, что такая философия, как мне кажется, все же существует. Речь идет о наборе принципов, внутренне присущих основной части западной, или христианской, политической традиции, которые, однако, не могут быть однозначно описаны каким-либо легко узнаваемым термином. Необходимо, таким образом, заново изложить все эти принципы, прежде чем мы сможем решить, в состоянии ли они еще служить нам в качестве практического руководства.
Трудность, с которой мы сталкиваемся, состоит не просто в том, что существующие политические термины отличаются заведомой двусмысленностью, и даже не в том, что для разных групп одно и то же понятие зачастую обладает почти противоположным смыслом. Гораздо более значим тот факт, что нередко употребление одного и того же слова создает впечатление общности людей, в действительности верящих в несовместимые или враждебные друг другу идеалы. В наши дни такие термины, как «либерализм» и «демократия», «капитализм» и «социализм», не символизируют больше никаких связных систем идей. Они стали обозначать конгломераты совершенно разнородных принципов и фактов, которые исторический случай связал с этими словами, но которые имеют между собой мало общего помимо того, что их защищали в разное время одни и те же люди или вообще что они просто проповедовались под одинаковым названием.
Никакой другой термин не пострадал в этом отношении больше, чем «индивидуализм». Он не только был окарикатурен своими оппонентами до неузнаваемости – а нам всегда следует помнить, что большинству наших современников вышедшие сегодня из моды политические концепции известны только в изображении, созданном их противниками, – но и использовался для обозначения нескольких отличных взглядов на общество, которые имели между собой так же мало общего, как и со взглядами, традиционно считавшимися их противоположностью. Действительно, когда при подготовке этой работы я просмотрел несколько стандартных определений «индивидуализма», то почти пожалел о том, что вообще связал идеалы, в которые верю, с термином, которым так злоупотребляли и который так неверно понимали. Но что бы еще ни обозначалось термином «индивидуализм» помимо этих идеалов, есть две веские причины для закрепления его за теми воззрениями, что я намерен отстаивать: во-первых, эти воззрения всегда были известны под таким названием, пусть временами оно приобретало к тому же и какие-то иные значения; во-вторых, оно примечательно тем, что именно с целью выразить идею, противоположную индивидуализму, было придумано слово «социализм»[19 - По происхождению оба термина – «индивидуализм» и «социализм» – являются изобретением сен-симонистов, основоположников современного социализма. Сначала они ввели термин «индивидуализм» для обозначения конкурентного общества, против которого выступали, а затем придумали слово «социализм» для обозначения централизованно планируемого общества, в котором вся деятельность управляется по тому же принципу, что и на отдельной фабрике. О происхождении этих терминов см. мою статью «Контрреволюция науки»: Economica. VIII (new ser., 1941). P. 146. [Рус. изд.: Хайек Ф. А. Контрреволюция науки. М.: ОГИ, 2003. С. 137—252.]]. Именно систему, альтернативную социализму, я и предполагаю рассмотреть.
2
Прежде чем объяснить, что я понимаю под истинным индивидуализмом, полезно указать на интеллектуальную традицию, к которой он принадлежит. Развитие современного индивидуализма, который я попытаюсь защитить, началось с Джона Локка и в особенности с Бернарда Мандевиля и Дэвида Юма. В полную же силу он впервые заявил о себе в работах Джозайи Такера, Адама Фергюсона, Адама Смита и их великого современника Эдмунда Бёрка – человека, которого Смит охарактеризовал как единственного из всех известных ему людей, чьи мысли по экономическим предметам полностью совпали с его собственными, хотя ранее они никогда не общались[20 - Bisset R. Life of Edmund Burke (2d ed., 1800), II, 429. Ср. также: Dunn W. C. Adam Smith and Edmund Burke: Complimentary Contemporaries // Southern Economic Journal (University of North Carolina). Vol. VII. No. 3 (January, 1941).]. Я считаю, что в XIX веке наиболее полно истинный индивидуализм представлен в работах двух величайших историков и политических философов того времени – Алексиса де Токвиля и лорда Актона. Мне представляется, что эти два человека успешнее любых других известных мне авторов развили все лучшее из политической философии шотландских философов, Бёрка и английских вигов, тогда как экономисты классической школы XIX века или, по крайней мере, примыкающие к ней последователи Бентама и философы-радикалы все более подпадали под влияние индивидуализма другого рода, имевшего иные истоки.
Это второе и совершенно отличное от первого направление мысли, также известное как индивидуализм, представлено в основном французскими и другими континентальными авторами, что обусловлено, как мне представляется, той доминирующей ролью, какую играет в нем картезианский рационализм. Выдающимися представителями этой традиции являются энциклопедисты, Руссо и физиократы. По причинам, которые мы вскоре изложим, этот рационалистический индивидуализм всегда имел тенденцию перерождаться в противоположность индивидуализма – в социализм или коллективизм. Именно потому, что индивидуализм первого типа внутренне последователен, я утверждаю за ним название истинного индивидуализма, тогда как вторую его разновидность следует, вероятно, считать таким же значимым источником современного социализма, как и собственно коллективистские теории[21 - Карл Менгер, который в новейшие времена одним из первых сознательно возрождал методологический индивидуализм Адама Смита и его школы, был, вероятно, также первым, кто указал на связь между «проектной» теорией общественных институтов и социализмом. См.: Menger C. Untersuchungen ?ber die Methode der Sozialwissenschaften (1883), особенно книгу VI, гл. 2, где он пишет о «прагматизме, который, вопреки намерению его представителей, неминуемо ведет к социализму». (Рус. пер.: Менгер К. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности // Менгер К. Избранные сочинения. М.: Территория будущего, 2005. С. 433.).Знаменательно, что уже физиократы перешли от рационалистического индивидуализма, с которого они начинали, не только близко к социализму (полно раскрытому в работе их современника Морелли «Кодекс природы» [1755]), но к проповедованию худшего вида деспотизма. «Государство делает с людьми все что захочет», – писал Бодо.].
Мне трудно дать лучший образчик господствующей путаницы относительно смысла индивидуализма, нежели тот, что человека, которого я считаю одним из величайших представителей истинного индивидуализма, Эдмунда Бёрка, обычно (и справедливо) представляют главным оппонентом так называемого «индивидуализма» Руссо, чьи теории, опасался Бёрк, быстро разложат человеческое сообщество «на пыль и прах индивидуального бытия»[22 - Burke E. Reflections on the Revolution in France (1790), в Burke E. Works (World’s Classics ed.), VI, 105: «Таким образом, само человеческое сообщество всего через пару поколений искрошилось бы в пыль и прах индивидуального бытия и в конце концов рассеялось бы по всем четырем сторонам света». (Рус. пер.: Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. М.: Рудомино, 1993.) То, что Бёрк (как указывает А. М. Осборн в своей книге «Руссо и Бёрк» [Oxford, 1940], p. 23), сначала нападавший на Руссо за его крайний «индивидуализм», позднее нападал на него за крайний коллективизм, не есть непоследовательность, а всего лишь результат того, что проповедь рационалистического индивидуализма и Руссо и всеми остальными неизбежно вела к коллективизму.]; а также то, что сам термин «индивидуализм» проник в английский язык через перевод одной из работ другого великого представителя истинного индивидуализма, Токвиля, использующего этот термин в своей работе «Демократия в Америке» для обозначения позиции, которую он считает предосудительной и отвергает[23 - Tocqueville A. de. Democracy in America, trans. Henry Reeve. London, 1864. Vol. II. Bk. II. Ch. 2, где Токвиль определяет индивидуализм как «взвешенное и спокойное чувство, побуждающее гражданина изолировать себя от массы себе подобных и замыкаться в узком семейном и дружеском кругу. Создав для себя таким образом маленькое общество, человек перестает тревожиться обо всем обществе в целом» (Рус. пер.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 373). В примечании к этому тексту переводчик приносит свои извинения за введение французского термина «индивидуализм» в английский язык и поясняет, что, насколько ему известно, «никакое английское слово не может быть точным эквивалентом данного выражения». Как указал Альбер Шац в упоминающейся ниже книге, использование Токвилем устоявшегося французского термина в таком особом смысле является полностью произвольным и ведет к серьезной путанице с устоявшимся значением.]. Несомненно все же, что как Бёрк, так и Токвиль в самом главном стоят близко к Адаму Смиту, а уж ему-то никто не откажет в звании индивидуалиста; верно и то, что «индивидуализм», которому они противостоят, есть нечто совершенно отличное от индивидуализма Адама Смита.
3
Каковы же в таком случае характерные особенности истинного индивидуализма? В первую очередь это теория общества, попытка понять силы, определяющие общественную жизнь человека, и только во вторую – ряд политических максим, выведенных из подобного представления об обществе. Этого достаточно, чтобы опровергнуть наиболее нелепое из распространенных недоразумений – убеждение, что индивидуализм постулирует существование обособленных и самодостаточных индивидов (или основывает на этом предположении свои аргументы) вместо того, чтобы начинать с людей, чья природа и характер целиком обусловлены их бытием в обществе[24 - В своем превосходном обзоре истории индивидуалистических теорий Альбер Шац делает верный вывод о том, что «...прежде всего мы с очевидностью понимаем, чем индивидуализм не является – как раз тем, чем его обыкновенно считают: системой обособленного существования и апологией эгоизма...» (Schatz A. L’Individualisme еconomique et social [Paris, 1907]. P. 558). Эта книга, которой я чрезвычайно обязан, заслуживает быть гораздо более известной как вклад не только в предмет, обозначенный в ее заглавии, но и вообще в историю экономической теории.]. Если бы это было так, тогда он действительно не мог бы ничего добавить к нашему пониманию общества. Но основное утверждение индивидуализма совершенно иное. Оно состоит в том, что нет другого пути к объяснению социальных феноменов, кроме как через наше понимание индивидуальных действий, обращенных на других людей и исходящих из их ожидаемого поведения[25 - В этом отношении, как правильно разъяснил Карл Прибрам, индивидуализм есть необходимый результат философского номинализма, тогда как коллективистские теории уходят корнями в традицию «реализма» (или, как недавно более точно назвал ее К. П. Поппер, «эссенциализма») (Pribram К. Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie [Leipzig, 1912]). Однако этот «номиналистский» подход присущ только истинному индивидуализму, тогда как ложный индивидуализм Руссо и физиократов, в соответствии с его картезианским происхождением, является последовательным «реализмом», или «эссенциализмом».]. Этот аргумент нацелен прежде всего против собственно коллективистских теорий общества, которые претендуют на способность непосредственно постигать социальные целостности (вроде общества и т.п.) как сущности sui generis[26 - Особого рода (лат.).], обладающие бытием независимо от составляющих их индивидов. Следующий шаг в индивидуалистическом анализе общества направлен против рационалистического псевдоиндивидуализма, который также на практике ведет к коллективизму. Он утверждает, что, прослеживая совокупные результаты индивидуальных действий, мы обнаруживаем, что многие институты, составляющие фундамент человеческих свершений, возникли и функционируют без какого бы то ни было замыслившего их и управляющего ими разума; что, по выражению Адама Фергюсона, «нации наталкиваются на учреждения, которые являются по сути результатом человеческих действий, но не результатом человеческого замысла»[27 - Ferguson A. An Essay on History of Civil Society (1st ed., 1767). P. 187. Cр. также: «Формы общества ведут свое происхождение от неясного и отдаленного начала; они возникают – задолго до рождения философии – из инстинктов, а не из размышлений человека... Мы приписываем предварительному замыслу то, что стало известным только из опыта, то, что никакая человеческая мудрость не могла предвидеть, и то, чего никакой авторитет – без согласия с настроениями и нравами своего времени – не мог бы дать возможность индивиду исполнить» (Ibid. P. 187, 188).Небезынтересно сравнить эти места с похожими высказываниями, в которых современники Фергюсона выражали ту же основную идею британских экономистов XVIII в.:Tucker, Josiah. Elements of Commerce (1756), перепечатано в: Tucker, Josiah. A Selection from His Economic and Political Writings, ed. R. L. Schuyler (New York, 1931). Р. 31, 92: «Главное не в том, чтобы уничтожить или ослабить себялюбие, но в том, чтобы придать ему такую направленность, при которой оно может способствовать общественному интересу при преследовании своего собственного... Действительная цель настоящей главы, собственно, и состоит в том, чтобы показать, как универсальный движитель человеческой натуры, себялюбие, может в рассматриваемом случае (как и во всех прочих) получить такую направленность, что будет служить общественным интересам благодаря тем усилиям, которые оно станет возбуждать при преследовании своего собственного интереса».Smith, Adam. Wealth of Nations (1776), ed. Cannan, I, 421: «...направляя эту промышленность таким образом, чтобы ее продукт обладал максимальной ценностью, он преследует лишь собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это». (Рус. пер.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962. С. 332.) Ср. также: Smith A. The Theory of Moral Sentiments (1795). Рart IV (9th ed., 1801). Сh. I. P. 386. (Рус. пер.: Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997.)Burke E. Thoughts and Details on Scarcity (1795) // Burke E. Works (World’s Classics edn). VI, 9: «Милостивый и мудрый распорядитель всех вещей, который понуждает людей, хотят они того или нет, связывать при преследовании собственных эгоистических интересов общее благо со своим индивидуальным успехом».После того как эти утверждения являлись предметом презрения и насмешек со стороны большинства авторов в течение последних ста лет (K. Э. Рэйвен не так давно называл цитировавшееся последним утверждение Бёрка «вредной сентенцией», см.: Raven C. E. Christian Socialism [1920]. P. 34), интересно наблюдать, как один из ведущих теоретиков современного социализма усваивает выводы Адама Смита. Согласно А. П. Лернеру (Lerner A. The Economics of Control. New York, 1944. P. 67), первостепенная полезность ценового механизма для общества заключается в том, что «если он правильно используется, то побуждает каждого члена общества делать в погоне за собственной выгодой то, что соответствует всеобщему общественному интересу. В своей основе это великое открытие Адама Смита и физиократов».]; а также, что спонтанное сотрудничество свободных людей часто создает вещи более великие, чем их индивидуальные умы смогут когда-либо постичь в полной мере. Это великая тема Джозайи Такера и Адама Смита, Адама Фергюсона и Эдмунда Бёрка, великое открытие классической политической экономии, ставшее основой нашего понимания не только экономической жизни, но и большинства подлинно социальных явлений.
Различие между этим взглядом, согласно которому большая часть порядка, обнаруживаемого нами в людских делах, есть непредвиденный результат индивидуальных действий, и другим, который возводит весь существующий порядок к преднамеренному замыслу, составляет первый глубокий контраст между истинным индивидуализмом британских мыслителей XVIII в. и так называемым индивидуализмом картезианской школы[28 - Ср.: Schatz А. L’Individualisme еconomique et social [Paris, 1907]. P. 41—42, 81, 378, 568—569, особенно место, цитировавшееся им (p. 41, n. 1) из статьи Альбера Сореля (Sorel A. Comment j’ai lu la „Reforme sociale“ // Rеforme sociale. November 1, 1906. P. 614): «Каким бы ни было в то время мое почтение, к тому же в значительной мере внушенное и опосредованное, к „Рассуждению о методе“, я уже знал, что из этого прославленного рассуждения проистекло столько же общественного безрассудства и метафизических нелепиц, абстракций и утопий, сколько и положительных установлений, что, ведя к Конту, оно привело также к Руссо». О влиянии Декарта на Руссо см. также: Janet P. Histoire de la science politique (3d ed., 1887). Р. 423; Bouillier F. Histoire de la philosophie cartеsienne (3d ed., 1868). P. 643; Michel H. L’Idеe de l’йtat (3d ed., 1898). P. 68.]. Но это только один аспект еще более широкого различия между взглядом, вообще оценивающим довольно низко роль разума в людских делах и утверждающим, что человек достиг всего несмотря на то, что он лишь отчасти руководим разумом, к тому же крайне ограниченным и несовершенным, и взглядом, согласно которому все люди всегда в полной и равной мере обладают Разумом с большой буквы и все, чего достигает человек, есть прямой результат работы индивидуального разума и соответственно подчинено его контролю. Можно даже сказать, что первый взгляд – это продукт острого осознания ограниченности индивидуального ума и вызванного этим чувства смирения перед безличными и анонимными общественными процессами, посредством которых индивиды создают вещи более великие, чем доступно их пониманию, тогда как второй – это продукт неумеренной веры в силы индивидуального разума и вытекающего отсюда презрения ко всему, что не было им сознательно спроектировано и не вполне для него постижимо.
Антирационалистический подход, в соответствии с которым человек не высокорациональное и непогрешимое, а достаточно иррациональное и подверженное заблуждениям существо, индивидуальные ошибки которого корректируются только в ходе общественного процесса и которое стремится создать самое лучшее из очень несовершенного материала, представляет собой, вероятно, наиболее характерную черту английского индивидуализма. Мне кажется, что его преобладание в английской мысли обусловлено глубоким влиянием Бернарда Мандевиля, впервые ясно сформулировавшего эту центральную идею[29 - Ключевое значение Мандевиля в истории экономической теории, долго не принимавшееся во внимание и оцененное по достоинству лишь несколькими авторами (в частности Эдвином Кэннаном и Альбером Шацем), теперь начинает признаваться в основном благодаря великолепному изданию «Басни о пчелах», которым мы обязаны покойному Ф. Б. Кэйе. Хотя главнейшие идеи Мандевиля уже обозначены в первом издании «Басни» 1705 г., решающая разработка, и в особенности полно выраженный взгляд на происхождение разделения труда, денег и языка, встречается только во II ее части, увидевшей свет в 1723 году (см.: Mandeville, Bernard. The Fable of the Bees, ed. F. B. Kaye [Oxford, 1924]. Pt II.P. 142, 287—88, 349—350). (Рус. пер. первой части: Мандевиль Б. Басня о пчелах. М.: Мысль, 1974.) Здесь есть место только для того, чтобы процитировать решающий пассаж из его обзора развития разделения труда, где он замечает, что «...мы часто приписываем превосходству человеческого гения и глубине его проницательности то, что в действительности обязано долгому времени и опыту многих поколений, очень мало отличавшихся друг от друга по природным способностям и благоразумию» (Ibid. Р. 142).Стало уже привычным характеризовать Джамбаттиста Вико и его лозунг (обычно неверно цитируемый) – homo non intelligendo fit omnia – все творится человеком не разумеющим (Opere, ed., Ferrari [2d ed., Milan, 1854], V, 183), как начало антирационалистической теории общественных явлений, однако представляется, что Мандевиль не только опередил, но и превзошел его.Вероятно, заслуживает упоминания и то, что не только Мандевиль, но и Адам Смит занимает почетное место в разработке теории языка, которая в столь многих отношениях поднимает проблемы, сходные по своей природе с теми, что ставят другие общественные науки.].
Чтобы полнее показать противоположность картезианского, или рационалистического, «индивидуализма» такому подходу, я приведу знаменитый пассаж из части II «Рассуждения о методе» Декарта. Он доказывает, что «часто творение, составленное из многих частей и сделанное руками многих мастеров, не столь совершенно, как творение, над которым трудился один человек». Далее он переходит к мысли (что примечательно – после того, как приводит пример с инженером, по плану которого возводится город) о том, что «народы, бывшие в полудиком состоянии и лишь постепенно цивилизовавшиеся и учреждавшие свои законы только по мере того, как бедствия от совершаемых преступлений и возникавшие жалобы принуждали их к этому, не могут иметь такие же хорошие гражданские порядки, как те, которые соблюдают установления какого-нибудь мудрого законодателя с самого начала своего объединения». И, доводя свою мысль до конца, Декарт добавляет, что, по его мнению, «Спарта была некогда в столь цветущем состоянии не оттого, что законы ее были хороши каждый в отдельности... но потому, что все они, будучи составлены одним человеком, направлялись к одной цели»[30 - Descartes R. A Discourse on Method (Everyman’s ed.). P.10—11. (Рус. пер.: Декарт Р. Сочинения. М.: Мысль, 1989. Т. 1. C. 256—257.)].
Было бы интересно проследить дальнейшее развитие такого рода индивидуализма, связанного с идеей общественного договора и «проектными» теориями («design» theories) общественных институтов от Декарта через Руссо и французскую Революцию, до специфически инженерного подхода к социальным проблемам, существующего в наши дни[31 - О специфическом подходе к экономическим явлениям, свойственном инженерному сознанию, см. мою работу: Hayek F. A. Scientism and the Study of Society // Economica. Vols IX—XI (new ser., 1942—1944), особ. ХI, 34 ff. [Рус. изд.: Хайек Ф. А. Сциентизм и изучение общества // Хайек Ф. А. Контрреволция науки. М.: ОГИ, 2003.]]. Подобный очерк обнаружил бы, как картезианский рационализм постоянно оказывался серьезным препятствием на пути понимания исторических явлений и что он в значительной степени ответствен за веру в неумолимые законы исторического развития и за современный фатализм, который от нее произошел[32 - Со времени первой публикации этой лекции я познакомился с поучительной статьей Джерома Розенталя (Rosenthal J. Attitudes of Some Modern Rationalists to History // Journal of the History of Ideas. Vol. IV. No. 4 [October, 1943], P. 429—456), в которой довольно детально описывается антиисторическая позиция Декарта и особенно его ученика Мальбранша и приводятся интересные примеры презрения, выражавшегося Декартом в его «Разыскании истины посредством естественного света», к изучению истории, языка, географии и особенно классической литературы.].
Однако нам здесь важно только то, что данный взгляд, хотя и известный как «индивидуализм», являет собой полную противоположность истинному индивидуализму в двух решающих пунктах. В то время как в отношении псевдоиндивидуализма совершенно справедливо, что «представление о спонтанных социальных образованиях было логически невозможно для всех философов, бравших за отправной пункт отдельного человека и считавших, что он создает общества путем объединения своей частной воли с другой через формальный договор»[33 - Bonar J. Philosophy and Political Economy (1893). Р. 85.], истинный индивидуализм есть единственная теория, имеющая право утверждать, что делает формирование спонтанных социальных образований понятным. Тогда как «проектные» теории неизбежно ведут к заключению, что общественные процессы можно заставить служить людским целям, только если они поставлены под контроль индивидуального человеческого разума и тем самым прямиком ведут к социализму, истинный индивидуализм, напротив, полагает, что если предоставить людям свободу, они зачастую достигнут большего, чем мог бы спроектировать или предвидеть индивидуальный человеческий ум.
Эта противоположность между истинным, антирационалистическим, и ложным, рационалистическим, индивидуализмом пронизывает всю общественную мысль. Но поскольку обе теории приобрели известность под одним и тем же именем и частично потому, что на экономистов классической школы XIX в., в особенности на Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера, французская традиция повлияла почти так же сильно, как английская, всевозможные концепции и предположения, совершенно чуждые истинному индивидуализму, стали восприниматься как неотъемлемые части этого учения.
Вероятно, лучшим примером неверных представлений об индивидуализме Адама Смита и его единомышленников служит ходячая вера в то, что они выдумали пугало «экономического человека» и что их выводы подрываются их же предположением о строго рациональном поведении и вообще ложной рационалистической психологией. Конечно же, они были крайне далеки от предположений подобного рода. Будет куда правильнее сказать, что с их точки зрения человек по природе ленив и склонен к праздности, недальновиден и расточителен и что только силой обстоятельств его можно заставить вести себя экономно и осмотрительно, дабы приспособить его средства к его же целям. Но даже сказанное нами не точно передает чрезвычайно сложные и реалистические взгляды этих мыслителей на природу человека. Поскольку вошло в моду высмеивать Смита и его современников за их якобы ошибочную психологию, я готов, пожалуй, рискнуть и высказать мнение, что для любых практических задач мы все еще можем больше узнать о поведении человека из «Богатства народов», чем из большинства претенциозных современных трактатов по «социальной психологии».
Как бы там ни было, почти не вызывает сомнений, что Смита главным образом интересовало не столько то, чего человек мог бы время от времени достигать, когда он бывает на высоте, сколько то, чтобы у него было как можно меньше возможностей наносить вред, когда он оказывается несостоятелен. Вряд ли будет преувеличением утверждать, что основное достоинство индивидуализма, отстаивавшегося Смитом и его современниками, заключается в том, что это порядок, при котором дурные люди способны причинять наименьшее зло. Это социальная система, функционирование которой не требует, чтобы мы нашли добродетельных людей для управления ею или чтобы все люди стали лучше, чем они есть теперь, но которая использует людей во всем их разнообразии и сложности: иногда хорошими, иногда дурными, порой умными, но чаще глупыми. Их целью была система, предоставляющая свободу всем, а не только «добродетельным и мудрым», как того желали их французские современники[34 - Бенн А. У. справедливо замечает: «У Кенэ следовать природе означало выяснять путем изучения окружающего нас мира и его законов, какое поведение наиболее способствует здоровью и счастью, а естественные права означали свободу следования установленному таким образом пути. Такая свобода принадлежит исключительно мудрым и добродетельным и может быть дарована только тем, кого опекающая власть в государстве соблаговолит признать таковыми. С другой стороны, у Адама Смита и его учеников природа означает всю совокупность импульсов и инстинктов, которые движут индивидуальными членами общества; они утверждают, что лучшие установления возникают благодаря свободной игре этих сил – при уверенности в том, что частичная неудача будет более чем компенсирована успехами в другом месте и что преследование каждым своего собственного интереса обернется наибольшим счастьем для всех» (Benn A. W. History of English Rationalism in the Nineteenth Century. 1906. Vol. I. P. 289).Подробнее по этому вопросу см.: Halеvy E. The Growth of Philosophic Radicalism. 1928. P. 266—270.Противоположность между шотландскими философами XVIII в. и их французскими современниками выявляется также в недавней работе Глэдис Брайсон: Bryson G. Man and Society: The Scottish Enquiry of the Eighteenth Century. Princeton, 1945. Р. 145. Она подчеркивает, что шотландские философы «всё хотели покончить с картезианским рационализмом с его упором на абстрактный интеллектуализм и врожденные идеи», и неоднократно отмечает «антииндивидуалистические» тенденции у Давида Юма (p. 106, 155) – используя слово «индивидуалистический» в том смысле, который мы здесь называем ложным, рационалистическим. Но иногда она впадает в распространенную ошибку, рассматривая их как «типичных представителей мысли того века» (p. 176). Еще существует чрезмерная склонность, главным образом в результате принятия немецкой концепции «Просвещения», считать взгляды всех философов XVIII в. сходными, тогда как во многих отношениях расхождения между английскими и французскими философами данного периода гораздо более серьезны, нежели сходство. Распространенная привычка смешивать воедино Адама Смита и Кенэ, вызванная прежней верой в то, что Смит был многим обязан физиократам, безусловно должна исчезнуть теперь, когда это убеждение было опровергнуто недавним открытием У. Р. Скотта (см.: Scott W. R. Adam Smith as Student and Professor. Glasgow, 1937. Р. 124). Важно также, что побуждением к работе как для Юма, так и для Смита послужило, как сообщают, их неприятие Монтескье.В работе Рудольфа Голдшaйда (Goldsheid R. Grundlinien zu einer Kritik der Willenskraft. Wien, 1905. S. 32—37) можно найти заставляющий задуматься анализ различий между британскими и французскими социальными философами XVIII в., искаженный, однако, неприязнью автора к «экономическому либерализму» британцев.].
Главной заботой великих индивидуалистов было действительно отыскать набор институтов, которые могли бы побуждать человека по его собственному выбору и на основании мотивов, направляющих его обычное поведение, вносить максимально возможный вклад в удовлетворение потребностей всех остальных; их открытием стало то, что система частной собственности обеспечивает такие побуждения в гораздо большей мере, чем это представляли до тех пор. Они не заявляли, однако, что эту систему невозможно далее улучшать и, еще менее, как утверждают те, кто ныне искажают их мысли, что, независимо от действующих институтов, существует «естественная гармония интересов». Они прекрасно сознавали конфликты индивидуальных интересов и подчеркивали настоятельную потребность в «правильно построенных институтах», когда «правила и принципы по согласованию соперничающих интересов и нахождению компромиссов в том, что касается преимуществ»[35 - Burke E. Thoughts and Details on Scarcity (1795) // Burke E. Works (World’s Classics ed.). Vol. VI. P. 15.], примиряли бы конфликтующие интересы и исключали возможность предоставления какой-либо одной группе такой власти, которая позволила бы ей всегда ставить свои взгляды и интересы выше всех остальных.
4
В этих исходных психологических предпосылках есть один момент, который необходимо рассмотреть более полно. Поскольку убеждение, что индивидуализм одобряет и поощряет человеческий эгоизм, является одной из основных причин неприязни к нему со стороны столь многих людей и поскольку существующая здесь путаница вызвана реальными интеллектуальными затруднениями, мы должны тщательно исследовать смысл выдвигаемых им предположений. Безусловно, нельзя усомниться, что великие авторы XVIII в. преподносили, если воспользоваться их языком, в качестве «всеобщего движителя» именно «себялюбие» человека или даже его «своекорыстные интересы» и что в подобных выражениях они описывали прежде всего моральную позицию, которую считали широко распространенной. Эти термины, однако, не означали эготизма в узком смысле, то есть озабоченности исключительно непосредственными нуждами своей собственной личности. «Я» (self), о котором, как предполагалось, только и заботятся люди, естественным образом распространялось на семью и друзей, так что для хода рассуждений этих авторов не имело бы никакого значения, если бы туда же оказалось включено что угодно, к чему люди реально питают интерес.
Гораздо более важным, чем эта моральная позиция, которую можно считать поддающейся пересмотру, является тот неоспоримый факт нашей умственной жизни, отменить который никому не под силу и который сам по себе представляет достаточное основание для выводов, сделанных философами-индивидуалистами. Он заключается в конститутивной ограниченности знаний и интересов человека – в том, что человек не в состоянии знать больше крохотной частицы всего общества в целом и что, следовательно, мотивами для него могут становиться лишь ближайшие результаты его действий в той сфере, которая ему знакома. Когда речь идет о социальной организации, любые возможные расхождения в моральных установках людей оказываются гораздо менее значимы, чем тот факт, что человеческий ум может эффективно охватывать лишь явления того узкого круга, центром которого сам он является, и что, будь он полным эгоистом или совершенным альтруистом, те людские потребности, о которых он способен эффективно позаботиться, составляют крайне малую частицу нужд и потребностей всех членов общества. Стало быть, настоящий вопрос заключается не в том, руководствуется или должен ли руководствоваться человек эгоистическими побуждениями, но в том, можем ли мы позволить ему руководствоваться в своих действиях теми их непосредственными последствиями, которые он осознает и которые его волнуют, или же его следует заставить делать то, что представляется надлежащим кому-то еще, кто якобы обладает более полным пониманием значения этих действий для общества в целом.
К общепринятой христианской традиции, считающей, что человек должен иметь свободу следовать своей совести в вопросах нравственности, дабы его действия обладали каким-либо достоинством, экономисты добавили еще один аргумент: человек должен иметь свободу полностью использовать свои знания и мастерство, ему надо позволить руководствоваться своим интересом к определенным вещам, которые он знает и которые ему небезразличны, дабы он настолько содействовал достижению общих целей общества, насколько это в его силах. Главная проблема для них – как превратить эти ограниченные интересы, фактически определяющие действия людей, в эффективные стимулы, побуждающие их добровольно вносить максимальный вклад в удовлетворение потребностей, находящихся вне поля их зрения. Экономисты поняли впервые, что уже возникший рынок представлял собой действенный путь к тому, чтобы понудить человека принять участие в процессе, более сложном и широком, чем он в состоянии постичь, и что именно рынок направляет его к «цели, которая совсем и не входила в его намерения».
Было почти неизбежно, что авторы-классики при объяснении своей позиции начнут пользоваться языком, который непременно станут неверно понимать, и что таким образом они обретут репутацию людей, превозносящих эгоизм. Причина этого сразу же становится ясной, стоит нам попытаться передать правильный ход их мысли более простым языком. Если мы выразимся кратко, сказав, что люди руководствуются и им следует руководствоваться в своих действиях собственными интересами и желаниями, это немедленно будет неверно понято и переиначено в ложное утверждение, что они руководствуются и должны руководствоваться исключительно своими личными потребностями или эгоистическими интересами, тогда как мы имеем в виду, что им следует позволить стремиться к чему бы то ни было, что они находят желательным.
Еще одна вводящая в заблуждение фраза, используемая для того, чтобы подчеркнуть действительно важный момент, – это знаменитое предположение, что всякий человек лучше кого бы то ни было знает свои интересы. В подобной форме оно звучит неправдоподобно и не является необходимым для выводов индивидуалиста. Действительная их основа заключается в том, что никто не в состоянии знать, кто же знает это лучше всех, и единственный способ, каким можно это выяснить, – через социальный процесс, где каждому предоставлена возможность попытаться и удостовериться, на что он годен. Фундаментальная предпосылка здесь и во всех последующих рассуждениях – это безграничное разнообразие человеческих талантов и навыков и вытекающее отсюда неведение любого отдельного индивида относительно большей части того, что известно всем остальным членам общества вместе взятым. Или, если выразить эту фундаментальную мысль иначе, человеческий Разум с большой буквы не существует в единственном числе, как данный или доступный какой-либо отдельной личности, что, по-видимому, предполагается рационалистическим подходом, но должен пониматься как межличностный процесс, когда вклад каждого проверяется и корректируется другими. Этот тезис не предполагает, что все люди равны по своим природным дарованиям и способностям, а означает только, что ни один человек не правомочен выносить окончательное суждение о способностях, которыми обладает другой человек, или выдавать разрешение на их применение.