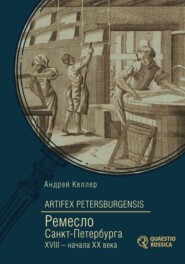
Полная версия:
Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века

Андрей Келлер
Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века (административно-законодательный и социально-экономический аспекты)
Введение
Ремесло Санкт–Петербурга претерпело за два столетия, как и сам город, разительные перемены. Фридрих Христиан Вебер, современник Петра I, сравнивал новую столицу с семью чудесами света античного мира, как превзошедшую последних по времени осуществления и масштабу, имея на это все основания1. Ведь в кратчайшие сроки был построен великолепный город, вставший в ряд первых столиц Европы и мира, не в последнюю очередь, благодаря труду многих десятков тысяч ремесленников.
Все большая востребованность понимания исторической связи между ремесленной мастерской и сегодняшними малыми и средними предприятиями (МСП) объясняется разворотом современной российской экономики в сторону зеленой и умной экономики в рамках устойчивого развития2. Для этого необходимо экологическое сознание, являющееся главной предпосылкой для создания инновативного формата предприятий с качественно новым наполнением. Именно на таких основаниях, по нашему твердому убеждению, должна строится диверсификация современной экономики.
Происходящее переосмысление роли ремесла сегодня позволяет по–новому прочитать его историю в рамках устойчивого развития, в котором социальное и экологическое определяют экономическое развитие, а не только капитал, инвестиции и технологии. Поэтому на первый план вновь выходят не ограниченные исполнители во фрагментированном производственном процессе, а специалисты с комплексным подходом и целостным видением предмета и конечного результата. Осмысленная работа (работа, наполненная смыслом) вновь вступает в свои права. В связи с этим, экономический, экологический и социальный векторы развития видятся не раздельно друг от друга как ранее, а в системном единстве устойчивого развития, что определяет не только взгляд в будущее, но и историческую ретроспекцию, исследования прошлого3.
В данной связи история ремесла вписывается в сегодняшнюю повестку дня, являющуюся существенной предпосылкой для создания предприятий, организованных на принципах устойчивого развития. Ремесло как одна из универсальных компетенций любого творческого человека, как базисная деятельность, развивающая способности человека во всей их совокупности, способствует повышению креативности в поиске интеллигентных, в том числе сложных технологических решений. Отдельные элементы цеховой организации и кустарных промыслов в их актуальной интерпретации могут послужить прототипом современной организации производства, объединяющей «ремесленных» мастеров по принципу гибких сетей высокотехнологичных малых производств (ГСВМП; small manufacturing networks), что поможет встроить их в современную модель устойчивого развития, основывающуюся среди прочего на ремесленных практиках, компетенции независимого мастера (предпринимателя), сетевом принципе, децентрализованности, элементах солидарности, кооперации и микрофинансирования. Такой взгляд задает новую ретроспективу на социально–экономическую историю ремесла в целом и на корпоративную историю цехов, в частности.
Анализ процесса трансфера и адаптации института цехов на российской почве XVIII – XIX вв. показывает, что данный западный институт организации ремесла на новых корпоративных принципах получил свое дальнейшее развитие в ходе вестернизации России. Введение цехов в России являлось важной институциональной инновацией, способствовавшей профессионализации городского ремесла, спецификации таких понятий как стандарт, качество, профессиональная честь, к укреплению новых положительных коннотаций в ремесле. Более того, производственная иерархия ремесленной мастерской как организационный принцип цехового производства была перенесена на все средние и крупные предприятия – мануфактуры и заводы, на огромном пространстве от Санкт–Петербурга до Урала.
Являясь неотъемлемой частью экономики города, ремесло и кустарные промыслы играли важную роль в индустриализации Санкт–Петербурга, адаптируясь к новым условиям. Следовательно, процессам модернизации были подвержены не только средние и крупные промышленные предприятия, но и ремесленные мастерские, являвшиеся важным компонентом необходимого профессионального базиса для индустриализации столицы4. Ремесленная промышленность, вобравшая в себя малое и среднее производство, являлась наряду с крупной капиталистической промышленностью драйвером развития городской промышленности и традиционных промысловых кластеров, используя методы синтеза новых знаний и технологий и приобретая гибридные формы существования.
В этой связи назрела необходимость актуализации интеллектуального наследия народников–экономистов, говоривших о своеобразии социально–экономического развития России, где важную роль продолжали играть ремесленная и кустарная промышленность, набирало обороты движение кооперации, наблюдалось объединение ремесленников по профессиональному признаку. К названной традиции принадлежат труды В. В. Берви–Флеровского, В. П. Воронцова, Н. Ф. Даниельсона, П. А. Кропоткина, В. С. Пругавина, М. И. Туган–Барановского, И. М. Кулишера, А. В. Чаянова5.
Кропоткин писал о взаимопомощи как важной составляющей движения кооперации и факторе эволюции: «И всякий раз, когда человечеству приходилось выработать новую социальную организацию, приспособленную к новому фазису его развития, созидательный гений человека всегда черпал вдохновение и элементы для нового выступления на пути прогресса всё из той же самой, вечно живой, склонности ко взаимной помощи»6. То, о чем писал Кропоткин, стало сегодня чрезвычайно актуальным. Дж. Рифкин пишет вновь о солидарности (см. теорию солидаризма), как о важном социальном капитале7. В дореволюционной России существовало, пожалуй, самое мощное кооперационное движение в Европе, которое могло дать в будущем примеры для подражания Западной Европе. Темпы роста промысловой (ремесленной и кустарной) кооперации в России, вплоть до 1917 г., впечатляют. Число ее участников составляло к этому времени 4,6 млн. человек8. Поэтому не случаен интерес к этой проблематике сегодня9. Говоря о начале и конце капитализма, современные авторы дискутируют об альтернативных путях социально–экономического развития. Йохай Бенклер успешно интегрирует концепцию кооперации и глобальных сетей в реалии рыночной экономики10. Руководитель Центра коллективного разума при Массачусетском технологическом институте Томас Малон, в соавторстве с другими учеными, поднимает тему коллективного разума и группового перформанса11.
Сочетание исторических и современных дискурсов крупной и мелкой промышленности позволяет сделать концептуальный разворот в целеполагании развития МСП, от чего в конечном итоге зависит успех построения российской зеленой экономики на новых началах. Нахождение интегративных подходов в комплексном исследовании истории российской экономики, помогает рассматривать крупные, малые и средние предприятия не как антиподы, но в их совокупности, как одинаково важные части единого экономического целого, в целях гармонизации его функционирования. В этом заключается живая связь исторического знания и современных концепций социально–экономического развития.
Особое видение проблематики ремесла и ремесленника в истории человечества зависит, прежде всего, от аспектов универсального характера. Первый аспект – это образ творца, или человека в роли творца или демиурга (от греч. demiurgos – мастер, творец), познающего реальный мир и преобразовывающего его, благодаря опыту. Второй аспект касается мотивов ремесленного труда, существенно отличающихся от таковых в капиталистических экономиках, основой которых является система, построенная на капитале и крупном промышленном производстве. Ремесленный мастер стремится не только к материальному благополучию и не столько к обогащению, сколько к сохранению своего безбедного существования, повышению профессионального мастерства и сохранению социального статуса. Локальное производство ремесленного мастера укоренено в конкретных «соседских отношениях», которые мастер сохраняет с помощью поддержания социальных связей12. Поэтому в исследовании акцент делается не на владении средствами производства и не на увеличении капитала, не являющимися главными в работе и «жизненной философии» ремесленника. Последнего отличает особое отношение к своему труду, к производимому продукту как к уникальному и оригинальному, особое выстраивание социальных связей в ремесленной мастерской и за ее пределами.
Ремесло рассматривается нами как особый социально–экономический институт, приобретавший, в ходе своей эволюции, различные формы бытования в городе, на селе и в кустарно–промышленных районах. Под ремеслом понимается самостоятельная производственная деятельность, а) неразрывно связанная с личностью, осуществляющей эту деятельность на основании индивидуальных способностей и профессиональной сноровки, с исчерпывающим знанием рабочих материалов, а также предоставление услуг (кроме транспорта и гастрономии), б) при которой в дополнение к ручной работе применяется производственная техника в виде инструментов, машин и технических приспособлений с целью изготовления предметов, прежде всего, повседневного массового потребления (пища, одежда, обувь) и быта (постройка и обустройство жилых помещений), а также специальных высокотехнологичных инструментов, приборов, изделий, применяемых в науке и промышленности, в меньшем количестве – предметов декоративно–прикладного искусства13. Регулярная городская ремесленная мастерская предполагала наличие мастера–собственника, учеников и подмастерьев, иногда рабочих. Но видовые градации ремесленников велики, как и виды ремесленной деятельности – от дипломированного цехового мастера, изготавливающего музыкальные, физические, оптические и многие другие сложные инструменты, до кустаря–одиночки, снимающего угол на съемной квартире, или кустарной избы, где кустарным промыслом могла заниматься вся семья на постоянной основе или в виде приработка к основным занятиям земледелием. Поэтому и терминологическое определение «ремесленного предприятия» или ремесленной мастерской могло иметь очень большой диапазон, в зависимости от ее локализации и социального слоя, представленного ее работниками и владельцем: цеховыми, крестьянами, мещанами, купцами, дворянами.
Мы исходим из расширенной концепции ремесленного труда или ремесленных практик, имеющих различные градации в профессиональном мастерстве и зависящих от их социальной, географической или территориальной локации. Ремесленный труд или ремесленные практики рассматриваются в их различных формах проявления: цеховой, нецеховой, городской, сельской, кустарной, промысловой, подрядной, индивидуальной, артельной, художественной (как отрасль декоративно–прикладного искусства, например, в художественном литье).
В отличие от рабочего на промышленном предприятии, у мастера есть целостное видение конечного продукта ремесленного труда. Со временем, как в городских ремеслах, так и в еще большей степени в ряде кустарных ремесел, наблюдалась тенденция к дифференциации производственного процесса с двумя основными вариантами: в первом случае последний разбивался на несколько более простых операций, где промежуточный продукт поступал далее в распоряжение других кустарей для его дальнейшей обработки, или же, во втором случае, происходила дальнейшая специализация ремесла и возникновение более узких профессий с углублением умений и навыков в специальной области производства. Отсюда возникло современное слово специалист или специальность14.
Важными для реконструкции истории ремесла являются два феномена, пережившие народы, государства и исторические эпохи – археологический продукт ремесленного производства как артефакт (материальный предмет) и язык (слово и термин)15. Иными словами, происходит возвращение и обращение не столько к структурам и моделям, сколько к человеку, сделавшему эту вещь: кусок ткани, кувшин, топор, и говорившему на этом языке. Мостики бытования ремесла из прошлого в настоящее позволяет перекинуть феноменология. Язык вещи и ремесленная терминология помогают постичь не столько временную, сколько антропологическую составляющую истории. Через призму ремесла, следовательно, внимание фокусируется на человеке, а не на капитале, машине (инструменте, средствах производства) и продукте, являющимися его производными. Ремесло противопоставляет себя всему массовому: массовой продукции, массовой культуре, а любая ориентация на массовость означает смерть человека как агента социальности. Возвращение к ремесленному мастеру, как полноценному агенту социальности и участнику экономического процесса, означает возвращение человеку его места в бытии и обретение им самого себя, а значит и окружающего мира, неподвластного машинам и экономическим кризисам. С началом и ускорением промышленной революции в XIX в., Европу и Россию, как неотъемлемую часть мирового хозяйства, все чаще начинают сотрясать экономические и социальные кризисы, сопровождающиеся периодическими крахами на биржах. Погоня за новыми рынками сбыта, сферами (колониального) влияния и политическое противостояние европейских военно–политических союзов, привели к двум мировым войнам, а спекуляции на бирже – к крупнейшему финансовому краху 1929 г. В более широком историческом контексте это кризисы 1857, 1873–1878, 1929–1933 и 2008 гг.16
Ремесленное производство как необходимое условие возникновения и существования древнейших видов хозяйственной деятельности человека – земледелия и скотоводства, доминировало вплоть до начала индустриальной революции в XIX в. в производственной сфере экономик большинства сообществ. Ремесленники производили орудия труда, без которых любая производственная деятельность человека, в том числе и обустройство своего жизненного мира, была невозможна. С большой долей вероятности, возникновение ремесел и первых «ремесленников» можно приурочить к появлению первых артефактов в истории человечества. Еще до середины XIX века валовой продукт любой европейской страны состоял, в большой степени, из двух основных частей: сельскохозяйственной и ремесленной. Поэтому трудно переоценить роль ремесленного труда, являющегося составной частью культурного наследия человечества, внесшего значительный вклад в формирование таких базисных антропологических признаков человека, как любопытство испытателя, креативность и усидчивость мастера.
Размышляя об особенности творческого интеллекта направлять свою перформативную энергию на материальный продукт, Анри Бергсон писал: «Мы рождаемся ремесленниками и геометрами, и даже геометры–то только потому, что мы – ремесленники»17. И далее: «Прежде чем стать художниками, мы бываем ремесленниками»18. Но философ идет еще дальше, в начало мира, и высказывает мысль о возможности изначального одновременного генезиса материи и интеллекта. Следовательно, «интеллектуальность и материальность должны были складываться в своих деталях путем взаимного приспособления»19. Бергсон, как любой радикальный философ, меняет устоявшуюся терминологию и предлагает заменить понятие Homo sapiens, как определение человека разумного, на Homo faber (лат. faber художник, кузнец, ремесленник, мастер) или «Человек творящий», «Человек производящий». Бергсон отмечает главную особенность человеческого интеллекта в творческой эволюции: «Итак, интеллект, рассматриваемый в его исходной точке, является способностью фабриковать искусственные предметы, в частности из орудий создавать орудия, и бесконечно разнообразить их выделку»20. При этом способность к фабрикации Бергсон находит уже у животных21. Эту способность у человека он называет жизненным порывом, находящим свою реализацию в потребности творчества22.
Павел Флоренский одну из глав в своей книге «У водоразделов мысли» называет «Homo faber». Там он цитирует формулировку А. Бергсона, приведенную выше23. Соглашаясь с последним о тесной связи техники и интеллекта, он называет также Эрнста Маха, развивавшего мысль о взаимодействии науки и техники24. Флоренский приходит к выводу, что «если разум вовне раскрывает себя, как неопределенно возрастающая и осложняющаяся совокупность орудий, то, изнутри рассматриваемый, он есть совокупность проектов этих же орудий, схем и образов, обладающих притом импульсом к экстериоризации, к воплощению, к материализации. Разум есть потенциальная техника, техника есть актуальный разум»25.
С. А. Азаренко пишет по этому поводу: «Орудие – это то, что обнаруживает деятельность разума "вовне", ибо разум как способность познания биологически виден быть не может. Разум экстериоризуется в производительных орудиях, а последние есть не что иное, как материализовавшиеся проявления разума. Таким образом, человек есть homo sapiens (разумный) лишь постольку, поскольку он homo faber (ремесленник). Разум, по Флоренскому, есть деятельность по проекту, то есть целеполагаемая деятельность. Соответствие между организмом и его средой совершается при помощи дополнения или даже удвоения чувств и органов. Орудия расширяют область человеческой деятельности и его чувства тем, что они продолжают его тело. Таким образом, живое тело есть первообраз всякой техники»26.
Ключевая идея Флоренского в концепции органопроекции об удвоении человеческого тела: где живое тело является первообразом любой техники, может быть применена для объяснения возникновения ремесла и артификации социального пространства27. В этом смысле П. Слотердайк может смело ссылаться на русского философа как на своего предшественника, когда он говорит о том, что «любая техника является расширением, растяжением человеческого тела, и становится продолжением потенциала его органов во внешнем пространстве». В пример можно привести организмы, «одетые» в кожу, которая дополняется одеждой и домом; орган речи, из которого рождается письменность и печатный станок; рука, действия которой усиливают инструменты, машины и станки; глаз, усиливающийся такими устройствами, как очки, телескоп, микроскоп; колесо автомобиля как продолжение ноги и т. д.28
Оттеснение в эпоху модерна ремесла и мастера, в том числе и в историографическом смысле, на второй план, имеет глубокие исторические корни. В. Феллер говорит в этой связи о смене мировоззренческих парадигм в пятидесятые–семидесятые годы XIX века: «Теория Дарвина сменила гештальт Творца–Мастера, воспринимавшийся большинством европейцев как основное доказательство бытия Божия», а с ним привела к деградации высокого места ремесленного мастера в шкале ценностей модерного общества, «обесценились тысячи "образцов" в "тонкой структуре приложений", организованные образом человека–мастера, производящего, творящего вещи»29. И далее: «Для многих исчезновение одного из основополагающих метафизических доказательств бытия Бога [аристотелевского мастеровитого и работного бога. – А. К.] и переключение с метафизической метафоры Мастера на метафизическую модель Рынка в условиях торжественного шествия капитализма и действительного вытеснения рыночными отношениями древних корпоративных, мастеровых отношений стало причиной полного изменения мировоззрения […]. Новая формула Рынка побеждала старую формулу Мастера, действовали на мыслящих людей как те самые куновские "тонкие примеры приложений"»30.
Пожалуй, мы не будем искать глубокого метафизического смысла в трагедии, случившейся во время большого пожара в соборе Парижской Богоматери в ночь с 15 на 16 апреля 2019 г. Но почему подобная катастрофа стала возможной в эпоху «умных машин» именно в XXI в., а не на протяжении последних почти 600 лет со времени постройки собора? Не потому ли, что столяр с рубанком или каменотес с зубилом не несли с собой той опасности, что несет в себе машина, оставленная без присмотра? Последняя перегрелась и произвела короткое замыкание, в результате чего произошел пожар. В данном случае машина «взяла на себя» слишком много. Но ей нет дела до того, что она уничтожила. Для нее это не играет никой роли и не несёт никакой ценности. У нее своя логика. Культура стала не результатом воспроизводства определенных техник, но техника завладела культурой и диктует ей свою логику. Подчинившись машине, она уже не принадлежит самой себе. Человек и его культура попали в опасность, хотя и сама машина является частью этой культуры.
Нотр–Дам–де–Пари стал символом покинутости мастерами данного сакрального социопространства. Став симулякром духовности в процессе модерной трансформации, собор превратился в объект вожделения «романтического» туризма. Выведение его из традиционного культурного круга–пространства привело к тому, что он стал частью машинного мира, в котором присутствуют иные техники функционирования. Нотр–Дам осиротел вследствие забвения бытия, покинутости, в котором нет больше мастера. Пожар – это, прежде всего, следствие технизации человеческого сознания и «взбесившегося» автомата. Каменотес и плотник не смогли сделать то, что сделали электроприборы.
М. Хайдеггер в своей работе «Вопрос о технике» устанавливает принципиально важную связь между «техне» (искусство, произведение мастера), «фюсис» (природа) и «пойесис» (про–из–ведение), нарушение которой чревато непредвиденными последствиями: «Когда–то не только техника носила название "техне". Когда–то словом "техне" называлось и то раскрытие потаенного, которое выводит истину к сиянию явленности. Когда–то про–из–ведение истины в красоту тоже называлось "техне". Словом "техне" назывался и "пойесис" изящных искусств. В начале европейской истории в Греции искусства поднялись до крайней высоты осуществимого в них раскрытия тайны (именно благодаря важной связи трех понятий. – А. К.). Они светло являли присутствие богов, диалог божественной и человеческой судьбы. И искусство называлось просто "техне". Оно было одним, единым в своей многосложности, раскрытием потаенного. Оно было благочестивым, πρόμος, т. е. согласным голосу и молчанию истины. Искусства коренились не в художественной сфере. Их произведения не были объектом эстетического наслаждения. Искусство не было фронтом культурного строительства. Чем было искусство? Пусть на краткое, но высокое время? Почему оно носило скромное и благородное имя "техне"? Потому что оно было являющим и выводящим раскрытием потаенности и принадлежало тем самым к "пойесису". Это слово стало в конце концов именем собственным того раскрытия тайны, которым пронизаны все искусства прекрасного, – поэзии, созидательной речи».
Понятие по–става как «собирающе[го] начал[а] того устанавливания, которое ставит человека на раскрытие действительности способом поставления его в качестве состоящего–в–наличии» поднимает ремесло и технику на уровень экзистенциально важных составляющих раскрытия мира: «Существо современной техники ставит человека на путь такого раскрытия потаенности, благодаря которому действительность повсюду, более или менее явно, делается состоящей–в–наличии. […] По–став есть миссия, сосредоточивающая на добывающе–производящем раскрытии сокрытого»31. Это значит, что человек ничего не может изменить в своей принадлежности к технической эпохе, являясь ее неотделимой частью, ее произведением: «человек произошел от камня» Слотердайка, но он может изменить свое отношение к технике, а значит и к ремеслу. Для темы ремесла данные мысли важны тем, что они по–став–ляют ремесло в контекст не только практического ремесленного знания, но и этических и социальных компетенций, направленных на производство полезного – «техне», в рамках понятия фроне́зис (греч. φρόνησις), используемого Аристотелем. Последнее определено им как «суждения, способствующие действию по поводу вещей, хороших или плохих для человека, способность принимать верные решения; хорошее, полезное для человека, [о том,] какие [вещи являются благами] для хорошей жизни»32.
В отношении ремесла это означает, что производственная деятельность сама по себе не является самоцелью, она лишь функция, техническая задача. Целью любой деятельности или поступка может быть только добро, т. е. в нашем случае производство полезных вещей. Применяя данное положение к методологии обучения (соотношение мануальных и когнитивных практик) и формам образования (структурирование образовательного и институционального пространства), возникает вопрос о влиянии цифровизации и виртуализации в процессах обучения, ведущих к симуляции действительности, а в конечном итоге и к потере творческих навыков созидательного труда, креативного мышления. Становится очевидным, что от решения вопроса о месте и значении «ремесла» в современном обществе непосредственно зависит рождение инноваций и создание инновационной экономики, основывающейся на креативности ее акторов. Модель ремесленной мастерской и мастера может послужить прототипом создания креативного пространства, а ремесленные практики могут стимулировать создание креативной личности. Данная модель учитывает механизмы обучения и обучаемости, заложенные всем предшествующим эволюционным развитием, где мультимодальное обучение: цифра и мануальные практики, работающие в рамках дискурса обучающего пространства, обеспечивают оптимальный образовательный процесс. Здесь классное пространство несет на себе функцию мастерской–лаборатории, а книги, тетради, письменные принадлежности, учебные пособия, инструменты и рабочие материалы – роль предметов, опредмечивающих окружающее пространство. Во взаимодействии с ними приобретаются необходимые навыки обращения и общения с окружающим миром. Мы исходим из того, что инновации рождаются там, где в буквальном смысле что–то делают руками в команде. В применении к обучению в истории, можно привести в пример игру, тематизирующую советскую историю 1930–х годов, разработанную К. Д. Бугровым для студентов департамента Исторический факультет Уральского гуманитарного института в 2016 г.



