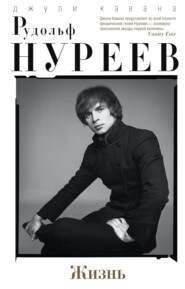скачать книгу бесплатно
«Совсем как в голливудском фильме»
Едва сойдя с поезда и еще не зная, где он проведет свою первую ночь в Ленинграде, Рудольф отправился к хореографическому училищу на улице Зодчего Росси, одной из самых красивых улиц города.
Улица ведет от Александринского театра (тогда театра Пушкина) к площади Ломоносова и состоит из зданий в неоклассическом стиле, построенных по единому проекту с одинаковыми фасадами, так что создается впечатление, что на каждой стороне улицы по одному зданию. Улица уникальна своим точным следованием античным канонам – ее ширина равна высоте образующих ее зданий. «Знаете ли вы, – заметил хореограф Федор Лопухов, – что, когда идешь по этой улице к театру, колонны зданий буквально начинают танцевать?» Карло Росси, создатель улицы, которая до 1923 г. называлась Театральной, был сыном итальянской балерины, и его строгая линейность отражена в собственной эстетике Санкт-Петербургского Императорского театрального училища (в те годы – Ленинградского хореографического училища, ныне Академии русского балета имени А. Я. Вагановой). «В московской архитектуре нет порядка, в ней нет стиля, – сказал однажды Рудольф. – В Ленинграде все время видишь красоту. Как в Италии. Даже когда дворник подметает улицы, он видит всю красоту вокруг».
Войдя в двойные деревянные двери, Рудольф с благоговением смотрел на черно-белые снимки великих советских хореографов, Рудольф сам не знал, что ожидал увидеть – может быть, венки Павловой, Карсавиной и Нижинского? В конце концов, все они именно там начинали свой жизненный путь. Но он увидел только уборщиц и маляров: здание ремонтировали перед новым учебным годом. Разыскав директора, «товарища Шелкова», он высокопарно представился: «Рудольф Нуреев, артист Уфимского театра оперы и балета. Я хотел бы здесь учиться». Шелков сообщил, что он приехал слишком рано; пусть возвращается через неделю, и его экзаменуют.
Узнав о неожиданной отсрочке, Рудольф отправился в гости к Анне Удальцовой, своей преподавательнице из Уфы, которая приехала в Ленинград на лето. Ее дочь, врач-психиатр, жила в большой квартире на Огородниковом проспекте, и хотя казалось, что родни там больше, чем комнат, семья предоставила Рудольфу отдельное пространство – детскую кроватку, в ногах которой поставили стул, чтобы можно было вытянуть ноги. Он наслаждался домашним уютом; его баловали и хорошо кормили. Сестра Удальцовой в свое время была замужем за процветающим московским купцом, и в квартире еще сохранились остатки прежнего богатства: роскошная мебель и картины европейских мастеров, которые семье удалось сохранить. Рудольфу рассказали, что в годы революции Елена Ивановна прятала драгоценности под платьем: «Куда бы она ни шла, муж следовал за ней с пистолетом и никогда не выпускал ее из виду». Семья оставалась очень религиозной; в каждой комнате стояли старинные иконы. «Рудольф наслаждался атмосферой, хотя никогда не ходил с нами в церковь и сам не был верующим». Больше всего ему понравилось, что в квартире есть пианино; дочь Удальцовой вызвалась давать ему уроки. Кроме того, он поддерживал форму, делая упражнения на большой кухне под зорким присмотром Анны Ивановны.
После обеда она водила его на прогулки вдоль канала Грибоедова и по набережной Фонтанки, вспоминая танцоров, которых она видела, и жизнь до революции. Однако большую часть той недели Рудольф провел в одиночестве. Он с утра до ночи смотрел достопримечательности. Ничто, даже величие московской Красной площади и сокровища Московского Кремля, не подготовило его к красоте Ленинграда. Санкт-Петербург стал мечтой, воплощенной в жизнь Петром Великим, который приказал возвести город там, где прежде были одни болота, над которыми летали птицы. Волшебство города напоминает театральную декорацию – лепные фасады выкрашены в голубой, розовый и желтый цвета; мерцают золотые шпили, купола и орлы; мосты в стиле модерн и резные решетки; изысканная лепнина и херувимы в итальянском стиле, которых можно увидеть даже на стенах самых ветхих, полуразвалившихся домов. В музее Эрмитаж, который разместился в Зимнем дворце работы Растрелли, самом по себе произведении искусства, Рудольф впервые открыл для себя французских импрессионистов и итальянскую живопись эпохи Возрождения – «это стало для меня настоящим откровением». Жадно желая большего, он сел на электричку и поехал в Петродворец (Петергоф), русский Версаль. Дворцовый ансамбль стоит в парке, красивее которого он в жизни не видел. Позже он влюбился в английские ландшафтные сады Павловска, дворцового комплекса к югу от города, который Екатерина II приказала построить для своего сына.
25 августа Рудольф снова пришел в училище, где его ждал экзамен. Экзамен принимала Вера Костровицкая, лучший, по его мнению, педагог в России, которая развила и усовершенствовала систему Вагановой. Она, с большими глазами и крючковатым носом, напоминала ему Павлову. Танцуя, Рудольф чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Когда он закончил последний аншенман (комбинацию движений), она подошла к нему и громко объявила: «Молодой человек, вы можете стать блестящим танцовщиком, а можете и никем не стать». Позже она повторила свое предсказание в группе студентов: «Это очень талантливый мальчик. Он либо станет великим танцовщиком, либо вернется в Сибирь». Его приняли, но Рудольф прекрасно понял, что имела в виду Костровицкая: его спонтанный, неповторимый стиль шел от сердца, но ему недоставало четкости и внутренней сосредоточенности. «Я должен работать, работать и работать – больше, чем все остальные».
В первый день учебного года, 7 сентября 1955 г., бледному 17-летнему юноше в тонком свитере, туго подпоясанном большим ремнем, подчеркивавшим его узкую талию, который уместил все свои пожитки в небольшой сумке, показали его жилье – большую и светлую комнату в общежитии, которую предстояло делить с девятнадцатью другими студентами. Соседей Рудольф предпочел игнорировать. «Он не поздоровался, не спросил, как дела. Он вообще не смотрел на нас, а сразу прошел к своей кровати». Утром, чтобы не завтракать с соседями по комнате, Рудольф полчаса прятал голову под одеялом, пока остальные вставали. Дни были долгими; иногда учеба заканчивалась в семь вечера. Помимо классического и народного танца студенты изучали и общеобразовательные дисциплины. Первые уроки балета вселяли в него ужас, но стали облегчением. Он столько слышал в Уфе о гениальном Александре Пушкине, который учил Халяфа Сафиулина и первую группу башкирских танцовщиков! Теперь он был руководителем восьмого класса. «Они говорили: «Там есть Пушкин, и учиться нужно только у него». Однако, к его разочарованию, Рудольф узнал, что его записали в шестой класс к Валентину Ивановичу Шелкову, тому самому приземистому директору, с которым он познакомился в свой первый день в Ленинграде. Хотя Шелков сам учился у Пушкина, ему не передались навыки маэстро, умевшего тактично направлять, а не подталкивать студентов, а его сухость и официальность превращали даже самые лиричные упражнения в военную муштру. Стараясь скомпенсировать свои недостатки, Шелков набирал в свой класс самых талантливых студентов. Вот почему Рудольф оказался у него. Но, как бы ни старался талантливый юноша, он не мог угодить педагогу. «Шелков очень третировал меня. Бывало, он говорил [Никите] Долгушину, Саше Минцу и другим: «Вот молодец!» – а мне говорил: «Ты провинциальный дурак!» Это было очень грубо». Кроме того, Шелков был ханжой, поскольку сам приехал в Ленинград из маленького уральского городка. И хотя именно он добился для Рудольфа полной стипендии от башкирского Министерства культуры, им двигал не альтруизм, а своекорыстие: больше всего на свете он любил коллекционировать почетные звания из разных регионов. Хитрый и скользкий, как и предполагала его фамилия, Шелков был «совершенным советским продуктом». Рудольф прозвал его «Аракчеевым» (жестокий и льстивый политик эпохи Александра I). Когда он не издевался над скромным происхождением Рудольфа, он напоминал, что Рудольф оказался в школе только благодаря его милосердию и милосердию государства.
Таким же разочарованием оказались общеобразовательные предметы. В последние годы в Уфе Рудольф учился в школе рабочей молодежи, и его образование не могло сравниться с тем, которое получили его одногруппники из Ленинграда. Он совершенно терялся на уроках математики и естествознания; он плохо знал грамматику и орфографию русского языка. С диктантами ему обычно помогала миниатюрная блондинка по имени Марина Васильева; она стучала себя по плечу один раз, когда нужно было ставить запятую, дважды для точки с запятой и так далее. Если девушка, сидевшая между ними, загораживала Марину, Рудольф шипел на нее: «Инна Скидельская, ну-ка, подвинься!» Зато в тех предметах, которые его интересовали, он добивался лучших оценок. Музыку у них, среди прочих, преподавала сестра Шостаковича, педагог по живописи был куратором Эрмитажа, а литературу преподавали на университетском уровне. Ее вела большая ленинградская любительница балета, которая всегда носила длинные, до пола, юбки. «Она идеально читала по-английски и рассказывала нам о Дюма и Гете. Слова лились из нее потоком».
Но в то время Рудольфа интересовали только герои-одиночки и крайние эмоции Достоевского. Как он признавался позже, «я всегда склонен был отвергать в жизни все, что не обогащало или прямо не влияло на мою единственную главную страсть». Он считал, что важнее впитать все, что можно, из тех видов искусства, которые способны обогатить его исполнение. Своеобразные взгляды отразились в его табеле за первый год обучения. Рудольф получил две пятерки по истории музыки и истории балета; по исполнительскому мастерству, классическому и народному танцу ему поставили четверки, как и по геометрии, английскому, химии и физике; по литературе, истории и географии он получил тройки.
«Когда Рудольф приехал в Ленинград, на уме у него было только одно: усовершенствовать свой танец, – сказал Серджиу Стефанеску, живой круглолицый румын, чья койка стояла рядом с койкой Рудольфа. – Мы разговорились, и оказалось, что у нас много общего: мы оба только начинали, наши однокурсники продвинулись гораздо дальше. Он знал, что я хожу на дополнительные занятия; бывало, он возвращается в общежитие и говорит: «Ну, что ты делал? Давай, рассказывай!» – и я рассказывал. Мы как будто вели деловой разговор. После 23.30, когда нам положено было ложиться спать, он говорил: «Давай потренируем пируэты». Мы ждали, пока бабушка обойдет все комнаты, – мы терпеть ее не могли, она была аппаратчицей, как Шелков, – и начинали танцевать. Я обожал балет, и он обожал балет. Ни о чем другом мы не говорили».
По одежде Рудольфа – брюки были ему коротки – Серджиу понял, что он не из привилегированной семьи. Когда он поддразнивал Рудольфа, тот тут же вспыхивал и обзывал Серджиу «богатым буржуем». «Чтобы позлить его, когда он хотел танцевать, я с головой укрывался одеялом и говорил: «Оставь меня в покое, башкирская свинья». Рудик тут же превращался в бешеного быка; он кусался и сбрасывал меня на пол».
Такие вспышки лишь усиливали благоговение Серджиу перед молодым бунтарем: «Обычно я держался немного позади Рудика. Я был его эхом». Серджиу, которого один коллега назвал «более падким на приключения, чем все остальные», охотно участвовал во всех проделках; их с Рудольфом объединяли такие же отношения, какие в Уфе связывали его с Альбертом Аслановым – они были как братья-близнецы, апостолы культуры и красоты. «Мы считали, что главное в жизни – искусство, драматургия, музыка… Мы постоянно испытывали культурный голод». Они ходили на концерты в филармонию; смотрели постановки Шекспира в Театре имени Горького; и, чтобы изучить другие театральные техники, даже сидели на посредственных пропагандистских спектаклях в Театре имени Пушкина, поставленные тамошним худруком, который «продал душу дьяволу».
Через вечер они ходили на балет. «Нужно было быть в списке, чтобы пройти, но мы как-то умудрялись пробираться в зал; иногда назывались вымышленными именами». Позже бабушки, которые дежурили в коридорах Театра имени Кирова – они вязали или штопали пуанты балеринам, – стали узнавать их в лицо и пропускали на спектакли. На следующее утро они часто обсуждали тот или иной спектакль с Мариэттой Франгопуло, хранительницей музея училища. Дверь в музей всегда была открыта, и Франгопуло, по-матерински добрая женщина, гречанка по происхождению, преображавшая свою массивную фигуру с помощью шикарной европейской одежды и украшений в стиле модерн, сидела в окружении галереи балетных фотографий и витрин с реликвиями. «Она была нашей богиней. Она была очень эрудированной и видела на сцене абсолютно всех!» Именно Франгопуло передала Рудольфу культ Баланчина, своего одноклассника, который продлился у него всю жизнь. «С глазу на глаз, никогда не перед всем классом», она делилась своими воспоминаниями о первых попытках юного Георгия Баланчивадзе стать хореографом. Но Франгопуло, которая в годы Большого террора сидела в лагере, остерегалась говорить при всех об артисте, чье имя в те годы (Сталин умер лишь несколько лет назад) можно было произносить лишь шепотом.
К тому времени Рудольф уже открыл для себя небольшой нотный магазинчик на Невском проспекте, напротив Казанского собора. В углу стояло пианино, на котором покупатели могли проиграть произведение, прежде чем приобрести ноты. Иногда за пианино садилась директор магазина, сама выдающаяся пианистка, бывало, она ставила пластинку. Рудольфу сразу понравилась Елизавета Пажи, невысокая, пухлая веселая женщина с тугими седыми кудряшками. Она оказалась отличным товарищем – добрая, культурная, с чувством юмора – и у него вошло в привычку болтаться вокруг магазина до закрытия, а потом провожать ее до трамвайной остановки и нести ее сумки. Обвороженная этим энергичным юным студентом с лучезарной улыбкой и в поношенном гоголевском пальто, Елизавета Михайловна обещала найти ему преподавателя, который будет давать ему уроки игры на фортепиано бесплатно. Ее близкая подруга Марина Савва, концертирующая пианистка из Малого оперного театра, была еще одной доброй, интеллигентной, бездетной женщиной, разменявшей шестой десяток. Она и ее муж, скрипач в оркестре, пригласили Рудольфа к себе домой, и за четыре недели благодаря мягкому упорству Марины Петровны Рудольф сделал мощный рывок. Если раньше его высшим достижением был подбор по слуху одним пальцем мелодий из «Спящей красавицы», то теперь он исполнял элегию Рахманинова.
Он начал читать ноты ради удовольствия; иногда он затевал игру со своей одноклассницей Мариной, пряча фамилию на обложке и заставляя ее угадывать композитора по нотам. Он хранил растущую коллекцию нот под матрасом и зорко охранял ее. «Кто-нибудь их трогал?» – приставал он, бывало, к Серджиу, возвращаясь в общежитие. Шелков сильно ругал Серджиу за ночные прогулки и предупреждал его: «Если будешь как Рудольф Нуреев, то живо вылетишь из училища». И теперь все чаще Рудольф уходил один. Считая посещение спектаклей важной частью своего образования, он решил посмотреть обновленную версию «Тараса Бульбы», балета в трех действиях по Гоголю. Вернувшись в школу около полуночи, он увидел, что с его кровати сняли матрас, а со стола забрали продукты. Остаток ночи он провел на подоконнике, а на следующее утро пошел на Огородников проспект завтракать с семьей Анны Удальцовой, пропустив первый урок. О его отсутствии и последующей грубости учителю, который требовал объяснить, почему его не было на уроке, донесли руководству, и вскоре Шелков вызвал его к себе и устроил выговор. Требуя назвать фамилию друзей Рудольфа, Шелков выхватил у него записную книжку, из-за чего Нуреев бегом вернулся в общежитие, «как дикий зверь», взбешенный таким покушением на его личную жизнь. «Вот сволочь! – крикнул он Серджиу. – Он фашист! Ну почему он не может быть человеком?»
Приблизительно через неделю после этого случая Рудольф пришел на прием к художественному руководителю училища Николаю Ивановскому и, не жалуясь напрямую на Шелкова, сказал: «Знаете, мне уже семнадцать. Если я пробуду в классе Шелкова еще три года, после выпуска меня сразу призовут в армию. Можно мне перейти в класс Пушкина?»[3 - В своей автобиографии Рудольф пишет, что такой разговор состоялся у него с Шелковым, а не Ивановским – возможно, потому, что это придает истории драматичности.]
Утонченный, как будто из романов Пруста, персонаж, который носил элегантные костюмы и бархатные туфли, Ивановский читал лекции по истории балета и считался одним из самых почитаемых и любимых преподавателей училища. «Никто еще не обращался к нему с подобной просьбой, – вспоминает бывшая студентка Марина Вивьен. – Никто раньше не просил поменять педагога. Но Ивановский был человеком великодушным и интеллигентным. Должно быть, он разглядел талант Нуреева и не позволил Шелкову сделать то, что тот хотел – исключить юношу. Он одержал верх над Валентином Ивановичем, и Пушкин забрал ученика своего ученика».
С того мгновения, как Рудольф вошел в студию в мансарде, куда через огромные круглые окна проникали косые лучи солнца, он стал относиться к занятиям у Пушкина как к «двум священным часам». Невозмутимый, похожий на жреца, маэстро говорил тихо и по существу, не давая сложных словесных распоряжений, хотя ученики приучились различать, когда тому что-то не нравилось, по румянцу, который медленно заливал его лицо снизу, от шеи. «У него изменялся цвет лица, но голос – никогда». Повесив пиджак на спинку стула, оставшись в обычных белой рубашке и галстуке, лысеющий 48-летний Пушкин демонстрировал элементарные, но великолепно смотрящиеся комбинации, в которых казалось, будто каждое движение органично перетекает в следующее. И пусть он наполовину поседел и спина у него сгорбилась; он демонстрировал ту самую технику рубато, когда исполнение отклонялось от заданного темпа, и гармоничную координацию всего тела, которой он научился у своего учителя, Владимира Пономарева. «Он работал в русле великой традиции, которая передавалась от одного мастера к другому», – сказал Михаил Барышников, который всегда утверждал, что своими достижениями он обязан Пушкину.
Многие новички в его классе не находили ничего особенного в методике Пушкина, не понимая, что его тайна – в простоте, что в ней разгадка внутренней логики и естественных комбинаций танцевальных па. Для Рудольфа, который прошел через холодные конфигурации Шелкова, каждый урок Пушкина казался опьяняющим, как спектакль: «По-своему неотразимый. Очень со вкусом, очень вкусный». Считая, что надо дать новичку возможность освоиться и понять азы того, что он делает, Пушкин первые несколько недель почти не смотрел на Рудольфа, но, несмотря на то, что на него как будто не обращали внимания, Рудольф с первого занятия понял, что принял правильное решение. Много лет спустя он признавался знакомой: если бы он не перешел в класс Пушкина, он бросил бы балет, «потому что Шелков все во мне подавлял».
Вне училища Рудольф очень сблизился с Елизаветой Пажи, которая регулярно приглашала его к себе домой ужинать после того, как закрывала магазин. Ее муж, Вениамин Михайлович, был инженером, тихим бородатым человеком, любившим стихи Серебряного века, которые он обычно читал Рудольфу после ужина. Юноша ощущал сладость запретного плода: он открывал для себя русских символистов XIX в., которых не проходили в школе, а только высмеивали как эмигрантов и считали декоративными и неглубокими. Любимыми поэтами Рудольфа стали звучный, доступный Константин Бальмонт и более витиеватый Валерий Брюсов. Их объединял космополитизм. Именно эти качества, вместе с технической виртуозностью, музыкальностью и отношению к искусству как своего рода божественному откровению, высоко ценил молодой танцовщик.
Рудольф старался не пропускать вечера у новых друзей, и супруги Пажи очень привязались к нему, но он начал замечать, насколько Елизавета Михайловна зависела от его визитов в магазин, как она расстраивалась, если ему не удавалось прийти. Он угадывал «что-то достоевское» в силе ее чувств, которые начинали его душить. «Наверное, Лиленька немного влюбилась в Рудика. Она была так очарована им». Неожиданно для себя он понял, что ему недостает общества сверстников, и написал открытку своему уфимскому другу Альберту («В честь нашей дружбы. Прошло 12 лет с тех пор, как мы познакомились»). Кроме того, он отправил несколько «нежных» писем Памире (после того, как она вышла замуж, родственники их уничтожили). В них Рудольф описывал спектакли, которые видел, прогулки по Ленинграду и музеи, которые он посетил. Памира помнит одно длинное письмо, посвященное Эрмитажу. «В другом он рассказывал о своей страсти к музыке Прокофьева. Я сразу поняла, что он довольно одинок».
Во время коротких осенних каникул Рудольф решил на несколько дней съездить в Уфу. Дома, на улице Зенцова, он увидел, что семья живет так же стесненно, как раньше, хотя качество жизни немного улучшилось. Хамета повысили, и он стал начальником охраны на заводе, а Роза была уже самостоятельной; она работала воспитательницей детского сада в маленьком башкирском городке. В семью вошел молодой муж Лили; они оба отдавали зарплату родителям. Лиля работала портнихой, а Фанель, тоже слабослышащий, был носильщиком и разнорабочим. Только Резеда еще училась. Она хотела стать геологом, но на сей раз Фарида отговорила ее от неподходящей профессии («лазить по горам» – не та профессия, которой можно хорошо зарабатывать, настаивала она). Резеда решила поступать в Уфимский технический институт, и отец одобрил ее планы: «Он сказал, что это, должно быть, мое призвание. Он знал, что я с детства была сорванцом и всегда любила механические игрушки». Когда неожиданно приехал Рудольф, Фарида встретила его с радостью – она не ожидала так скоро увидеть сына дома. Зато Хамет казался таким же бесстрастным, как всегда: «Отец не любил демонстрировать свои чувства. Он держал внутри и хорошее, и плохое. Его отношение к отъезду Рудольфа в Ленинград было таким: «Ну, уехал, и ладно. Еще посмотрим, что из этого выйдет». На самом деле Хамет значительно сдал с тех пор, как Рудольф видел его в последний раз, и очень помягчел. Он знал, что на работе его уважают, и, поскольку работа не требовала больших усилий, он увлекся садоводством. Жадно читал любую подходящую литературу и, перейдя от теории к практике, разбил небольшой садик на окраине старой Уфы, где выращивал овощи и фрукты, в том числе более двадцати сортов яблок.
По воскресеньям все должны были работать в саду, но Рудольфу удалось сбежать. Он пошел навестить Алика Бикчурина, который так помог ему во время Декады литературы и искусства Башкирии. Алик, закончив обучение в Ленинграде, вернулся домой: «Вся семья копала картошку, а Рудольфу хотелось поговорить о балете». Он старался как можно больше времени проводить с Альбертом, которого недавно приняли в балетную труппу Уфимского театра, и они вместе ходили навещать Ирину Воронину, по которой Рудольф очень скучал.
«Он сыграл одну пьесу, что стало сюрпризом для всех нас», – вспоминает Альберт. «Ты играешь лучше, чем те, кто прозанимался целый год», – сказала ему Ирина Александровна.
И после возвращения в Ленинград однокурсники продолжали считать Рудольфа чужеродным телом; он вел другое существование и интересовался только музеями, театрами, филармонией, книгами по искусству и нотами. «Он казался всем каким-то фанатиком, – сказал Александр Минц. – Никто не знал, как с ним себя вести. Поэтому от него держались подальше». Он уже был окружен дурной славой. Один молодой сотрудник театрального музея слышал от своей начальницы, критика Веры Красовской, что «в классе Пушкина появился один ученик – татарин, который ест только конину. Он фантастически талантлив, но у него тяжелый характер и поэтому его ждет трудная судьба». Соученики не могли поверить, что, даже перейдя в класс Пушкина, Рудольф часто действовал вопреки наставнику. Серджиу вспоминал: «Пушкин ставил адажио у станка, а Рудик часто не слушался и делал только то, что хотел. Остальные заканчивали, а он держал ногу на тридцать два счета впереди и тридцать два счета вбок». «Почему ты не делаешь то, что ставит Александр Иванович?» – спрашивал его я. «Не будь дураком, – отвечал он. – Я не такой сильный, как другие ребята. Я должен нарастить мускулатуру».
Пушкин никогда не делал Рудольфу выговоров; он старался научить танцовщиков распознавать свои достоинства и свои границы – дать им то, что Барышников называет «мыслью о самообразовании»: «В его классе можно было видеть мальчиков, даже подростков, которые выполняют индивидуальные упражнения… Разные люди говорят по-разному, со своими особенностями. В балете то же самое: нужно найти эту индивидуальность, внутреннее понимание фразы. Пушкин учил ребят самих принимать решение: он творил думающих танцовщиков».
Раз за разом Рудольф возвращался в пустой класс и выполнял элементы, которые у него не получались, до тех пор, пока все не выходило идеально. Досада была самой частой причиной его вспышек, и успокоить его мог только Пушкин. Другие преподаватели в отчаянии обращались к нему со словами: «Саша, сделай что-нибудь!» – и Александр Иванович шел и говорил: «Рудик, нельзя так себя вести. Попробуй пируэты… это тебя успокоит». Тогда Рудик затихал и продолжал репетицию». Он часто становился худшим на отработке па-де-де – «настоящей пытке для него», – потому что ему еще не хватало силы и координации, необходимых для парного танца. Кроме того, почти никто из девушек не хотел вставать с ним в пару, потому что он был худым, не особенно симпатичным в то время, зато обладал большим самомнением. Чаще всего его партнершей оказывалась одна из самых легких девушек, Марина Васильева. Однажды, после того как он безуспешно пытался выполнить поддержку, Рудольф бросил партнершу на пол, схватил полотенце и выбежал из класса. «Костровицкая пришла в ярость и велела ему больше не приходить. Он часто ругался во время уроков, а мы делали вид, что ничего не замечаем. Позже он старался сдерживаться, особенно когда рядом были девушки. Вначале он был более необузданным. Мало-помалу он совершенствовался».
С точки зрения техники Рудольф прогрессировал так стремительно, что коллеги видели его успехи со дня на день. Тем не менее Пушкин решил не включать его в студенческий концерт, считая, что он еще не готов. Придя в отчаяние, Рудольф упрашивал преподавателя позволить исполнить для него динамическую мужскую партию из па-де-де Дианы и Актеона (балет «Эсмеральда»), над которым он работал один, надеясь, что это поможет ему переубедить Пушкина. Это вариация в героическом советском стиле, которую в 1930-х гг. заново поставил премьер Кировского балета Вахтанг Чабукиани, чтобы продемонстрировать свои виртуозность и динамизм. И в тот вечер в студии, глядя, как Рудольф в финале совершает диагональные прыжки, как он исполняет сложные комбинации, изогнувшись и запрокинув голову, Пушкин невольно подумал, что перед ним – реинкарнация самого молодого Чабукиани. Все было решено: Пушкин согласился выпустить Рудольфа на сцену, и весь 1956 г. Рудольф продолжал выступать с сольными партиями и в дуэтах на студенческих концертах.
В январе того же года Хамет прислал в училище письмо, в котором просил отпустить Рудольфа на каникулы в Уфу: «Если можно, позвольте ему задержаться на каникулах». После последнего приезда Рудольфа домой отношения с отцом заметно улучшились. Через несколько недель Рудольф постарался найти поздравительную открытку с собакой, очень похожей на Пальму, и, судя по надписи, очень старался угодить: «Надеюсь, ты доволен своим садом, хорошо отдыхаешь и летом поедешь на охоту». Хамет намеренно адресовал просьбу наставнице сына, Евгении Леонтьевой, спокойной женщине с мягким характером, которая, наверное, и согласилась бы, если бы не была обязана спросить разрешения у Шелкова, который поперек просьбы начертал: «Отказать!» «Директор так и не простил меня, – сказал Рудольф. – Я был нужен ему в любое время».
«Каждый день мы узнавали об очередной «выходке» Рудольфа. О том, как он одевался, что говорил, что ему нравилось». Но, что бы Шелков ни делал, ему не удавалось сломить Рудольфа. Так, он отказался вступать в комсомол, где состояли почти все его соученики; он нарушал бесчисленные правила внутреннего распорядка. Студентам положено было носить балетные костюмы в специальном чемодане; свои костюмы Рудольф всегда носил в руках, а в конце дня кидал их на койку. Шелков фанатично следил за тем, чтобы соблюдались старые традиции Императорского училища: воротнички должны быть белыми и застегиваться до шеи; ученики должны останавливаться и кланяться, если встречают в коридоре кого-либо из преподавателей. Однажды, когда Рудольф прошел мимо него без традиционного поклона, директор подозвал его к себе и, схватив за волосы, снова и снова пригибал ему голову, крича: «Поклон! Поклон! Поклон!» «Шелков был настоящим садистом. Мы все считали, что он гомосексуал», – сказал Эгон Бишофф, ровесник Рудольфа, который считает, что суровость Шелкова по отношению к молодому татарину, возможно, объясняется подавленным чувством вины, вызванным физическим влечением к юноше, что подтверждали и другие студенты. «Шелков любил вызывать его к себе в кабинет и вести с ним долгие разговоры о сексе, – вспоминает Александр Минц. – При этом он испытывал какое-то садистское удовольствие».
Весной 1957 г. Рудольф переехал из большой комнаты в другую, поменьше. Его соседями были Серджиу Стефанеску и еще три сокурсника: Эгон Бишофф из ГДР, Лео Ахонен из Финляндии и Григоре Винтила из Румынии. Рудольф, студент из Башкирии, казался чужаком и выходцам из Восточной Европы. «Я был захватчиком. Чужаком из провинции». Их новая комната находилась на первом этаже, и во время белых ночей в начале лета, когда главную дверь запирали «большими тюремными ключами», они часто вылезали в окно и шли на улицу Росси. «Мы любили танцевать на улице», – говорит Серджиу, описывая радостные гран жете и вращения, которые исполнял Рудольф вокруг Александровской колонны на огромном, пустом пространстве Дворцовой площади.
Напротив в коридоре находилась маленькая коммунальная кухня, которую они делили с девочками, но Рудольф никогда не покупал еду и не готовил, как другие: он питался в столовой, потому что там кормили бесплатно. Не ходил он и к девочкам послушать граммофон, где игрались пластинки Билла Хейли, которые Лео привез в Ленинград, – «Рудольф не интересовался этим, он предпочитал филармонию». Часто, вместо того чтобы пойти на спектакль в Кировский театр, как другие, Рудольф вел себя избирательно: смотрел один акт, а потом уходил и успевал на второе отделение какого-нибудь концерта. Уже в училище он был гиперактивным «ветряком», каким он оставался всю жизнь. «Когда мы играли, он работал. Для него только одно было важно: учиться классическому балету. Он понимал, как мало времени у него есть, чтобы попасть туда, где он должен был находиться, и запаливал свечу с обоих концов. Что бы он ни учил днем, ему хотелось все обдумать ночью. В комнате он всегда тренировался. Это было его домашнее задание». Поскольку почти каждый вечер он смотрел спектакли, Рудольф жил в другом ритме по сравнению с остальными. Как в первое утро, он лежал, с головой укрывшись тяжелым одеялом, и отказывался вставать к завтраку, а перед уходом в класс только пил чай прямо из носика старого чайника, стоявшего на кухне. «Сон для него был важнее еды». Пять соседей в комнате никогда не рассказывали друг другу о своей прошлой жизни. Григоре Винтила вырос в румынском сиротском приюте и «чувствовал себя таким же одиноким, как Рудольф», однако ни один из них не знал о прошлом другого. Единственный раз все поняли, что у Рудольфа есть родственники, когда однажды в училище пришла его сестра Роза и попросила позвать Рудика. Когда позже он вернулся в комнату и увидел, что у него на койке сидит сестра, он не скрывал раздражения. «Таких сюрпризов он не любил».
У соседей по комнате Рудольф пользовался таким авторитетом, что им казалось, будто он гораздо старше. «Когда он говорил, что пора спать, все засыпали, – говорит Лео, который однажды написал письмо своему кумиру, напоминая о совместных днях в общежитии: «Твой разум был тогда лет на десять более развитым, чем у всех нас, остальных… Каждый из нас имел свое глупое, детское мнение обо всем. Но, когда ты, наконец, высказывал свою точку зрения, все с ней соглашались, и разговор заканчивался… Я приехал с «Запада» и все понимал по-другому, не так, как остальные. Я всегда думал: как жаль, что многие считали тебя в школе «проблемой»… Когда твои ноги отдыхали на кровати (соседней с моей), руки у тебя работали над очередным пор-де-бра».
«Мы считали его невероятным, – соглашается Григоре, вспоминая, как однажды он разбудил Рудольфа среди ночи, чтобы попросить помочь со сложной связкой. – И вот мы репетировали в коридоре – в пижамах, без музыки». Даже лежа в постели, Рудольф часто репетировал движения с кастаньетами для роли. «Мы были не против: мы уважали его за трудолюбие. Он не хотел фальшивить». И хотя в училище не преподавали танцы народов России, Рудольф старался не забывать о своих корнях. Мурлыча себе под нос народные песни, которые он помнил по дому, он убеждал кого-нибудь из соседей сымпровизировать на пианино во время перемен, а он тогда «танцевал, как сумасшедший». Сочетая огненную страсть башкирского танца с восточной пластикой, он считал своими все знаменитые классические роли.
Даже когда поведение Рудольфа становилось невыносимым, ему все равно удавалось сохранить уважение соседей. Однажды ночью Рудольф вернулся в комнату в дурном настроении, которое еще больше ухудшилось, когда он увидел, что на соседней койке сидит Эгон и ест картошку, которую он только что пожарил. «Что ты делаешь?» – спросил Рудольф. «Неужели не видишь? Я ем». – «Что ты ешь?!» – воскликнул Рудольф и вдруг наклонился и плюнул Эгону в тарелку. «С ума сошел?» – крикнул Григоре, бросаясь Эгону на защиту, но Рудольф, все больше распаляясь, снял с ноги туфлю и швырнул ее в потолок. Он разбил лампу, и в комнате стало темно. Через несколько секунд они втроем катались по полу, дрались в темноте. Правда, вскоре они поняли всю нелепость ситуации и расхохотались.
В хорошем настроении Рудольф был приятным товарищем. Лео Ахонен увлекался фотографией, и однажды вечером они все позировали ему, натянув одеяло на стену в качестве задника.
Рудольф, обожавший фотографироваться, подражал Чабукиани из «Корсара», приняв знаменитую позу с голым торсом; он напряг бицепсы. Еще два мальчика спрятались у него за спиной; они втроем изображали шестирукое мифологическое существо. В другой серии фотографий Эгон, похожий на Ноэля Кауарда в полосатом халате и как будто с сигаретой, лежал на кровати поперек коленей Рудольфа. Когда Эгон для одного снимка взмахнул своими длинными голыми ногами, Рудольф заглянул ему в глаза и сжал ему щеки в «киношном» захвате, который выглядел более многозначительно, чем на самом деле. «На фото они только изображают гомосексуальность. На самом деле они были очень невинными». Через тридцать лет, отвечая на вопрос знакомого об одной фотографии, которую он по-прежнему хранил в бумажнике, Рудольф ответил: «Так мы представляли себе Запад». (Вполне возможно, подобные мысли навеял им немецкий фильм под названием «Петер», фарсовая комедия с переодеванием. «Для нас он стал большой сенсацией, потому что мы впервые увидели на киноэкране, как женщины курят и с нежностью смотрят друг на друга».) Все четверо настаивают, что в их спальне не велись обычные подростковые разговоры о сексе. «Может быть, нам добавляли что-нибудь в воду, как в армии. Девяносто процентов мыслей у нас было о балете». Почти все студенты знали, что в Екатерининском сквере перед Театром имени Пушкина по вечерам встречаются гомосексуалисты, но Рудольф не интересовался обсуждением этой темы. Однажды вечером, когда Серджиу срезал путь по скверу по пути назад, в училище, он увидел, как какой-то мужчина распахнул плащ и демонстрировал свое достоинство. «А тогда за подобные вещи сажали в тюрьму». В балетном мире, где о подобной стороне было хорошо известно – так, нетрадиционную ориентацию имел, среди прочих, и Чабукиани, – существовала некоторая вольность в отношениях. В 1957 г., когда танцовщик вернулся в Театр имени Кирова, чтобы выступить в «Отелло», он назначил своего любовника Яго, и почти все зрители заметили гомоэротическую сцену, когда мавр полз, как змея, к Яго, который пленил его, поставив ногу на грудь. «Я почувствовал, как сидящий сзади мужчина склонился надо мной, – вспоминал Серджиу. – Он был очень-очень привлекательным и очень возбужденным. В антракте он пригласил меня выпить».
Серджиу был одним из нескольких студентов, которые в училище экспериментировали с однополой любовью; он позволил Александру Минцу, который тогда тоже открывал собственные склонности, соблазнить себя в пустой гримерке. Товарищи Рудольфа убеждены: если он и испытывал влечение к кому-то из мальчиков, он ничего с этим не делал: «Он был слишком занят, потому что впитывал информацию, как губка». Даже Григоре Винтила, признанный красавец, не чувствовал особого внимания со стороны Рудольфа, который тогда, наоборот, больше интересовался девушками, чем другие. Лео вспоминает, что ему понравилась одна солистка «Финского национального балета», когда он приезжал на гастроли в Ленинград. «Танцевала она не блестяще, так что ему, наверное, понравилось хорошенькое личико». И, как почти всех в училище, его завораживала одна кубинка, соблазнительная, как молодая Джина Лоллобриджида, которой суждено было стать его первой и единственной юношеской любовью.
Мения Мартинес училась в Гаване, была ученицей Фернандо Алонсо, мужа знаменитой балерины Алисии Алонсо. Однажды она вдруг появилась в училище, как радуга под свинцовым ленинградским небом. Была середина зимы, однако на ней были тончайшие летние одеяния – безумные наряды 1950-х, вроде платья-трубы в «зебровую» полоску, водолазки, туфли на шпильке с открытым мыском и огромные серьги-кольца. Соседкам по комнате в общежитии она казалась яркой, как поп-звезда; они учились у нее краситься, слушали рассказы о жизни на Кубе; она пела хрипловатым голосом латиноамериканские песни. «Бывало, она сидела на скамейке у нас на кухне, поставив между ног перевернутый таз, и била в него, как в тамтам».
Хотя эта «экзотическая птичка» буквально притягивала к себе других студентов, некоторых преподавателей она шокировала. «Такому не место в нашем традиционном учреждении, – говорили они, по словам Урсулы Коллейн из ГДР, которая подружилась с Менией. – Надеюсь, Мения этого не узнала, но мы не раз слышали, как ее называли проституткой. Она нам всем ужасно нравилась, хотя ей не было свойственно наше прусское усердие – если в какие-то дни ей не хотелось заниматься, она просто не вставала с постели… Но она была такой обаятельной, что никто не мог ее долго критиковать».
Никто, кроме Шелкова. Однажды он вызвал Мению к себе в кабинет и сделал выговор, заявив, что в училище есть правила, связанные с одеждой и макияжем. Бросив испепеляющий взгляд на ее длинные, густо накрашенные ресницы, он язвительно спросил, свои ли они у нее. Мения, которая тогда знала по-русски всего несколько слов и на протяжении всей беседы хранила полную невозмутимость, кокетливо рассмеялась и ответила по-русски: «Нет! Магазин».
Несмотря на все свое легкомыслие, Мения серьезно относилась к политике. «Она была настоящей коммунисткой; очень большое влияние на нее оказали ее родители». Ее отец, бывший дипломат, стал преподавателем, который славился своим прогрессивным мышлением. Ее старшая сестра была замужем за редактором крупной коммунистической газеты. Вскоре ее муж, как и многие другие кубинские интеллигенты, представители среднего класса, оказался в числе самых влиятельных лидеров революции. Сама Мения в Ленинграде стала почти символом, красивым воплощением внешнего мира – «таким необычайным явлением в нашей серой жизни». Для того чтобы пообщаться с ней, в училище часто приходили «испанские дети», привезенные в Россию в годы гражданской войны в Испании.
Вскоре после приезда Мении в Ленинград, в конце 1955 г., ее педагог Наима Балтачеева (та самая, которая экзаменовала Рудольфа в Москве, в дни Декады литературы и искусства Башкирии), рассказала ей об «одном фантастическом танцовщике, он немного сумасшедший и еще сырой, ему нужно войти в форму». В то время Мения сама думала о том, чтобы стать педагогом. Она попросила у Пушкина разрешения присутствовать на занятиях его класса. «Потом я начала ходить туда из-за Рудольфа – а все думали, что я его девушка». Мении нравилась необузданность исполнения Рудольфа, а ему, в свою очередь, нравились афро-кубинские песни и народные танцы, которые Мения показывала на концертах в Доме культуры при училище. Какой соблазнительной она выглядела босиком, в развевающейся юбке! Сквозь тонкую черную майку в обтяжку просвечивал белый бюстгальтер. Полузакрыв глаза, она покачивала в такт стройными бедрами. А как хорошо она умела в одиночку держать сцену! «После он как-то признался: «Когда я танцую, я хочу ощущать то же самое, что и ты, когда ты поешь».
Приняв Рудольфа за «очередного глупого мальчишку», Мения вначале не испытывала к нему никаких романтических чувств. Еще на Кубе у нее был роман с женатым мужчиной, видным деятелем культуры; она тогда предпочитала мужчин постарше. «У них в доме постоянно бывали друзья ее отца, интересные люди, – говорит Белла Кургина, ближайшая подруга Мении в Ленинграде, с которой Мения делилась «тысячей шоколадных конфет», которыми ее одаривали поклонники. – Достаточно было взглянуть в ее огромные глаза, чтобы влюбиться». Примерно в начале 1957 г. они с Рудольфом начали привязываться друг к другу. Оказалось, что они – родственные души. Их смешило одно и то же – Рудольф часто высмеивал Шелкова, стоя неподвижно в «сталинской» позе и указывая на оскорбляющий его обрывок бумаги в коридоре, – и они любили слушать музыку и обсуждать прочитанные книги. «Я поражалась, откуда у него такая культура, такая восприимчивость? Откуда все это у провинциального мальчика из простой семьи?»
Мения и Рудольф никогда не говорили о политике – он ею просто не интересовался, – хотя тот период на Кубе можно назвать одним из самых бурных в истории острова: именно тогда повстанцы под руководством Ф. Кастро свергли режим Ф. Батисты. Зато Мения много рассказывала о своей семье и в свою очередь расспрашивала Рудольфа о его родных. Впервые Рудольф рассказывал кому-то из однокурсников о своем детстве. Он говорил о настоящем мужестве своей матери, вспоминал, как отец уговаривал его учиться играть не на пианино, а на аккордеоне. Мения тоже рассказывала о своих «ленинградских родителях», супружеской чете, которая практически удочерила ее. Стелла Иосифовна Аленикова-Волькенштейн, участница гражданской войны в Испании (она была переводчицей в интербригаде), преподавала испанский язык в Ленинградском университете. Услышав, что в Ленинград приехала девочка с Кубы, она сразу же связалась с Менией и предложила быть ее переводчицей и учить ее русскому. Ее муж, Михаил Владимирович, видный советский биофизик, был одной из ярчайших фигур в Ленинграде. «Разговоры с Волькенштейнами всегда велись о высоких материях – об искусстве, о книгах, о философии… среди прочего Рудольфа изумляло в Мении то, что она дружила с такой блестящей парой».
Вскоре и он подпал под их обаяние. Волькенштейны приглашали его на концерты и на ужины к себе домой (на фотографии того периода он сидит и не сводит взгляда с Михаила Владимировича, впитывая каждое слово). Именно с помощью Волькенштейнов они с Менией раздобыли билеты на концерт канадского пианиста Гленна Гульда, когда тот в 1957 г. приезжал с гастролями в Советский Союз. Признав в нем такого же независимого человека, как он сам, который жил музыкой, как он сам жил балетом, Рудольф получил неизгладимое впечатление. «Он [Гленн Гульд] интерпретирует Баха довольно странно; его исполнение не нравится многим критикам, – говорил он нью-йоркскому критику Уолтеру Терри двадцать лет спустя. – Но, боже мой! Какой титанический талант! Какой талант и врожденный динамизм!»
Дружба Рудольфа с Менией и увлечение Гленном Гульдом лишь подпитывали его интерес к внешнему миру: «Западное искусство, западная хореография, люди… он хотел путешествовать и все увидеть. Путешествовать и смотреть».
Он, бывало, разглядывал в календаре фотографии Марго Фонтейн и других артистов «Королевского балета», а также в номерах журнала The Dancing Times, которые присылала Мении ее английская знакомая. «Он хотел танцевать со всеми этими звездами. Он уже тогда решил уехать».
В самом деле, он строил такие планы. У Лео Ахонена тогда было два паспорта, так как срок первого скоро истекал; зная это, Рудольф как-то отвел соседа по комнате в сторону и попросил отдать ему тот паспорт, срок действия которого скоро истекал – Лео собирался его выбросить. «Он сказал: «Переклеим фото. Все сойдет хорошо, если мы будем держать язык за зубами», а я испугался и решил, что нас обоих отправят в Сибирь. Но я еще тогда понял, что он собирается сбежать. Когда он в самом деле сбежал, я не удивился».
В июне 1957 г. в студенческом спектакле Рудольф исполнял па-де-де Дианы и Актеона с необычайно одаренной Аллой Сизовой. Их танец не привлек особого внимания поклонников или критиков, зато знаменовал собой начало интенсивного сотрудничества с Пушкиным: «Я не мог терять ни секунды времени. Я должен был слышать все. Я должен был извлекать из него знания. Тогда по вечерам я готовил много партий самостоятельно. Я показывал их в классе и спрашивал: «Как мне делать тот или этот элемент, так или так?»
К тому времени его единственным соперником в училище оставался Юрий Соловьев, лучший студент из параллельного класса Бориса Шаврова, которого, благодаря его необычайно высокому прыжку, уже сравнивали с Нижинским. На Юрия Соловьева возлагали большие надежды, его обожали и преподаватели, и студенты. «Он был танцовщиком нашего типа, а у Рудольфа мы в то время учиться не могли, – вспоминает Лео. – Юрий был танцовщиком для танцовщиков – таким потом стал Миша Барышников: он танцевал как по учебнику, как было принято по методике Вагановой. Его исполнение было идеальным».
Серджиу, который не принадлежал к числу поклонников Соловьева, вспоминает, как радовался Рудольф, когда Серджиу признался, что красивое, но невыразительное лицо Юрия кажется ему «скучным, откровенно скучным». Трудно было не завидовать любимчику всего училища, однако при его мягком характере Юрия невозможно было не любить. Кроме того, и сам Рудольф безмерно восхищался техникой Соловьева. Необычайная элевация и академическая чистота исполнения были теми качествами, которые он сам так упорно стремился приобрести. Много лет спустя, в Лондоне, он говорил сентиментальным поклонникам: «Думаете, я хорош? Вы не видели Соловьева!»
Кроме Соловьева, Рудольф не благоговел ни перед кем из многочисленных ленинградских артистов балета. Константин Сергеев завершал карьеру «благородного танцовщика», а солисты, которые шли ему на смену – например, мужественный, спортивный Аскольд Макаров и Борис Брегвадзе, – по сути, были танцорами характерными. Кировский балет славился прежде всего своими балеринами – тот период был таким же богатым, как «золотой век» Ольги Спесивцевой и Анны Павловой. Тогда еще танцевали ветераны – вдохновенная Наталия Дудинская и Алла Шелест; Рудольф не пропускал ни одного спектакля с их участием. Из молодых звезд того времени можно назвать Ирину Колпакову, Аллу Осипенко и Нинель Кургапкину, а среди новых имен выпускниц училища блистали Алла Сизова и Наталья Макарова.
«В то время мужской балет в России был очень грубым: танцовщики не исполняли лирические комбинации. Считалось, что мужчина не может исполнять женские па, а я занимался именно этим. Мне не верили: мужчины в балете не должны были проявлять эмоции; они не имели права выражать негативные эмоции; мужское начало было всегда позитивным».
Если бы в труппе Театра имени Кирова еще танцевал кумир Рудольфа, Вахтанг Чабукиани, Нуреев, возможно, пошел бы по совершенно другому пути. Поскольку же он не видел образца для подражания среди мужчин, он начал сознательно перенимать технику балерин. Он делал такие откровенно женские элементы, как шпагат, высокие аттитюды, мягкие, выразительные пор-де-бра и – его самый дерзкий прием – подъем на высоких полупальцах, когда он как будто вставал на пуанты. Рудольф наверняка был на премьере «Спартака» Леонида Якобсона в 1956 г. и видел, что там балерины танцуют не на пуантах, а в сандалиях и встают на полупальцы. Традиционалисты сочли такое отступление анархией. Усвоив это новшество и введя высокое ретире в пируэтах (позже он говорил Барышникову, что видел его на снимках западных танцоров), Рудольф понял, что его ноги могут казаться гораздо длиннее, чем на самом деле. «То, что он как будто вытягивался и удлинял ноги, придавало его исполнению очень западный вид, – говорит Барышников. – В то время подобные вещи были неслыханными. Русские балетные танцовщики были массивными, крепкими, толстыми, на них очень повлияло бравурное исполнение Чабукиани. Мужчины были крупными».
«В училище среди мальчиков не принято было танцевать в женском стиле, – соглашается Маргарита Алфимова. – Рудольф учился у всех нас и стал очень пластичным. Он любил показывать женские партии, которые не сумел бы исполнить ни один другой мужчина».
Обладавший замечательной зрительной памятью, Рудольф знал репертуар балерин так же хорошо, как свой собственный. Когда десять лет спустя в училище поступил Барышников, там еще вспоминали, как Рудольф пользовался каждой возможностью, чтобы показать девушкам, как нужно исполнять вариации Петипа. Барышников вспоминал: «Перед занятиями, когда все уже были в классе и разогревались, он мог позволить себе исполнить вариацию Китри из первого акта «Дон Кихота» – всю, полностью, щегольски… И дело не в гомосексуальности… для него вариация Китри была просто еще одной возможностью танцевать; он вовсе не был мужчиной, который танцует женскую партию».
И на занятиях народным танцем с Игорем Бельским, одним из самых ярких представителей этого жанра, Рудольф тоже пробовал ломать барьеры.
«Часто ученики думают, что народные танцы в балете стоят на втором месте, но у меня сложилось впечатление, что Рудольф в самом деле хотел учиться. Для него это было очень важно. Он пытался приблизить народные танцы к чистой классической форме. Например, тандю в народном танце не должно быть вывернутым, а Рудольф стремился к большей выворотности. На уроках испанского танца Рудольф делал полный па-де-ша, когда все остальные делали лишь половинный. Он был максималистом: вот почему он часто бывал агрессивен с другими – он боялся потерять время».
Даже Пушкин, который специально стремился с раннего возраста вести своих учеников в том или ином направлении – «этого в романтически-лирическую сторону, того к виртуозности», – приходил в замешательство от «перекрестного опыления» стилей у Рудольфа. «Он, бывало, говорил: «Понятия не имею, какой ты танцовщик – характерный, классический или романтический?» Все потому, что я был хорош во всех направлениях». Но Пушкин давал ему свободу, свободу не только формировать себя, но и выбирать те роли, которые он хотел исполнять. Пушкин позволил Рудольфу остаться в училище еще на год, чтобы закрепить достигнутый им успех. Его результаты изумляли артистов, окончивших училище до него. Один из них, Анатолий Никифоров, вспоминает: «Он так изменился в 1958 г. От занятий с Пушкиным он получил в три раза больше, чем за все предыдущие годы. Когда однажды я встретил Александра Ивановича на улице Росси, я поздравил его с тем, что он добился такого успеха с Рудольфом, и он ответил: «Он талант!» – что было очень необычно. Раньше он почти никогда никого не хвалил».
Сам Рудольф к тому времени тоже знал себе цену. На новогоднем концерте 1958 г., где присутствовали Пушкин, Вера Костровицкая и многие ученики, он произнес тост в честь одной девушки, которой не удалось попасть в Театр имени Кирова, но она получила место в маленькой труппе в Сибири. «Подняв бокал за Инну Скидельскую, он сказал: «Пью за то, чтобы забрать Инну из Новосибирска», и, повернувшись к ее матери, он добавил: «Обещаю, что я помогу ей вернуться». – «Как ты собираешься это сделать?» – улыбнулась мать Инны. «Вот погодите, – ответил Рудольф. – Скоро весь мир узнает обо мне!»
В феврале, марте и апреле 1958 г. Рудольф исполнял сольные партии в студенческих спектаклях, поставленных по классике, – впервые он танцевал в костюме, перед зрителями, на сцене Театра имени Кирова. Серджиу Стефанеску до сих пор вспоминает его соло в «Щелкунчике»: «Это было технически сильно, и уже была видна разница между ним и остальными танцовщиками Кировского театра. У Рудольфа не было той пластики верхней части тела, какая была у Соловьева, движения рук, головы и торса не были такими отточенными, зато у него было гораздо больше свободы, чем у остальных, и он преодолевал больше расстояния. Он буквально летал!»
Именно его необычайная свобода ошеломила московских зрителей в апреле, во время Всесоюзного конкурса артистов балета – одного из самых серьезных смотров молодых талантов в истории балета XX в. Среди других конкурсантов можно назвать звездных выпускников училища Большого театра Владимира Васильева и Екатерину Максимову; ленинградца Юрия Соловьева, который выступал в паре с 18-летней Натальей Макаровой. Партнершей Рудольфа была Алла Сизова. Во второй вечер они произвели фурор своим па-де-де из «Корсара» (которое им пришлось исполнять на бис). Бледная, собранная Сизова – олицетворение прозрачности и ясности, свойственных Кировскому балету, – идеально оттеняла страстного, пылкого Нуреева. Как можно видеть из фильма о конкурсе, куда включили и номер Нуреева, техника и пластика у Рудольфа в то время были еще сырыми. «Он ломает привычные формы», – писали о нем тогда. Он действительно слишком размахивал руками и ногами, высоко поднимал плечи, но те, кто видел его собственными глазами, уверяют, что камера не уловила его мощи на сцене, камера не способна была передать того дикого удовольствия, какое давал ему танец.
Даже Васильев был поражен. Он тоже принадлежал к новому поколению советских танцовщиков и тоже стремился повысить роль танцовщика в балете и синтезировать в своем исполнении разные жанры. Васильев был поразительным виртуозом, способным исполнять по меньшей мере по двенадцать пируэтов за раз. В тот вечер он смотрел, как ленинградский конкурсант делает всего несколько вращений (Рудольф, по выражению Барышникова, «никогда не был пируэтчиком, как Васильев или Соловьев»), но его подъем на полупальцы ошеломил Васильева. «Я подумал: Господи! Этот парень в самом деле танцует на пуантах. Это было так красиво». С тех пор Васильев начал жертвовать количеством оборотов на низких полупуантах и копировать высокие полупальцы Рудольфа: «Он обладал совершенно другой эстетикой: гораздо красивее и чище». Поскольку сам Васильев не обладал идеальным для солиста телосложением, он с особым вниманием подметил, как положение ног Рудольфа зрительно удлиняет его ноги. «Это очень помогло Васильеву, – сказал Барышников. – Он «вытянулся» благодаря Рудольфу и никому другому».
После такого оглушительного успеха Большой театр немедленно предложил Рудольфу контракт, причем сразу на место солиста, что позволяло ему пропустить традиционное для молодых танцовщиков начало в кордебалете. Еще в одном московском театре оперы и балета, Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, ему обещали даже место ведущего солиста, но некоторая «провинциальность» этого театра и плотный гастрольный график не соблазнили Нуреева. Кроме того, до выпуска в Ленинграде оставалось два месяца; он ждал предложения со стороны Кировского театра. «Поэтому я… вернулся. Чтобы закончить обучение».
В то время Рудольф во многом соответствовал бравурному стилю Большого театра, которому всегда недоставало утонченности Кировского балета (можно сказать, что, как ленинградская школа отражалась в архитектурной точности и гармонии своего города, так и Большой театр впитал характерные черты шумной, возбужденной, беспорядочной Москвы). «В Москве так не учили, – писал Баланчин. – У них, в Москве, все больше по сцене бегали голые, этаким кандибобером, мускулы показывали. В Москве было больше акробатики. Это совсем не императорский стиль». Александра Данилова соглашается с ним: «Московский стиль… там всегда… искали одобрения галерки. По-моему, ленинградский стиль гораздо достойнее. В Ленинграде просто танцуют. Не играют на публику. У них хороший вкус… В ленинградских танцорах есть что-то королевское. Спокойствие и достоинство».
С другой стороны, тогда в Большом еще танцевала легендарная Галина Уланова, вдохновившая Прокофьева на создание «Ромео и Джульетты». По мнению Рудольфа, Уланова была «первой балериной в мире». Она сочетала изысканность и лиризм своей кировской подготовки с постижением внутреннего смысла своих ролей по методу Станиславского. Но она была исключением. Полностью погруженная в действие, воплощение русской души, Уланова, как ему казалось, была «неизменно неподкупной», в то время как остальные артисты не соответствовали статусу труппы национального достояния. «В училище мы невольно испытывали превосходство благодаря утонченности артистов Кировского балета, – заметил Серджиу Стефанеску. – Смотрите, как они двигаются! Смотрите, как они работают жестами!» Однажды Рудольф сказал мне: «Не делают много шума». Даже московские балетоманы были не такими образованными, и им легче было угодить, чем балетоманам в Ленинграде. Рудольф уже все решил: возможно, он и был прирожденным танцовщиком для Большого театра, но стремился он к Кировскому. «В Кировском театре все самое лучшее: авторы, постановщики… Большой практически никогда ничего не создавал… Все просто заимствовано… В результате у них был Голейзовский, у них был Лопухов, а у нас есть Баланчин».
После выпускного спектакля 19 июня 1958 г. Галина Пальшина, «обычно очень сдержанная» поклонница Кировского балета, записала в дневнике: «Потрясающее впечатление! Первый прыжок в «Корсаре» сильный и мягкий. Вариация Армена с факелами [«Гаянэ» Хачатуряна] с яростными, вертикальными поворотами. Наверное, завтра Нуреев проснется знаменитым и весь город будет знать его имя. В конце представления он вышел взволнованный, счастливый, смущенный. Волосы падали ему на глаза. Он держал в руках чемодан без ручки, который все время открывался, и скромный букет цветов».
Через два-три дня, идя по коридору, Наталия Дудинская, прима-балерина Театра имени Кирова, увидела Рудольфа, который с мрачным видом сидел на лестнице. «Рудик, что случилось? – воскликнула она. – Спектакль прошел так хорошо!» Балерина следила за успехами талантливого студента после того, как Пушкин однажды пригласил ее в студию, чтобы она посмотрела, как он исполняет па-де-де Дианы и Актеона, которое она сама в свое время танцевала с Чабукиани. «Я удивилась тому, как этот мальчик, еще даже не выпускник, чувствует и ощущает позы». В тот день Рудольф не признался Дудинской в том, что столкнулся с дилеммой. Он получил письмо с «письменной благодарностью» от администрации; ему сообщали, что его официально приняли в труппу Театра имени Кирова с заработной платой 1800 рублей в месяц. Но его брали в кордебалет, а в Большом его приглашали на должность солиста! Оттуда тоже писали и спрашивали, придет ли он к ним в труппу. Настало время, когда он должен был решать. И хотя даже сам Нижинский начал карьеру в Императорском балете отнюдь не солистом, Рудольф собирался создать прецедент. Он хвастал одноклассникам: «Вот увидите, вот увидите!» Присев рядом с ним, Дудинская сказала: «Я слышала, ты собираешься переехать в Москву. Не будь дураком! Не выбирай Большой – оставайся здесь, и мы будем танцевать с тобой вместе».
Рудольф сразу понял, что это «замечательная мысль». Хотя Дудинская в те годы находилась на излете своей карьеры, ее с постоянным партнером, Константином Сергеевым, считали национальным достоянием: «У нас был Медный всадник, Русский музей – и Дудинская и Сергеев». Рудольф боготворил Дудинскую с самого приезда в Ленинград. Он не только смотрел все спектакли с ее участием, но и изучал, как она репетирует с другими танцорами. «Тогда я понял, что я должен взять все возможное от всех возможных учителей». Если прима-балерина труппы выбирает в качестве нового партнера недавнего выпускника училища, это такое же событие, как когда Матильда Кшесинская, звезда Императорского балета и любовница Николая II, выбрала себе в партнеры 22-летнего Нижинского. «Совсем как в голливудском фильме, правда? – говорил потом Рудольф режиссеру Линдсею Андерсону. – Я ждал чего-то подобного»[4 - В документальном фильме Радика Кудоярова «Рудольф Нуреев. Украденное бессмертие» Дудинская утверждает, что все было иначе: «Это не я его просила, а он просил меня».].
На выпускном концерте в зрительном зале сидела жизнерадостная, стройная, как танцовщица, кареглазая Люба Романкова. Она очень волновалась, боясь, что Рудольф перегорит. В антракте их познакомила Е. М. Пажи, которая дружила с Любиной матерью. Ей очень хотелось, чтобы ее протеже общался со своими ровесниками за пределами училища. Поэтому Елизавета Михайловна попросила Любу пригласить Рудольфа на воскресный обед – как многие ленинградские семьи, Романковы держали открытый дом. «Наша культурная жизнь протекала дома. Но она не была похожа на салон – это была кухонная культура, когда люди сидели за столом, ели и разговаривали».
Через несколько недель, отметив многообещающий знак – Романковы жили на улице Чайковского, его любимого композитора, – Рудольф пришел в дом 63, когда-то величественное здание с высокими сводчатыми потолками, облупленными оштукатуренными стенами, украшенными белыми купидонами, и широкой кованой лестницей. В квартире Романковых на третьем этаже, с большими дровяными печами в каждой комнате, всегда толпились друзья и родственники. Три поколения семьи усаживались за большой полированный стол. Их окружали книги и фотографии; в доме всегда царила кутерьма. Рудольф тут же почувствовал себя непринужденно. «У нас были замечательные родители. Они всегда относились к нашим друзьям как к своим собственным».
Около трех подали типичный воскресный обед: щи, блины, соленые огурцы, котлеты с чесноком, вареную картошку, которую брали прямо из кастрюли, и сладкое грузинское вино.
Когда около семи гости начали расходиться, Люба и ее брат-близнец Леонид, также студент Политехнического института, пригласили Рудольфа еще посидеть и поговорить. Не менее симпатичный, чем сестра, хотя не такой общительный, Леонид отличался мягким характером, «деликатным, утонченным умом и щедрым сердцем». (Много лет спустя Рудольф признался одному общему знакомому, что Леонид, наверное, стал его первой любовью, хотя в то время он этого не понимал.) Они учились по призванию, занимались всевозможными видами спорта, посещали все последние выставки, фильмы, концерты и пьесы. Их можно назвать настоящими шестидесятниками – детьми хрущевской «оттепели». «То было опьяняющее время для российской молодежи. Перед нами была вся жизнь, и возможности казались безграничными». Застенчивый, немногословный Рудольф показался Любе и Леониду совершенно не похожим на всех, кого они знали. Они с самого начала заметили, что он не разделяет их интереса к политике: «Ни за что он не позволял вовлекать себя в политические споры… Единственным миром, который его интересовал, был мир исполнительского искусства».
В тот вечер они говорили о литературе и новой живописи, выставки которой в России больше не запрещались – о Пикассо, французских импрессионистах и любимом художнике Романковых, чувственном фовисте Кесе ван Донгене, хроникере роттердамского «квартала красных фонарей» и парижского бомонда. Увлеченные англофилы, которые тогда занимались английским с частным репетитором, близнецы Романковы немедленно заразили Рудольфа своим воодушевлением, и он решил тоже учить этот язык. Другие их увлечения, в том числе джаз, представляли для него меньше интереса: «Он был слишком погружен в классическую музыку. Его мир искусства существовал в девятнадцатом, а не в двадцатом веке». Близнецы же не разделяли его любви к Достоевскому – «непопулярному в нашей группе», – предпочитая произведения более современных западных писателей, которых они открывали для себя в журнале «Иностранная литература»: «Оглянись во гневе» Джона Осборна, произведения Хемингуэя, Фолкнера, Керуака и Стейнбека. В тот раз они заговорились до глубокой ночи.
Плененный этими двумя молодыми людьми со свежими взглядами на жизнь и учебу, Рудольф вдруг осознал, что его мир, до тех пор ограниченный одним балетом, необычайно расширился. В состоянии полной эйфории он вышел от новых друзей и вернулся на улицу Зодчего Росси.
Блаженство продолжилось на каникулах – студенты проводили их в Крыму, на даче хореографического училища. Рудольф держался в стороне от сокурсников. «Мы никогда не знали, где он». Он целыми днями принимал грязевые ванны или загорал на пляже. Потом произошла катастрофа. По возвращении в Ленинград его вызвали в кабинет директора и вручили следующее письмо:
«Нурееву Рудольфу Хаметовичу.
Администрация Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова сообщает, что по приказу Министерства культуры Союза Советских Социалистических Республик вы направляетесь в распоряжение Министерства культуры Башкирской Автономной Социалистической Республики, куда вы должны обратиться насчет вашей будущей работы.
[подпись] И. о. директора И. Глотов».
Уфимский театр оперы и балета потребовал его возвращения: Рудольф учился в Ленинграде на республиканскую стипендию. Руководство Кировского театра согласилось его отпустить. Маргарита Алфимова вспоминает, как Рудольф выбежал из кабинета, «плача и крича». Успокаивать его пришлось Пушкину; позже он вернулся на репетицию. «Тогда я впервые увидела его в слезах, – вспоминает Алла Сизова. – Он плакал по-настоящему и говорил: «Я не могу вернуться домой. Я не могу оставить Кировский театр. Я знаю, что в балете нет ничего лучше этого театра».
Глотов написал ответ в башкирское Министерство культуры, гарантируя, что Нуреев вернется «и будет в вашем распоряжении». Однако Рудольф не собирался подчиняться. Вскоре он прилетел в Москву и отправился прямиком в Министерство культуры, где его провели в кабинет какой-то чиновницы, которая сказала, что сделать ничего нельзя: он обязан исполнить свой долг перед государством. Рудольф возражал: но ведь можно сделать исключение! В конце концов, не каждый выпускник получает предложения стать солистом сразу в трех ведущих театрах страны! «Я говорил, что они совершают большую ошибку. Я был сам себе импресарио». Чиновница сурово повторила: сделать ничего нельзя. «Да будьте вы прокляты!» – воскликнул Рудольф, выбегая из кабинета (позже он очень радовался, узнав, что на следующий день после их встречи чиновницу из-за чего-то уволили). «Я плакал на тротуаре, а потом пошел в Большой, и они меня взяли. Сказали: «Собирайте вещи, и с сентября начнете работать».
Вернувшись в Ленинград, он начал собираться и прощаться с друзьями. Но вскоре ему передали записку, в которой ему приказывали немедленно явиться в театр. Борис Александрович Фенстер, главный балетмейстер Театра имени Кирова, добродушный человек сорока с небольшим лет, поразил его, сухо сказав: «Почему вы выставляете себя таким дураком? Распаковывайтесь и оставайтесь здесь, с нами». Оказалось, что Пушкин успешно ходатайствовал за Рудольфа. Нуреева не только взяли в труппу солистом, но в ноябре 1958 г. он дебютировал с Дудинской в «Лауренсии».
Сразу после выпуска Рудольф жил в рабочем общежитии в комнате на восемь человек. Все спали на койках, привинченных к стене, как полки. Теперь, однако, он услышал, что театр выделяет ему комнату в квартире на Ординарной улице в тихом, престижном Петроградском районе. Отдельная комната была неслыханной роскошью для многих ленинградцев, привыкших к коммунальным квартирам. Однако, узнав, что он должен жить в одной квартире с Аллой Сизовой, Рудольф пришел в ярость. Встретив Нинель Кургапкину, одну из своих любимых балерин, он воскликнул: «Нет, вы слышали?! Мне дают квартиру! С Сизовой! Думают, что я рано или поздно женюсь на ней! Ни за что!!!»
Хотя они идеально смотрелись на сцене, друзья уверяют, что в жизни «они терпеть друг друга не могли». Однажды Рудольф даже обозвал Сизову «еврейкой», что было не только грубо, но и неправдой[5 - Рудольфа очень осуждали на Западе из-за его антисемитских высказываний.]. В основном он не любил ее как исполнительницу – ему претила ее эмоциональная холодность. Ему казалось, что она эксплуатирует свой природный талант[6 - Техника давалась Сизовой настолько легко, что ей почти не нужно было работать. Когда они танцевали вместе, Рудольф часто нарочно испытывал ее, заставляя, например, в вариации из «Дон Кихота» заменять обычные одинарные фуэте итальянскими двойными.]. В конце концов ни Нуреев, ни Сизова так и не вселились в квартиру. Рудольф предпочел остаться в своем «пенале», который находился рядом с театром – до Ординарной улицы нужно было сорок минут ехать из центра на автобусе. Зато в общежитии можно было не тратить время на такие повседневные дела, как мытье посуды, уборка, готовка, покупка продуктов. Сизова по-прежнему жила у Натальи Камковой, своей учительницы, а в комнату вселились ее родители. В комнату же Рудольфа скоро въехала Роза, которой очень хотелось перебраться к брату в Ленинград.
Почти весь ноябрь шли репетиции «Лауренсии», балета, который Чабукиани, вдохновленный блестящей виртуозностью Дудинской, ставил специально для нее. Действие происходит в Испании, но сюжет можно назвать вполне «советским»: жених главной героини возглавляет крестьянское восстание против деспота-командора. В «Лауренсии» Чабукиани создал новый язык для танцовщика, придавая ему эмоциональности, смешивая бравурный классический танец с народными элементами, которые он привнес из своей родной Грузии. Именно такой сплав Рудольф всегда практиковал на занятиях народным танцем в училище.
Вечером 20 ноября театр бурлил от ожиданий. «Многие из нас помнили блестящего создателя Фрондосо, – сказала Фаина Рокхинд, поклонница Чабукиани, которая была вне себя от горя, когда тот покинул Ленинград. – Меня поражало, что Рудольф не копировал Чабукиани, который всегда был лидером и душой этого балета. Нет, он привнес элементы собственного темперамента и сделал своего персонажа более одиноким». Друзья в зрительном зале затаивали дыхание; на одно мгновение, когда Рудольф исполнял пируэт, держа партнершу одной рукой, многим показалось, что он ее уронит. «Но Дудинская обладала такой техникой, что удержалась». Перед самым выходом на сцену балерина велела Рудольфу думать только о себе, а не о ней. В конце концов, Лауренсия – ее самая популярная роль. Угадав это, одна критикесса напишет: «В своих дуэтах с Н. М. Дудинской Нуреев слишком сам по себе, забывая, что должен направлять страсть на Лауренсию, на нее и только на нее». Но большинству зрителей исполнение Рудольфа показалось потрясающим – овации после спектакля напоминали «извержение Везувия», хотя некоторые пуристы считали, что его кипучесть «нарушала изящество хореографии». Кое-кому не нравилась большая разница в возрасте солистов – Дудинская была на двадцать пять лет старше 21-летнего Нуреева. «Она была прима-балериной, чья карьера была на исходе; для нее честью было танцевать с ним», – заметил театральный критик Игорь Ступников, который помнил, как молча сидел в ложе и про себя призывал ее сделать печально знаменитую серию диагональных поворотов. «Одна знакомая рядом со мной прошептала: «В этот миг у нее в целом свете нет врагов».
Рудольф позволил Дудинской продлить жизнь на сцене – то же самое позже будет с Марго Фонтейн, – но он всегда считал себя ее должником. «Не только Пушкин повлиял на мои взгляды на балет. Дудинская подарила мне саму идею классицизма: музыкальность, напор, чувство остановки времени». У нее он усваивал то, чему нельзя научиться, например магию сцены и силу «блистать, делать зрелище». Как заметила балетный критик Элизабет Кей, она вела его к идеалу. «Это был идеал классицизма девятнадцатого века». Когда Анна Удальцова узнала, что в Уфе покажут сюжет про Рудольфа в «Лауренсии», она бросилась в кино, где, словно громом пораженная, смотрела на «неподражаемо хрупкого и бесстрашного испанца». Она сразу же написала Розе в Ленинград и предложила сразу же начать собирать вырезки о Рудольфе и его фотографии и наклеивать их в специальный альбом. «Раньше, когда я говорила о его таланте, надо мной смеялись и говорили: наверное, я влюбилась в него… [но] теперь весь мир свидетель тому, что было ясно для меня еще тогда… так дай ему Бог крепкого здоровья и железных нервов».
Вне сцены жизнь Рудольфа была такой же радостной. Простая дружба с Менией Мартинес перешла в роман; друзья замечали, как им хорошо вместе; они проявляли друг к другу демонстративную нежность. «То был для обоих первый опыт влюбленности. Хотя Рудольф всегда посмеивался над собой – он был очень гордым и не любил проявлять сентиментальность, – он, очевидно, очень радовался, что такая сказочная, сексуальная девушка дарит ему свою любовь».
Кроме того, он чувствовал себя уверенно и спокойно в обществе близнецов Романковых – «спортивников», как называли их они с Менией, потому что Романковы обожали спорт. Сначала стесняясь вступать в разговоры, которые могли разоблачить его провинциализм, Рудольф теперь не боялся своих друзей-интеллектуалов, «хотя Рудику, очевидно, было гораздо легче с нашей спортивной группой». По выходным он часто присоединялся к ним в Горской, на Финском заливе, где была дача у приятеля Любы по волейбольной команде. Тогда до России дошел рок-н-ролл, и однажды ночью они устроили состязание, в котором победила пара, где партнер оставил отпечатки ног партнерши на потолке. Рудольф с удовольствием показал паре шутников, которые высмеивали его щуплое телосложение, как поднять девушку высоко над головой, но он никогда не принимал участия в травмоопасных занятиях. Он предпочитал в одиночестве сидеть на пляже и смотреть, как молодые сумасброды валяют дурака. «Он был с нами и одновременно не с нами».
Однажды под вечер, когда солнце только начинало заходить, Рудольф отошел от группы друзей и спустился к воде. Он обнаруживал в себе почти непреодолимое влечение к природе, особенно к морю, которое на протяжении его жизни только росло. Он так долго не возвращался на дачу, что обеспокоенная Люба пошла его искать. Она не была влюблена в Рудольфа, но всегда чувствовала ответственность за него и следила, чтобы он не оставался в стороне. Когда она пришла на пляж, то увидела, что он стоит у кромки воды и смотрит на горизонт. «Рудик, что ты здесь делаешь? Тебя все ищут!» – «Ш-ш-ш! – прошептал он. – Смотри, какое все красивое…» Огромный красный шар солнца медленно тонул в заливе. Они дождались, пока солнце совсем не исчезнет и небо не потемнеет. «Мы развернулись и, не говоря ни слова, зашагали на дачу».
В конце 1959 г. Рудольф так сильно порвал связку на ноге, что ему пришлось лечь в больницу. Врачи говорили, что он не сможет танцевать два года. Когда Пушкин пришел его навестить, он увидел, что его ученик лежит на кровати в полном отчаянии. Тогда Александр Иванович пригласил Рудольфа поселиться в его квартире. После московского конкурса, когда неожиданный успех Рудольфа помог балетному миру осознать, какой Пушкин великий педагог, ученик и учитель еще больше сблизились. Взяв Рудольфа под крыло, супруги Пушкины считали его не столько учеником, сколько сыном. «Там, благодаря неусыпной заботе Пушкина и его жены и ежедневным визитам врача, через двадцать дней я смог вернуться в класс».
Пушкин и его жена, Ксения Юргенсон, 42-летняя балерина Кировского балета, чья карьера подходила к концу, жили на улице Зодчего Росси напротив училища в типичной советской коммунальной квартире с общей кухней и ванной. В их комнате площадью 25 квадратных метров летом было невыносимо жарко, потому что вдоль одной стены шла труба из расположенной внизу столовой. Но это неудобство с лихвой возмещалось культурной атмосферой, которую они создавали вокруг себя. «Здесь, дома у Пушкиных, Рудольф обрел не только санкт-петербургские традиции, но и домашнюю обстановку, и балетный университет – все в одном». Супруги Пушкины, у которых не было своих детей, славились своей добротой по отношению к ученикам. Когда у одного студента умер отец, именно Пушкины заботились о нем во время траура. А три раза в год – на день рождения Александра Ивановича, после выпускных экзаменов и в канун Нового года – Пушкины приглашали к себе домой весь класс. Ксения считала заботу об учениках мужа неотъемлемой частью своего супружеского долга; она штопала им носки, покупала на рынке самые свежие овощи и лучшие куски мяса, которые она превосходно готовила. «Вот что производило такое впечатление на мальчиков: ее вкус и стиль – и то, какие усилия она затрачивала ради них. Александр Иванович учил, а Ксения Иосифовна заботилась».
Кроме того, Ксения была по-своему прирожденным педагогом. Молодежь тянулась к ней; она подробно расспрашивала студентов об их семьях и жизни, что-то советовала, давала почитать книги и «ненавязчиво, никогда не подчеркивая их невежество», поощряла анализировать прочитанное. Когда застенчивая молодая сибирячка Галина Баранчукова приехала в Ленинград, Ксения сразу взяла ее под крыло, научив ее одеваться и ходить по магазинам: «Она подавала прекрасный пример, говоря, что всегда нужно покупать хорошие вещи, пусть даже они дороги, – бессмысленно иметь дешевые плохие вещи, – а учеников Александра Ивановича учила быть джентльменами. Когда Ксения Иосифовна входила в комнату из кухни, где готовила, она говорила мальчикам, которые сидели в ожидании ужина: «Ну, кто из вас уступит мне свой стул?»
Высокая, симпатичная блондинка, уроженка Прибалтики, Ксения казалась вдвое моложе мужа (хотя была моложе его на десять лет). Насколько Александр Иванович был одухотворенным и мягким, настолько она была по-житейски экстровертом. Однажды, вскоре после того, как Рудольф поселился в комнате Пушкиных на улице Зодчего Росси, они втроем пошли на улицу Чайковского на воскресный обед к Романковым, присоединившись к обычной группе, где среди гостей постарше были Елизавета и Вениамин Пажи. Когда ужин близился к завершению, Ксения, сидевшая рядом с Рудольфом, взяла банан, медленно очистила его, сунула в рот и, смеясь, наклонилась к Рудольфу и что-то прошептала ему на ухо. Явно смущенный, Рудольф ответил ей одним словом. Людмила Романкова, мать Любы и Леонида, сидела близко и слышала, что он ответил. Она была шокирована: молодой человек не может называть дурой женщину гораздо старше себя! Дождавшись, пока гости уйдут, она сказала дочери: «По-моему, у Ксении интимная связь с Рудиком». – «Мама! – возразила Люба, – как ты можешь такое подумать?!» В ее глазах Ксения была «старухой». Но потом, наблюдая их вместе в течение нескольких недель, Люба начала понимать, что ее мать, возможно, была права.
Глава 3
Ксения и Мения
Когда Ксения влюбилась в Пушкина, она была студенткой хореографического училища. Александр Иванович был ее педагогом по классу па-де-де. Поскольку отношения между студентами и педагогами строго запрещались, влюбленные тайно встречались за пределами училища – «она вечно бегала по каким-то комнатам, где встречалась с ним». Как только Ксения окончила училище, они поженились. Шел 1937 год. «Ксюше», как называл ее Пушкин, было двадцать, он же был ровно на десять лет старше. После скромной свадьбы молодые провели медовый месяц на Украине. Они были красивой парой: оба загорелые, с великолепными фигурами, стильно одетые. Пушкин носил тюбетейку, скрывавшую редеющие волосы, и одевался эксцентрично – в полосатые, как пижама, шелковые рубашки или белые фланелевые брюки и такую же рубашку. Ксения, дочь петербургского кутюрье, прекрасно ориентировалась в мире моды: ей шли и белые гольфы с туфлями на высоком каблуке, и платки, которые она изящно повязывала вокруг головы, и украшения. Она не стеснялась носить раздельный купальник. Ослепительную улыбку подчеркивали белые бусы. Ее жизнерадостность и чувство юмора были заразительными. Тем летом она и ее «Сашенька» играли, как подростки, лежа на мелководье или исполняя поддержки из их класса па-де-де. Стоя босиком на пляже, педагог поднимал свою юную жену высоко над головой, а она выгибала спину и встряхивала волосами, и они каскадом падали на спину, как у Риты Хейворт.
После выпуска Ксению взяли танцовщицей в Малый театр, но с помощью Пушкина ей удалось на следующий год перевестись в кордебалет Театра имени Кирова. У нее был хороший прыжок, и время от времени ей поручали заметные роли, например, роль одного из двух «больших лебедей» в «Лебедином озере». Но, поскольку Ксения была необычно высокой для балерины, она так и не перешла в следующий ранг «корифеев». Тем не менее к работе она подходила ответственно, целыми днями проводила в классе, готовясь к новой роли, часто под руководством мужа. Дома они менялись ролями. Дома руководила Ксения, обладавшая устрашающе сильным характером. Как вспоминал ближайший друг Пушкина Дмитрий Филатов: «Он был очень скромным человеком, она была мотором. Ксения Иосифовна очень поддерживала его; она старалась помочь ему, уберечь его, потому что многие пользовались его мягким, добрым характером и часто обижали его. Александр Иванович был учителем от Бога, но его никогда не представляли к наградам, потому что он был таким застенчивым: если хочешь медали и награды, нужно быть пробивным».